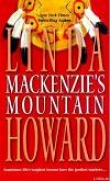Текст книги "Прелестные создания"
Автор книги: Трейси Шевалье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
«Она готова к тому, что он сделает ей предложение», – подумала я. Уставившись в скатерть – бледно-желтую ткань, расшитую по краям нашей покойной матерью, а теперь усыпанную крошками, – я вознесла короткую молитву, прося у Бога помощи в начинаниях моей сестры. Подняв глаза, я встретилась со взглядом Луизы. Вероятно, в моих глазах грусть соперничала с надеждой. Я и прежде посылала Богу много молитв, которые оставались без ответа, и порой задумывалась, слышал ли Он то, о чем я Его прошу, или пропускал мои просьбы мимо Своих ушей?
Маргарет продолжала еженедельно вальсировать с Джеймсом Футом, и мы продолжали выслушивать ее восторженные замечания о нем за завтраком, обедом, чаем и ужином, на прогулках и даже по вечерам, когда пытались читать. Наконец нам с Луизой пришло в голову проводить Маргарет на очередной бал, чтобы иметь возможность увидеть его самолично.
Я нашла его весьма симпатичным с виду, более даже, чем ожидала, – хотя почему бы нашему графству не производить на свет привлекательных мужчин, ничем не уступающих жителям Лондона? Он был высок и строен, и все в нем было аккуратно и элегантно, начиная с недавно стриженных волнистых волос и кончая бледными, тонкими руками. На нем был прекрасный шоколадно-коричневый фрак – того же цвета, что и его глаза. Фрак этот выглядел просто великолепно на фоне бледно-зеленого платья Маргарет, что, должно быть, и было причиной, по которой она теперь его постоянно носила. Она настояла на том, чтобы я обшила ее платье темно-зеленой лентой у талии, а также помогла свернуть ей тюрбан с перьями соответствующей окраски. Что говорить, со времени появления Джеймса Фута в Лайме она стала даже еще больше носиться со своими туалетами, покупая новые перчатки, отбеливая свои бальные туфли, чтобы удалить потертости на подошвах, отправляя письма нашей невестке с просьбами прислать ей что-нибудь новенькое и модное из Лондона. Мы с Луизой не особенно беспокоились о своей одежде, выбирая ткани на платья с приглушенными тонами (Луиза – темно-синие и зеленые, а я – лиловые или серые), но мы были счастливы, когда могли позволить Маргарет побаловать себя тканями пастельных тонов и с цветочными узорами. И если денег хватало только на одно новое платье, мы настаивали на том, чтобы оно досталось ей. Теперь, глядя на свою сестру, я радовалась, потому что она выглядела просто прелестно, танцуя с Джеймсом Футом в своем зеленом бальном платье и с перьями в волосах. Наблюдая за ними, я была очень довольна.
Луиза не вполне разделяла мои чувства. В Курзале она не сказала мне ни слова, но позже, когда мы оказались дома и уже готовились ко сну, оставив Маргарет танцевать и положившись на заверение наших друзей, что они проводят ее домой, Луиза, повернувшись ко мне, объявила:
– Он слишком много заботится о своем внешнем виде.
Я надвинула ночной чепчик на лоб и забралась в постель.
– Маргарет тоже заботится о своей внешности. Кажется, это нормально. Или ты так не считаешь?
Хотя было слишком поздно, чтобы читать, я не задувала свечу, но смотрела, как трепещут паутинки на потолке в горячем дуновении, поднимающемся над пламенем.
– Дело не в том, как он одевается, хотя это и отражает его наклонности, – сказала Луиза. – Мне кажется, что он слишком правильный.
– Но и мы такие же, – возразила я.
Луиза задула свечу.
Я понимала, что она имеет в виду. Я почувствовала это, как только Джеймс Фут был мне представлен. Он был обходительным, открытым и светским молодым человеком. Я поймала себя на том, что стараюсь отвечать на его расспросы как можно вежливее. Когда мы разговаривали, его глаза скользнули по вырезу моего далеко не нового фиолетового платья и я почувствовала, как некое подобие осуждения, возникнув в его голове, было на время отложено, но не забыто. В свое время он извлечет это мимолетное впечатление из своей памяти и займется его обдумыванием. Я вполне могла себе представить, как он, выбрав подходящий момент, говорит своей сестре:
– Элизабет Филпот совсем не следит за модой. Ты обратила внимание, как она одевается?
Ради блага Маргарет я пыталась и выглядеть, и вести себя надлежащим образом, когда однажды Джеймс Фут навестил нас в коттедже Морли. Сам Джеймс Фут тоже был очень любезен. Он попросил Луизу показать ему сад и, обнаружив, что у нее нет гортензий, обещал прислать ей черенки. Она не стала говорить ему, что терпеть не может гортензий. Он не упустил случая осмотреть мою коллекцию и проявил гораздо большую осведомленность об окаменелостях, нежели Генри Хоуст Хенли. Предложив мне съездить в Айп, находившийся дальше по побережью, неподалеку от Бридпорта, чтобы поискать там офиуры или хрупкие морские звезды, он добавил, что рад будет увидеть меня на своей ферме. Я, со своей стороны, не расспрашивала о его находках так подробно, как мне того хотелось, но, напротив, позволила ему самому вести разговор, и в тот раз все было очень мило.
После его ухода Маргарет пребывала в таком оцепенении, что мы повели ее купаться в море, надеясь, что шок от холодной воды приведет ее в чувство. Пока она плескалась, мы с Луизой стояли на берегу. Передвижную купальню мы подтащили к самому берегу, и Маргарет плавала в свое удовольствие. Раз или два мы мельком видели то взмах ее руки, то слышали плеск воды.
Мои глаза обшаривали гальку, хотя я не ожидала найти какие-либо окаменелости среди кусков песчаника.
– Полагаю, его визит прошел вполне успешно, – высказалась я, понимая, со сколь малым воодушевлением это прозвучало.
– Он на ней не женится, – сказала Луиза.
– Почему же? Она ничем не хуже любой другой молодой девицы.
– У нее нет приданого. Маргарет принесла бы в их дом мало денег. Возможно, это для него не имеет значения, но без приданого брак вряд ли будет удачным. К тому же у нее есть сестры.
– Но мы сегодня хорошо справились, разве нет? Говорили с ним о тех вещах, что были для него интересны, были покладисты, но не слишком умны. И он очень долго пробыл с тобой в саду!
– Однако мы с ним не флиртовали.
– Конечно нет – это, благодарение Богу, мы можем предоставить Маргарет!
Я понимала, что она имеет в виду. Сестрам полагается затевать с поклонником своей сестры искрометные разговоры, подпуская немного интимности. Какое бы поведение с Джеймсом Футом от меня ни ожидалось, я проявила себя скорее неловкой и скованной, нежели радушной родственницей. Скорее всего, он будет избегать общения со мной, что меня, честно говоря, не особо тревожило, потому что это так утомительно – осторожничать и следить за собой, чтобы доставить удовольствие незнакомому джентльмену. Проведя чуть более года в Лайме, я стала ценить ту свободу, которой могла располагать там старая дева без каких-либо родственников-мужчин поблизости. Это уже казалось мне более нормальным, чем двадцать пять лет полной условностей жизни в Лондоне.
Маргарет, конечно, чувствовала по-другому. Я наблюдала за ней, когда она на мгновение показалась из-за кабинки плывущей на спине, а руки ее пошевеливались по сторонам, словно водоросли. Она, должно быть, смотрела в розовеющее послеполуденное небо и думала о Джеймсе Футе. Я вздрогнула от тревоги за нее.
Возможно, ради Маргарет мне удалось бы обуздать свое поведение и приучить себя проводить свой досуг с Джеймсом Футом. Несколькими неделями позже, однако, у меня случилась с ним знаменательная встреча на пляже, которая перечеркнула все мои усилия быть всего-навсего благовоспитанной и кроткой сестрой.
Ричард Эннинг только что сделал для своей дочери особый горный молоток, похожий на ледоруб. Мэри очень хотелось показать мне, как с его помощью можно крошить камни, чтобы извлекать оттуда кристаллизованные аммониты, а иногда рыбные чешуйки. Я не говорила ей, что никогда прежде не держала в руке молотка, но она, должно быть, поняла это, когда увидела мои неудачные попытки взмахнуть им. Она не делала никаких комментариев, просто поправляла меня, пока у меня не стало получаться лучше, – удивительно терпеливая маленькая учительница.
Хотя выдался ясный сентябрьский день, холодный бриз напоминал мне, что осень уже не за горами. Я стояла на коленях, нанося резкие удары вдоль края плоского камня. Мэри склонялась надо мной, наблюдая и подсказывая, как добиться лучших результатов.
– Так, мисс Элизабет. Не слишком сильно, иначе он расколется неправильно. Теперь отбейте этот кусочек с краю, чтобы можно было его прислонить и держать ровно. Ой! Вы поранились, мэм?
Молоток соскользнул и ударил по кончику моего указательного пальца. Я сунула его в рот, чтобы пососать и унять жалящую боль.
В это мгновение я услышала, как хрустит галька у меня за спиной, и совершила ошибку – обернулась на этот звук, по-прежнему держа палец во рту. Джеймс Фут стоял неподалеку от меня, глядя на меня сверху вниз с необычайно вежливым выражением лица. Я выдернула палец изо рта и вспыхнула от стыда.
Джеймс Фут протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Пока я с трудом вставала на ноги, Мэри попятилась.
– Я просто разбивала этот камень, чтобы посмотреть, нет ли в нем аммонитов, – объяснила я.
Однако взгляд Джеймса Фута был устремлен не на камень. Он неотрывно смотрел на мои перчатки. Чтобы защитить руки от холода и иссушающей глины, я часто носила перчатки, как в любом случае полагается даме на открытом воздухе, какой бы ни была погода. Во время первых вылазок за окаменелостями я привела в негодность несколько пар, запятнав их глиной голубого лейаса и морской водой. Теперь у меня была пара, отложенная для работы на пляже, лайковые перчатки цвета слоновой кости, замаранные и задубевшие от воды, с отрезанными пальцами, чтобы легче было работать. Выглядели они странно и довольно некрасиво, но были весьма полезны. У меня была при себе и более респектабельная пара перчаток, которую я могла натянуть при случае, но Джеймс Фут не дал мне на это времени.
Сам он был прекрасно одет в двубортный темно-красный фрак с отполированными серебряными пуговицами и коричневым бархатным воротником. Его собственные перчатки были соответственного коричневого цвета. А сапоги для верховой езды сияли так, словно грязь не смела к ним приближаться.
В это мгновение я призналась себе, что мне не нравится этот Джеймс Фут с его чистыми сапогами, с его воротником и подобранными в тон фрака перчатками, с его осуждающим вежливым взглядом. Казалось, он, как и все, полагал, что не женское это дело – руки марать! Я никогда не стала бы доверять человеку, который столько внимания уделяет своей одежде. Мне он не нравился, и, подозреваю, я тоже не нравилась ему, хотя он был чересчур уж вежлив, чтобы это показать.
Я стиснула руки у себя за спиной, чтобы ему не приходилось и дальше пялиться на мои, оскорбительные для его взора, перчатки.
– Где же ваш конь, сэр? – Я не могла придумать ничего лучше этого вопроса.
– В Чармуте. Грум доставит его в Колуэй-Мэнор. Я решил пройти последний отрезок пути по пляжу, ведь здесь так чудесно дышится.
Из-за спины Джеймса Фута мне махала рукой Мэри. Перехватив мой взгляд, она энергично потерла свою щеку. Я нахмурилась, не понимая, что она имела в виду.
– Что вы сегодня нашли? – спросил Джеймс Фут.
Я замялась. Показывать ему, что у меня есть, означало бы снова представить ему на обозрение мои руки.
– Мэри, принеси корзинку и покажи мистеру Футу, что мы нашли. Мэри очень много всего знает об окаменелостях, – добавила я, когда та поднесла корзину к Джеймсу Футу и вытащила камень в форме сердечка со впечатанным в него изящным узором из пяти лепестков.
– Это морской еж, сэр, – сказала Мэри. – А вот коготь дьявола. – Она протянула перед собой двустворчатую ракушку в форме когтя. – Но лучше всех – вот этот белемнит, самый большой из всех, что я когда-либо видела. – Мэри подняла прекрасно сохранившийся белемнит длиной по меньшей мере в четыре дюйма и шириной в дюйм, с кончиком идеально конической формы.
Джеймс Фут посмотрел на него и густо покраснел. Я не могла понять почему, пока Мэри не захихикала.
– Прямо как у моего брата…
– Достаточно, Мэри. – Мне удалось вовремя ее перебить. – Убери его, пожалуйста – Я тоже покраснела. Мне хотелось что-нибудь сказать, но извинения только бы все ухудшили. Уверена, что Джеймс Фут решил, что я нарочно все подстроила, чтобы поставить его в неловкое положение. – Вы будете сегодня на танцах в Курзале? – спросила я.
– Думаю, да, если только у лорда Хенли не будет для меня других планов.
Обычно Джеймс Фут очень определенно говорил о том, что намерен и чего не намерен делать, но теперь у меня было такое чувство, что он оставляет себе немного пространства для отступления. Я догадывалась о причине, но, чтобы удостовериться полностью, сказала:
– Я передам Маргарет, чтобы она вас там поискала.
– Я приду, если смогу. Передайте, пожалуйста, мое глубочайшее почтение вашим сестрам. – Он поклонился и зашагал вниз по направлению к Лайму.
Глядя, как он огибает лужицу среди камней, я негромко сказала:
– Он никогда на ней не женится.
– Мэм? – У Мэри Эннинг был озадаченный вид.
И теперь она называла меня мэм. Старая дева или нет, но я, очевидно, переросла обращение «мисс». Девиц обычно называют «мисс», когда у них еще есть шанс выйти замуж.
– Ничего, Мэри. – Я повернулась к ней. – Что ты хотела сказать мне, когда приплясывала и терла лицо, словно тебя ужалили?
– Вы испачкали щеку, мисс Элизабет, вот и все. Я подумала, что вам бы лучше стереть эту грязь, чтобы тот джентльмен так на вас не глазел.
Я ощупала щеку.
– Боже, еще и это? – Достав платок, я поплевала на него, а потом стала смеяться.
В тот день Джеймс Фут в Курзале не появился. Маргарет была разочарована, но не встревожилась вплоть до следующего дня, когда он прислал сообщение, не доставив его лично, что его вызвали в Суффолк по каким-то семейным делам и что он будет отсутствовать несколько недель.
– Какие еще семейные дела? – набросилась Маргарет на несчастную посыльную – одну из многочисленных кузин лорда Хенли. – Он ничего не говорил мне о родственниках в Суффолке!
Она тосковала и изыскивала причины, чтобы навещать родственников Хенли, которые ничем не могли ей помочь. Я сомневалась, что Джеймс Фут рассказал им, почему он порвал с Маргарет, – или, по крайней мере, надеялась, что он не особо распространялся о моем белемните. Он был в достаточной мере джентльменом, чтобы не упоминать о таких вещах. Но должно быть, для домочадцев лорда Хенли было вполне понятно, что мы для него не были подходящей семьей, из которой он мог бы взять себе жену.
Маргарет продолжала посещать балы и карточные вечера, но утратила весь свой блеск, и когда я ходила туда вместе с ней, то чувствовала, что она успела упасть с верхней ступеньки социальной лестницы, на которую взбиралась. Пренебрежение со стороны джентльмена, оправданно оно или нет, наносит молодой даме моральный ущерб. Маргарет уже не приглашали на каждый танец, а комплименты по поводу ее платья, прически и цвета лица стали менее частыми. Ко времени окончания сезона она выглядела усталой и сильно потускневшей. Пытаясь ее развеселить, мы с Луизой на несколько недель возили ее в Лондон, но Маргарет сама понимала: что-то в ее жизни переменилось. Она упустила свою возможность выйти замуж и не знала, почему это с ней приключилось.
Я никогда не рассказывала ей о своей встрече с Джеймсом Футом на пляже. Возможно, Маргарет обрела бы некоторое облегчение, узнав, что в решение Джеймса Фута прекратить ухаживания за ней внесла свой вклад моя эксцентричность. Но при этом она бы почувствовала, что даже если бы я бросила свои окаменелости и купила себе новые перчатки, этого было бы недостаточно. Мужчина выбирает жену, подвергая ее семью сложным измерениям; требуется нечто большее, чем наличие странных сестер, чтобы отказаться от этих сложных умозаключений. Джеймс Фут решил, что у семейства Филпот нет ни денег на приданое, ни общественного положения. Мои запятнанные перчатки и наводящая на определенные мысли форма найденной тогда на пляже окаменелости только подтвердили то, что и так уже было решено.
Я переживала за Маргарет, но не сожалела о том, что Джеймс Фут от нас отступился. У меня было подозрение, что он всегда смотрел бы на меня так, словно у меня были испачканы перчатки. А если он столь строго судил меня, то как бы он впоследствии судил мою сестру? Не высосал ли бы он из нее все жизненные соки? Я не перенесла бы, если бы моя сестра вышла замуж за такого человека.
Годы спустя я наткнулась на Джеймса Фута в Колуэй-Мэноре. У Маргарет всегда разыгрывалась головная боль, когда нас приглашали названые вечера, и из верности ей мы с Луизой без нее никуда не ходили. Но однажды, когда ради Мэри Эннинг мне надо было обсудить с лордом Хенли кое-какое дело касательно окаменелостей, я, уже уходя, столкнулась с Джеймсом Футом и его женой. Она была маленькой и бледной и дрожала как осиновый листок. Тогда я поняла, что Маргарет, вполне возможно, была спасена именно от такой незавидной судьбы.
Лето с Джеймсом Футом было взлетом чувственной жизни Маргарет. В следующем сезоне с ней обращались как с вышедшим из моды платьем, слегка пахнувшим нафталином. Нас удивило, что подобное происшествие могло случиться в Лайме с такой же легкостью, что и в Лондоне, однако мы мало что могли сделать, чтобы это изменить. Маргарет сохраняла своих старых друзей и поклонников, заводила новых из числа летних посетителей, но без толку. Она больше не возвращалась домой по ночам с искрящимися глазами, не танцевала в кухне. Со временем ее тюрбаны стали казаться не столь смелыми, как прежде. Она не сумела найти себе мужа и принялась жить жизнью старой девы рядом со своими сестрами, с Луизой и мною.
Нам не приходило в голову ее жалеть. Бывают судьбы и хуже.
3
…И найди то, не знаю что
Не помню, чтобы были такие дни, когда я не выходила бы на взморье. Мама, бывало, говорила, что, когда я родилась, окно было открыто и первым, что я увидела, когда меня подняли с кроватки, оказалось море. Наш дом на Кокмойл-сквер своей черной лестницей выходил на взморье, рядом с Пушечным утесом, так что как только я научилась ходить, то стала играть на прибрежных скалах вместе с моим братом Джо, который был старше меня всего на несколько лет, но присматривал за мной, чтобы я случайно не утонула. Там бывало много других посетителей, которые, в зависимости от времени года, прогуливались к Коббу, смотрели на корабли или выезжали в море на передвижных купальнях, напоминавших мне ватерклозеты на колесах. Некоторые отправлялись купаться даже в ноябре. Мы с Джо смеялись над этими горе-купальщиками, потому что они выходили мокрыми, замерзшими и жалкими, как окунутые в воду коты, но притворялись, что им это нравится.
У меня на протяжении многих лет происходила своеобразная борьба с морем. Даже мне, для которой час начала прилива или отлива так же естественны, как биение собственного сердца, случалось увлечься поисками антиков и оказаться отрезанной подбирающимся морем, и тогда приходилось добираться до берега вброд или лезть по утесам, чтобы попасть домой. Однако я никогда не купалась намеренно, в отличие от лондонских дам, приезжающих в Лайм, чтобы поправить здоровье. Я всегда предпочитала твердую почву, а не воду. Я благодарна морю за то, что оно дает мне для пропитания рыбу, а также вымывает окаменелости из утесов или в шторм выбрасывает их на берег с морского дна. Без волн, плещущих в высокие утесы, останки допотопных тварей навсегда остались бы укрытыми толщей песка или известняка, я не смогла бы их найти и у нас не было бы денег на еду и жилье.
Сколько себя помню, я всегда искала антики. Папа брал меня с собой и показывал, где искать, говорил, как они называются, – позвонки, когти дьявола, змеи святой Хильды, безоары, чертовы пальцы, морские лилии. Довольно скоро я научилась охотиться за ними сама. Даже когда отправляешься на охоту с кем-то другим, то не все время идешь с ним рядом. Невозможно смотреть на мир чужими глазами, надо пользоваться собственными, смотреть по-своему. Двое могут смотреть на одни и те же камни и видеть совершенно разное. Одному покажется, что перед ним просто кусок сланца, а другому – морской еж. Когда я ребенком ходила с папой, он находил позвонки в тех местах, которые я уже обследовала. «Смотри, – говорил он тогда и поднимал какую-нибудь окаменелость, лежавшую прямо у моих ног. Потом смеялся и восклицал: – Надо смотреть внимательнее, девочка!» Меня это не беспокоило, потому что он был моим отцом и, само собой, должен был находить больше окаменелостей, чем я, и учить меня, что делать. Превосходить его в умении я не собиралась.
Для меня искать антики – все равно что отправляться на поиски неизведанного, непонятного, ведь никогда не знаешь заранее, что именно найдешь: дело не в том, насколько внимательно ты смотришь, а в том, что смотреть надо не так, как все, по-особому. Обычно я хожу туда-сюда вдоль берега, как по лужайке, заросшей клевером, позволяя глазам бездумно скользить над камнями, и тогда выскакивают прямые линии белемнита, или полосатые метки и изгиб аммонита, или прожилка кости на гладком песчанике. Узор находки четко обозначен и улавливается зрением почти автоматически, меж тем как все остальное остается в беспорядке.
Все охотятся по-разному. Мисс Элизабет изучает поверхность утеса, уступы и камни так усердно, что боишься, как бы у нее не заболела голова. Она тоже кое-что находит, но для этого ей требуется гораздо больше усилий, чем мне. У нее нет такого зрения, как у меня.
У моего брата Джо, когда он охотился, опять-таки был иной подход, а мой способ он терпеть не мог. Он на три года старше меня, но когда мы были маленькими, можно было подумать, что он старше меня на много-много лет. Он походил на медлительного, серьезного и осторожного карлика, который просто ростом не вышел. Наша работа состояла в том, чтобы находить антики и приносить их папе, хотя иногда мы занимались и их очисткой, если отец был слишком занят в столярке. Джо не любил выходить в ветреную погоду. Однако антики он находил. Он был хорош в этом деле, пусть даже и не хотел им заниматься всерьез. У него была удивительная зоркость. Его способ состоял в том, чтобы выбрать участок берега, мысленно разбить его на квадраты и медленно обходить каждый квадрат скалы и утеса. Он находил больше, чем я, но я чаще находила необычные окаменелости, крокодильи ребра и зубы, безоаровые камни и морских ежей, то, чего не ожидаешь найти.
Папа охотился с помощью длинного шеста, которым тыкал среди камней, чтобы ему не приходилось нагибаться. Он научился этому у мистера Крукшенкса, своего друга, который первым просветил отца насчет антиков. Он бросился с Пушечного утеса позади нашего дома, когда мне было всего три года. Папа сказал, что у него было слишком много долгов и даже антики не могли поправить его положение. Не скажу, чтобы папа чему-то научился на ошибке мистера Крукшенкса. Папа всегда мечтал найти скелет допотопного чудища, который позволил бы расплатиться со всеми нашими долгами. Многие годы мы находили зубы, и позвонки, и то, что мы полагали ребрами, а также забавные маленькие костяные ромбики, похожие на зерна пшеницы, и другие кости того животного, о котором мы не могли думать иначе, как об огромном звере вроде африканского крокодила. Однажды, когда я чистила для мисс Элизабет антики, она показала мне рисунок такого крокодила. У нее была книга со множеством рисунков всех древних животных и их скелетов, которую написал один француз по фамилии Кювье.
Папа охотился реже, чем мы, потому что ему надо было заниматься изготовлением шкафчиков, однако он тоже выходил на берег, как только предоставлялась такая возможность. Антики ему нравились больше, чем шкафы, и это огорчало маму, потому что заработок от продажи окаменелостей был непредсказуемым, а поиски уводили его далеко от Кокмойл-сквер и от семьи. Наверное, она подозревала, что он предпочитает пребывание в одиночестве на берегу, чем в доме, полном орущих детей. Мама никогда не выходила на пляж, разве только чтобы строго отчитать папу, если он отправлялся туда в воскресенье и пропускал воскресную службу. Но это его не останавливало, хотя он и согласился не брать с собой на берег по воскресеньям меня и Джо.
Кроме нас в окрестностях был всего один торговец антиками: престарелый трактирщик Уильям Локк, который работал в «Куинз-армз» в Чармуте, где кучера дилижансов, курсировавших между Лондоном и Эксетером, меняли лошадей. Уильям Локк обнаружил, что может продавать окаменелости пассажирам, пока они разминают ноги и озираются по сторонам. Поскольку окаменелости считались антиквариатом, или антиками, в округе его прозвали Адмиралом Антиком. Хотя он находил и продавал антики многие годы – дольше даже, чем папа, – при нем никогда не было молотка: он поднимал то, что лежало прямо под рукой, или же выкапывал окаменелости небольшой лопатой, которую носил с собой. Он был грязным старикашкой, бросавшим на меня странные взгляды. Я его сторонилась.
Время от времени мы видели Адмирала Антика на пляже, но, помимо нас, на берегу не было других охотников за антиками, пока в Лайм не приехала мисс Элизабет. По большей части я отправлялась на поиски с Джо или с отцом. Но иногда выходила на пляж и с Фанни Миллер. Она была моей ровесницей и жила чуть выше по реке, протекающей через Лайм, за ткацкой фабрикой, в районе, который мы называли Джерико. Отец ее был дровосеком, у которого папа покупал древесину, мать работала на фабрике, и Миллеры, как и мы, были прихожанами конгрегационалистской церкви на Кумб-стрит. В Лайме было полно нонконформистов, хотя там имелась и обычная церковь Святого Михаила, священник которой не оставлял попыток переманить нас обратно. Но мы, Эннинги, туда не ходили – гордились тем, что мыслим иначе, чем приверженцы традиционной англиканской церкви, пусть даже я не могла определенно сказать, в чем состоят различия.
Фанни была хорошенькой – маленькой, хрупкой, белокурой, – и я завидовала ее голубым глазам. Мы часто потихоньку играли с ней во время воскресных служб, когда становилось скучно, и, бывало, бегали вверх и вниз по реке, гоняясь за корабликами, которые делали из дощечек и листьев, или собирали водяной кресс. Хотя Фанни всегда предпочитала реку, иногда она бродила со мной по пляжу между Лаймом и Чармутом, но никогда не заходила дальше Блэк-Вена – ей качалось, что этот утес выглядит зловеще и с него ей на голову могут посыпаться камни. Мы строили замки из песка или искали в скальных пластах крошечных моллюсков, которых у нас называли лягушатами. В то же время я не упускала из виду и антики, так что для меня это никогда не было просто игрой.
Фанни любила красивые вещицы: куски матового кварца, полосатые камушки с вкраплениями пирита. Она называла их своими драгоценностями. И с удовольствием находила эти сокровища, но никогда не прикасалась к древним аммикам и белликам, хотя и знала, что они мне нужны. Она их боялась. «Мне они не нравятся», – говорила она с содроганием, причем никогда не объясняла толком почему; разве что, если я на нее нажимала, лепетала что-нибудь вроде: «Они противные» или «Мама говорит, что их разбросали злые волшебники». По ее словам, морской еж – это хлеб волшебников, и если положить его на полку, то молоко скиснет. А я рассказала ей, как учил меня папа: мол, аммики – это змеи, лишившиеся голов, беллики – молнии, которые сбрасывает на землю Бог, ну а грифеи – когти самого дьявола. Это испугало ее еще больше. Я-то понимала, что это всего лишь досужие россказни. Если бы дьявол потерял столько когтей, то у него должно было быть множество рук и ног. Ну а если бы из молнии могло получиться столько белликов, то ей пришлось бы длиться целый день. Но Фанни не могла представить себе такого, и ее никак не оставлял страх. Мне очень часто приходилось встречать таких же людей – боящихся того, чего они не понимают.
Но я любила Фанни, потому что в те времена она была единственной настоящей моей подругой. Нашу семью в Лайме не очень-то жаловали: интерес отца к окаменелостям представлялся людям странным. Даже маме, хотя она всегда защищала его, если слышала всякие толки о нем на городском рынке или возле церкви.
Но с Фанни мы расстались. Она так и не стала моей подругой, как бы много красивых камней ни приносила я ей со взморья. Дело было не только в том, что Миллеры с подозрительностью относились к окаменелостям, – с той же подозрительностью они относились и ко мне, особенно после того, как я стала помогать сестрам Филпот, над которыми подтрунивали все в городе: мол, настолько уж капризны эти лондонские дамочки, что не в состоянии выйти замуж даже в Лайме. Фанни ни за что не пошла бы со мной, если бы я отправилась на взморье с мисс Элизабет. Она все больше и больше злила меня, отпуская замечания насчет костлявого лица мисс Элизабет и дурацких тюрбанов мисс Маргарет, при этом указывая на то, что и у самой меня башмаки дырявые и под ногтями – глина. Я начала обижаться на нее. Подруги так не поступают.
Потом, когда однажды мы таки пошли с ней вдоль берега, Фанни была настолько угрюмой и замкнутой, что я, в отместку за такое ее настроение, позволила прибою отрезать нас от берега. Когда мы увидели, что последняя полоска песка перед утесом исчезла под пенящейся волной, Фанни принялась плакать. «Что нам теперь делать?» – рыдая, повторяла она снова и снова.
Я наблюдала за этим, не испытывая никакого желания ее утешить. «Можно пойти через воду вброд или взобраться к тропе на утесе, – сказала я. – Выбирай!» Что до меня, то мне совсем не хотелось идти вброд четверть мили вдоль утеса к тому мысу, где на возвышенности начинался город. Вода была холодной, море ходило ходуном, а я не умела плавать, но ей об этом не сказала. Фанни с испугом глазела и на пенящееся море, и на крутой подъем перед нами. «Что мне выбрать? – взвизгнула она. – Я не могу решить!»
Я дала ей еще немного поплакать, а потом повела вверх по тропе, подталкивая и таща ее до самого верха, туда, где проходит мощеная дорожка между Чармутом и Лаймом. Как только Фанни пришла в себя, она перестала смотреть в мою сторону, а когда мы приблизились к городу, бросилась бежать, а я и не попыталась ее догнать. Я никогда ни с кем не бывала жестока, и мне не нравилось то, как я поступила. Но именно тогда во мне зародилось чувство, которое никогда меня позже не покидало: чувство, что в Лайме я не вполне принадлежу к тому кругу людей, к которому мне следует принадлежать. Когда бы я ни сталкивалась с Фанни – в церкви, на Брод-стрит, у реки, – ее большие голубые глаза становились жесткими, как лед, покрывающий лужи, и, прикрывая рот ладонью, она что-то говорила обо мне своим новым подругам. Я чувствовала себя почти изгоем.