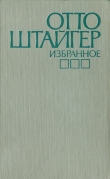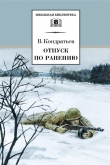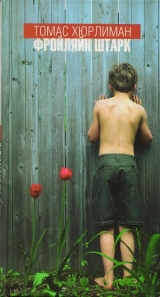
Текст книги "Фройляйн Штарк"
Автор книги: Томас Хюрлиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
21
Зимой земля была как железо, а болото как камень, но Йозеф Кац, произведенный в почтальоны, и в эту пору, когда все, забыв об осторожности, ходили кому как заблагорассудится, предпочитал держаться летних маршрутов, деревянных мостков и переходов. В морозно-солнечный январский день это, конечно, выглядело смешно: дети с криками носились по льду, а юный почтальон со своей тяжелой сумкой терял кучу времени на длинные обходные пути, не желая срезать углы. Чокнутый, говорили дети, ясное дело – чужак, неместный. Однако скоро они заметили, что привычка почтальона ходить всегда одними и теми же путями оборачивается пользой для всех. Если многие местные из страха заблудиться или угодить на тающую льдину иногда отказывались от каких – нибудь срочных дел, Йозеф Кац уверенно шагал через молочное варево, он всегда точно знал дорогу, у него всегда была под ногами твердая почва. Благодаря ему письма доходили и в туманные дни, и, конечно же, бравый письмоносец не отказывался время от времени объединить свою почтовую службу с маленькими услугами своим согражданам – отвести больную корову на живодерню, доставить детвору в школу, а как-то раз одна прекрасная вдова вручила ему свою челюсть, чтобы он сдал ее в Уцнахе в ремонт. Через три дня, когда он вернулся с ее заштопанными зубами, вдова вставила челюсть в рот, блеснула новой улыбкой и сказала:
– Поцелуй меня, Кац.
На следующий день в кармане у него лежало письмо, в котором вдова, судя по всему, располагавшая определенными связями, напоминала соответствующей организации о том, что Кацу было обещано опекунство над его несовершеннолетними братьями и сестрами. Письмо возымело свое действие. Воспитатель сиротского приюта заявил, что четверых из шести каценят он может забрать хоть сейчас.
– Как четверых? – испугался Кац. – Мне нужны все шестеро!
– Ну, по этому вопросу тебе надо обратиться к церковному начальству, – ответил воспитатель.
Однако нигде: ни в местной церкви, ни в расположенном неподалеку монастыре Вурмсбах – никто не мог сказать Йозефу ничего вразумительного о пропавших малышах. Чтобы разыскать их, ему пришлось еще не раз ложиться в постель вдовы, целовать ее, стараясь не думать об искусственной челюсти, любить ее. Но куда бы вдова ни писала, ни одна канцелярия не могла помочь Йозефу: его маленькие брат с сестрой бесследно исчезли. Он не сдавался, спрашивал то там, то здесь, писал в разные инстанции, и, похоже, Йозеф Кац, мой дед, до самой смерти не прекратил поисков своих давно уже выросших и ставших ему совершенно чужими брата и сестры.
Еще до наступления лета и очередного нашествия полчищ комаров юный опекун со своими подопечными покинул равнину. В деревне Кальтбрунн у перевала Риккенпас Йозефа, несмотря на его возраст – ему тогда не было и семнадцати, – назначили начальником почтового отделения. Позже он в письменной форме высказал подозрение, что на прежнем месте начальство решило от него избавиться: кому-то очень действовали на нервы его упрямые поиски брата и сестры.
Как бы то ни было, странствия каценят продолжались: они погрузили свои пожитки на тележку и потащились в Кальтбрунн. На новом месте дела у них пошли неплохо. Йозеф готовил почту, а братья и сестры разносили ее. Закончив школу, два старших брата пошли работать на текстильную фабрику «Цельвегер», а Йозеф уволился с почты, чтобы подготовиться к поступлению в университет, на юридический факультет. Он, правда, не испытывал ни малейшего интереса к юридическим наукам, но решил изучить законы, на основании которых у него отняли брата с сестрой. Ему понадобилось всего шесть семестров, чтобы получить диплом. Братья, работавшие у Цельвегера, пошли в гору: один занимался тканями, другой рисовал для них узоры.
В один прекрасный день из Польши пришла телеграмма: «Цельвегер погиб на дуэли». Молодая вдова, урожденная Зингер, обратилась за помощью и под держкой к братьям Кацам, но те посоветовали ей держаться их старшего брата Йозефа, свежеиспеченного юриста. Через три месяца вдова вышла за Каца-старшего замуж. Братья настаивали, чтобы на вывеске фирмы фамилия Кац стояла перед фамилией Цельвегер. Йозеф сопротивлялся, не желал и слышать об этом, и когда он в конце концов сдался и велел обновить вывеску на крыше, было уже поздно: Кацы навсегда рассорились. Один сел на пароход и уплыл в Манилу, другой подался куда-то на восток, в какой-то город в Галиции, где в качестве портного гибнущей кайзеровско-королевской армии угодил в русский плен и таким образом оказался в тех самых, необъятных просторах, не имеющих конца и края.
Опечаленный Йозеф остался в Кальтбрунне. Из шести братьев и сестер он потерял четверых-двоих в сиротском приюте, двоих из-за ссоры; две оставшиеся сестры все больше становились ему в тягость. У обеих отрастали угрожающе огромные носы, которые словно стремились соединиться с бегущим подбородком. Йозеф уже похоронил надежду когда-нибудь выдать замуж этаких красавиц!
Перед мировой войной, в августе 1913 года, появился на свет Якобус, первый ребенок фабрикантши, и, судя по всему, его отцу, Йозефу Кацу, очень нравилось фотографироваться с женой и сыном. Когда он во второй раз стал отцом, в 1926 году, его страсть к фотографированию резко возросла. Маленькую сестру Якобуса звали Тереза, ее жизненные вехи иллюстрирует бесчисленное множество снимков: крещение, первый школьный день, первое причастие. На всех снимках счастливые лица. Нормальная, крепкая семья: отец, мать, бойкий мальчик, прелестная девочка, по обыкновению в белом шелковом платьице, и две длинные тощие тетки в очках. Все прекрасно, все хорошо – если бы только не эти проклятые носы!
22
Когда я возвращал прочитанные или просмотренные книги, брошюры, подшивки газет или документы, на столе дежурного библиотекаря уже лежали новые материалы, отчасти заказанные мной, отчасти подобранные для меня ассистентами, работавшими в скриптории – им импонировало мое читательское рвение. Дядюшкин заместитель Шторхенбайн, как раз заведовавший скрипторием, был заядлый весельчак и любитель фривольных анекдотов, которые полушепотом рассказывал коллегам. Он всегда вызывал у своих подчиненных приступ веселья и ироничное хрюканье, обращаясь ко мне сладчайшим голосом:
– К вашим услугам, nepos praefecti! Чего прикажете?
Мне нравился Шторхенбайн, он хорошо относился ко мне.
– Всего доброго, господин Шторхенбайн! Большое спасибо!
Неделя близилась к концу, солнце клонилось к закату. Как и каждый вечер, нашей последней посетительницей и сегодня была Вечерняя Красавица. Почему она появлялась с таким постоянством, никто не знал, и, как мне кажется, никто никогда не заговаривал с ней. Она уже стала чем-то вроде инвентаря, она была нашими сумерками. Она скользила на своих войлочных подошвах, как звезда фигурного катания, по тихо поскрипывающему льду паркета, выписывая круги, вычерчивая изящные фигуры, порхая и паря в воздухе, почти не замечаемая нашими смотрителями, тень среди теней, пока перед ней не вырастала фройляйн Штарк и, уперев руки в бока, не обрывала ее полет:
– Библиотека закрыта!
Она произносила эту фразу каждый вечер, и каждый вечер, застыв в проеме двери, как херувим у сада Эдемского, провожала строгим взором удаляющуюся по коридору последнюю посетительницу, за которой тянулся нежный шлейф аромата (она пахла лепестками роз). Я ставил башмаки Вечерней Красавицы к остальным лаптям, и мои батальоны замирали в строю до утра, носками к стене, пятками к коридору.
Фройляйн Штарк, дождавшись, когда та исчезнет, закрывала дверь на задвижку, и только после этого я решался медленно поднять глаза на грозную экономку, скользя взглядом по ее ногам, маленькому животику и груди. Она же, словно чувствуя мое упоение ароматом розовых лепестков, обдавала меня сверху ледяным холодом своих глаз. «Что с него взять? – казалось, думала она. – Кац есть Кац. Кому что, а вшивому – баня».
23
По-прежнему приходили автобусы, по – прежнему к нам заглядывали молодожены, а теперь, с началом нового учебного года. в монастырской библиотеке после августовского затишья наступила лучшая пора. Непрерывным потоком шли студенческие группы и школьные классы; каждые два-три дня на меня устремлялась кучка японцев, которые сами молча брали по паре башмаков и, поклонившись, один за другим, как альпинисты в связке, шли внутрь, где так же, гуськом, переходили от одной витрины к другой, от «Песни о Нибелунгах» (рукопись В) к египетской мумии. Иногда народу было столько, что даже старцу швейцару приходилось пробуждаться и сопровождать ту или иную группу от Средневековья к барокко, от восточной стороны (со шкафами DD-QQ) к западной (СС-РР). Фройляйн Штарк тоже вынуждена была время от времени выполнять тяжелую миссию. Дядюшка обучил ее кое-каким крохам латыни, и теперь не кому – нибудь, а именно неграмотной фройляйн Штарк доверялось встречать на вокзале прибывающих со всех концов света ученых и провожать их в дядюшкин кабинет.
– Venite, librorum amatores, hoc est praefecti nostri tabularium! Следуйте за мной, господа книголюбы, я провожу вас в кабинет нашего шефа!
Я, конечно, усваивал все эти латинские присказки гораздо легче и точнее, чем наша аппенцельская горянка, но, во-первых, я был незаменим на своей башмачной службе, во-вторых, я больше годился на роль гида, сопровождающего группу школьников, чем дряхлый швейцар с трясущейся головой, который путал века и эпохи. Позаботившись о том, чтобы все надели лапти, я поднимал правую руку и изрекал дядюшкиным медоточивым тоном:
– Дорогие школьники из прекрасного Нидербиппа, что под Золотурном! В начале было Слово, затем библиотека, и лишь на третьем и последнем месте стоим мы, люди и вещи. Nomina ante res!
– Nomina ante res, вначале слова! – повторял я.
Голубые глазки, белокурые косички – все это было несерьезно. Я жестом приглашал их внутрь, потом затянутой в шелковую перчатку рукой брал за локоть учительницу и просил еще раз взглянуть вверх, на надпись над дверью в зал.
– Диодорус Сицилус, – шепотом пояснял я. – Первый век ante Christem natum.
– Чего?..
Дура! Но тут уж ничего не поделаешь, таков печальный жребий экскурсовода, работающего в дядюшкином стиле. Либо тебя мучают невежды, «не хватающие звезд с неба», либо – что еще хуже! – всезнайки. Последние – это настоящее наказание! И должен признаться: мне не раз выпадало на долю это наказание. Всезнайку узнаешь сразу, по взгляду, точнее, по затуманенным скукой, совершенно равнодушным глазам его супруги, которую он тащит на буксире, как один японец тащит за собой другого. Едва переступив порог зала, всезнайка сразу же начинает размахивать руками и показывает вверх, на умирающую Цецилию, отмечает положение ног, комментирует цвет крови, потом спрашивает, кто ее изобразил – «Если не ошибаюсь, Стефано Мадерно, не правда ли?»; я отвечаю: «Совершенно верно», после чего всезнайка, чуть не лопаясь от гордости, заявляет:
– Кажется, в 1599 году, верно?
– Именно в 1599 году, господин доктор.
– Ну вот, видишь, Эльфрида, я еще кое – что помню! – с довольным видом произносит всезнайка и тащит свою смертельно утомленную супругу к витринам, где продолжает потрясать ее воображение глубиной и разносторонностью своих знаний.
– Так, а тут у нас что? Ага! «Laus tibi Christe», рукописная секвенция ко Дню поминовения невинно убиенных младенцев, сочиненная санкт-галленским монахом Ноткером, прозванным Ноткером Бальбулюсом – Ноткером Губастым, – если не ошибаюсь, между 840 и 912 годами?
Bref: у всех нас было дел по горло, все работали с полной отдачей сил; жара не спадала, новых жалоб, к моей радости, судя по всему, не поступало – я, разумеется, после первого скандала многому научился и стал осторожней, хитрей и искусней в обращении с дамами.
Фройляйн Штарк часто готовила обед или ужин сразу для нескольких гостей, ученых со всего света, которым хранитель библиотеки пел под лютню латинские стихи, Овидия или Горация, собственноручно положенные на музыку, что отмечалось восторженными аплодисментами. Удостаивалась похвалы и фройляйн Штарк, прежде всего за свои коронные рыбные блюда, а однажды какой-то американец, уроженец Риги по имени Джон Аннус, даже покинул общее застолье, прихватив со стола две бутылки, перешел на кухню, где и вылакал всё фешй до последней капли вместе с хихикающей, как школьница, фройляйн (последнее обстоятельство особенно удивило дядюшку).
Лето достигло зенита, и в эти солнечные жаркие дни, когда по утрам в монастырских переходах уже чувствовалось прохладное дыхание приближающейся осени, мне все чаще казалось, будто из какого-то далекого будущего ко мне все ближе подбирается темная фигура в рясе – семинарист, который в один прекрасный день, в первый четверг октября (дата моего поступления в монастырскую школу), настигнет меня, проникнет в мою кровь и плоть и в конце концов полностью заменит меня собой. Но пока что было лето, во всяком случае с девяти часов утра. Дожди еще не начались, но я уже боялся этого черного призрака, боялся и ненавидел его, тем более что в моем представлении он с каждым днем приобретал все более конкретные черты: он был уже не только в черной рясе, но и в черных вязаных носках. Его не остановишь, думал я, он шагает по трупам, во всяком случае, через мой труп он перешагнет не моргнув глазом.
24
Перед диваном стояли лакированные туфли с квадратными серебряными пряжками, дядюшка возлежал на подушках и, сдвинув очки на могучий лоб мыслителя, следил за передвижениями отца-пустынножителя, блуждающего по воображаемому небесному граду. Когда мы читали, мы почти не разговаривали друг с другом, но стоило одному из нас поднять глаза, как другой тоже – почти одновременно – отрывался от книги, поднимал левую бровь и прислушивался к звукам, доносившимся из столовой.
Это было субботним вечером, закончилась нелегкая рабочая неделя, мы славно потрудились: автобус за автобусом – молодожены, школьные классы, туристы, и всем непременно нужно было в барочный зал, к рукописям, книгам.
– Господа, это святая Цецилия, это Аброганс, вот Туотило, вот «Песнь о Нибелунгах», а в этих богато орнаментированных, почерневших от времени и от солнечных лучей деревянных ящичках хранится седьмая книга тридцатишеститомного издания «Дао дэ цзин», написанного древним китайским философом Лао-цзы.
– Около 600 года до Рождества Христова, если не ошибаюсь? – конечно же, спрашивает Всезнайка и, конечно же, не ошибается, он никогда не ошибается.
Я киваю, его супруга смотрит в пустоту, караван идет дальше, от витрины к витрине, от Средневековья к барокко, от восточной стороны (DD-QQ) к западной (СС-РР).
Дядюшка вдруг поднимает голову и говорит:
– Неделя была довольно утомительной. К тому же, как сказано у Шиллера, твои «златые дни в Аранхуэсе пришли к концу»: монастырская школа уже встает над горизонтом зловещим призраком, поэтому, дорогой мой nepos, я намерен вывести тебя завтра в свет и приобщить к жизни настоящих джентльменов.
Тихо потрескивают крохотные огоньки оплывших свеч. Мы настороженно прислушиваемся: в столовой опять слышно звяканье спиц – клике-ди-клик. Она все вяжет, пару за парой, черное шерстяное «тесто» заполняет мой чемодан и вот-вот потечет через край.
– Но это, конечно, между нами, хорошо?
– Конечно, дядя.
И вот воскресным вечером мы в прекрасном настроении идем Монастырским переулком в «Портер», любимый дядюшкин ресторан. Для него, разглагольствует он по дороге, город навсегда остался в Средневековье, и Монастырский переулок – это сплошная клоака, клоака в буквальном смысле слова: здесь рекой льются зачумленные зловонные сточные воды, кровь из живодерни, помои из кухонь, отходы красильщиков, кожевенников и хирургов. Обычным делом было также выливать в переулок содержимое ночных горшков – то и дело на мостовую шлепалось дерьмо; вонь стояла до небес. Поэтому только плебеи, то есть простолюдины, вкушают земную пищу на цокольном этаже.
– Смекаешь, nepos? Никогда не опускаться до цокольного этажа!
– Никогда!
– Белые люди трапезничают наверху! Уразумел?
– Уразумел, дядя.
Никто не выливал в переулок содержимого ночных горшков, дерьмо не шлепалось на мостовую; стоял летний вечер, такой тихий, что можно было даже расслышать жужжание троллейбусов на привокзальной улице. Рассказывал ли дядя когда-нибудь о своей жизни? О своих тревогах и радостях? Мне кажется, нет. Все это для него не имело никакого значения, было недостойно его; он, хранитель монастырской библиотеки, говорил о Канте или Гегеле и не упускал случая поделиться своей мудростью с племянником. В то время как я еще переваривал жуткие картины Средневековья, представляя себе насквозь пропитанный зловонием Монастырский переулок, он уже перешел к следующей теме.
– Ты знаешь, кто такой Блаженный Августин?
– Кто же его не знает? – с улыбкой ответил я.
Его слова о том, что умереть нужно если не победителем, то хотя бы борцом, висели у нас на стене в скриптории.
– Для Августина, – сказал дядюшка, – не существовало настоящего времени. Мы живем либо в прошлом, говорил он, либо в будущем, ибо, когда ты произносишь «сейчас», это «сейчас» уже ускакало от тебя, ускакало, ускакало!
Он проиллюстрировал мысль Блаженного Августина несколькими прыжками, так что какая-то молодая парочка, попавшаяся нам навстречу, испуганно отпрянула к стене, с удивлением глядя на скачущего прелата. Хорошо, допустим, наставления по поводу Средневековья мне были понятны – он библиотекарь и живет в давно канувших в Лету эпохах и царствах. Но к чему он рассказал мне про Блаженного Августина? Может, это скрытая похвала? Может, он тем самым советовал мне и впредь заниматься прошлым, исследовать жизнь в прошедшем времени? Или наоборот? Не означают ли его прыжки, что «сейчас» все же существует? Я не забыл тень под лестницей, на которой я стоял, засовывая обратно толстый том, и дядюшкино безмолвное исчезновение в лабиринте шкафов и стеллажей. Во мне вдруг шевельнулось подозрение, что любезное дядюшкино приглашение в ресторан могло быть своего рода подкупом, типично дядюшкиной попыткой разрешить маленький конфликт между нами, даже не упомянув о нем. Как я должен был истолковать его прыжки – как поощрение или как упрек?
Что мне надлежало сделать – оставить в покое каценят или, наоборот, копать эту историю еще глубже? Он тем временем исчез за углом, парочка вытаращилась на меня, я смущенно снял кепку и, слегка поклонившись, поспешил вслед за ним.
25
Мимо двух первоклассных, но расположенных в цокольном этаже ресторанов мы прошли, презрительно сморщив носы, и поднялись, как и положено белым людям, по пропахшей вином и жиром лестнице на второй этаж, где, по словам дядюшки, можно от души покутить за толстыми, освинцованными окнами-витражами.
– В старом добром «Портере», – возвестил он, остановившись на верхней ступеньке, – нам не страшна никакая клоака. Обслуживание здесь на высоте, хозяин – джентльмен, а кухня превосходна, id est: [13]13
То есть (лат.).
[Закрыть]pulcher et speciosus.
Хотя мой нос говорил мне, что этот расположенный во втором этаже «Портер» вместе со своим хозяином и горсткой постоянных посетителей давно уже скатился на уровень обычного кабака, я, разумеется, поспешил согласиться с ним.
– Да благословит Господь всех присутствующих! – произнес дядюшка, переступив порог зала, передал свою широкополую прелатскую шляпу подоспевшему шаркающей походкой хозяину и уселся на свое привычное место.
Это был странный вечер. Дядюшкины собутыльники приняли меня приветливо, а хозяин, внушавший страх своей пиратской щетиной, налитыми кровью глазами и фиолетовым пористым носом, с преувеличенной любезностью осведомился, чего я желаю откушать.
– Прелатов вкус я знаю, – прибавил он, ухмыльнувшись. – Жареные свиные колбаски.
– Совершенно верно, – подтвердил дядюшка. – Я их люблю больше всего!
– Значит, одну колбаску, – пропел хозяин. – А чего прикажет молодой господин?
– Мне то же, что и дядюшке!
– Бяраво-браво! – одобрительно загудела компания.
Затем все дружно, со стуком сдвинули стеклянные кружки, запрокинули головы назад, и пиво с бульканьем полилось в глотки. Этот процесс повторялся еще много раз, сначала почти беспрерывно, потом с промежутками, и каждый раз, когда они почти одновременно с грохотом опускали на стол осушенные кружки, к ним тут же подшаркивал хозяин с новой порцией пива на подносе и с невинным видом вопрошал, кто платит на этот раз.
– Praefectus librorum! – хором отвечали господа.
Дядюшка при этом откидывался на спинку стула и принимал это славословие величественно-небрежным жестом правой руки, щедро унизанной кольцами.
Тем временем хозяин подал жареные колбаски, и даже от дядюшки, далекого от нашего предметно-плотского мира, не ускользнул кисловатый дух, исходивший от них. Тщетно попытавшись перепилить резиновую оболочку своего любимого блюда, он откинулся на спинку и произнес с улыбкой:
– Ну что ж, последуем примеру нашего коллеги Витгенштейна, [14]14
Людвиг Витгенштейн (1889–1951) – австрийский философ.
[Закрыть]который однажды сказал: «Мне все равно, что есть, – лишь бы это каждый день было одно и то же».
Компания разразилась хохотом.
– Дядя, мне обязательно нужно это съесть? – спросил я тихо.
– Да, – ответил он, – разумеется. Реально существует лишь Слово, из чего следует, что плоть, в том числе и мясо, лежащее на тарелке, в сущности, лишена реальности. Bene sit tibi cena, nepos! Приятного аппетита!
Мне хотелось спросить, как это возможно, что колбаска, которую ты как раз изо всех сил стараешься разжевать, лишена реальности? Но я промолчал и сосредоточил внимание на колбаске. Дядюшка, запив последний кусок пивом, положил свои унизанные кольцами руки справа и слева от тарелки и, возведя глаза к потолку, заявил:
– Портер, это было превосходно!
– Speciosus, – прибавил я, чем вызвал взрыв хохота.
Я рассмеялся вместе со всеми, и дядюшкин однокашник Хассан, подмигнув мне, сказал дядюшке:
– Старина, твой nepos – отличный парень, наш человек!
Над стойкой висел на цепях желтый, цвета мочи щит с рекламой пива, а над нашим столом парила в голубоватых клубах дыма лампа, струившая маслянистый свет на лысины старых бражников, некогда доблестных воинов студенческих корпораций. Их старые раны на бритых щеках, полученные в студенческих драках и наспех залатанные прямо на поле сражения, были похожи на белых пауков, и хотя эти битвы произошли тысячу лет назад, в их далекой юности, задолго до войны – у одного в Гейдельберге, у другого Марбурге, – они с таким возбуждением говорили о своих ранах, как будто врач, оказавший им помощь, только что ушел.
Очередной взрыв хохота. Очередная партия пива.
– Кто платит? – спрашивал хозяин.
– Praefectus librorum! – хором отвечали господа однокашники, и унизанная кольцами рука прелата привычно благословляла пирующих, а заодно и буйно пенящееся пиво.
Управившись с колбаской, я почувствовал себя уверенней и веселей. Поскольку мне в скором времени предстояло отправиться в айнзидельнскую монастырскую школу, они величали меня Студиозусом и позволяли время от времени поднять вместе со всеми маленькую кружку с пивом. Чин-чин!
– До дна! – хором восклицала компания.
– Молодец, Студиозус! – хвалил меня Хассан. – Ты, я смотрю, парень хоть куда! Наш человек!
– Ура!
И вновь звон сдвигаемых кружек, вновь головы запрокидываются назад; хозяин уже спешит с новой порцией. Чин-чин! Не отставай, Студиозус! Что за вечер, что за ночь!
– Монастырская школа – это кузница кадров, – объяснял Тассо Бирри, вышедший на пенсию учитель гимназии. – Там отделяют плевелы от пшеницы. Выживают лучшие. Вернее, сильнейшие, – поправился он и, подмигнув, указал на меня и себя. – Твердые, как крупповская сталь, живучие, как кошки.
Взрыв хохота. Я, правда, пока еще ни одним глазом не видел далекого, расположенного высоко в горах монастыря, но охотно согласился с учителем, который когда-то учил мою маму. Тот, кто не ударил в грязь лицом в «Портере», тот настоящий мужчина, рубаха-парень, их человек!
– До дна!
– Кто платит?
– Praefectus librorum!
От горделивой радости своей причастности к веселой компании я готов был расцеловать кафельные плитки на стене в туалете. Все было замечательно, так легко и просто. Когда я, качаясь, вернулся за стол, меня встретили одобрительными ухмылками.
Около десяти веселье резко пошло на убыль. Они по очереди несли какую-то чушь; речь шла сначала о полиомиелите, потом все задались вопросом, что же это такое – детский паралич: кара Божья или скорее милость, дарованная Богом во избавление человека от грехов, особенно нарушения седьмой заповеди. В конце концов Бирри, все более активно претендовавший на роль председательствующего, воскликнул:
– Если господин хранитель библиотеки утверждает, будто на борту его книжного ковчега есть все слова, то он ошибается!
– Нет, не ошибается! – откликнулся дядюшка.
– Нет, ошибается!
– Нет, не ошибается! На борту книжного ковчега есть все, от Аристотеля до ящура! Спорим?
– Спорим!
– На что?.
– На пиво!
– Порукам!
– Итак, – спрашивает дядюшка, – какое же слово или понятие отсутствует в нашей библиотеке?
– Толченый жид!
Оглушительный хохот, к которому присоединяется и хозяин.
– Портер, пиво на всех! Кац платит! – кричит Тассо Бирри.
Пока хозяин подает пиво, они со всех сторон наперебой объясняют мне, что такое «толченый жид» – это что-то вроде паштета, который намазывается на хлеб и в котором больше жира, чем мяса, вполне съедобная штука, во всяком случае питательная.
– «Толченый жид» – это была главная еда наших пехотинцев в войну, – с гордостью сообщил Бирри.
Вскоре после этого их черепа начали клониться на грудь, даже господин Хадубранд, который до этого не привлекал моего внимания, мед ленно опустил голову и так неотрывно уставился выпученными глазами в свою кружку, что, казалось, он собирается извергнуть в нее содержимое желудка. Однако, когда у стола появился хозяин, толстый Хадубранд вдруг ожил, его правая рука потянулась к заднице Портера и принялась мять ее, как пластилин. Портер словно не замечал этого. Он только сказал:
– У нее сегодня выходной.
– Выход ной? У кого сегодня выход ной?
Хозяин ухватил большим, указательным и средним пальцами три пустых кружки и зашаркал обратно к стойке. Его штаны, напоминающие бочку, держались на подтяжках в форме буквы Y. Несколько минут стояла тишина. Компания погрузилась в полузабытье. Дядюшка молчал.