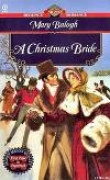Текст книги "Фройляйн Штарк"
Автор книги: Томас Хюрлиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
15
Конечно, с совсем толстыми и совсем худыми иногда возникали маленькие проблемы.
– Нет, ты только посмотри на этого поросенка! – восклицала, например, одна.
Другая, сдвинув колени и поставив ноги буквой «х», возмущенно пятилась от меня. Но все это были исключения, не заслуживающие внимания. Желающие посетить монастырскую библиотеку, как правило, воспитаны в бюргерских традициях и умеют себя вести. К тому же большинство из них приезжали из серых, разбомбленных во время войны городов – Ульма, Дармштадта или Фридрихсхафена – и забывали обо всем на свете в своем изумлении и благоговении перед лицом этого грандиозного книжно-живописного великолепия, вздымающегося перед ними беззвучным прибоем. Замечали ли они что-нибудь? О, еще как замечали! Во всяком случае, самые красивые из них. Но под величественной сенью книжных небес, на мгновение лишившись дара речи, они милостиво проявляли снисходительность не только к уродливым лаптям, но и к служке-башмачнику, исправлявшему свою должность у их ног.
– Спасибо, мальчик.
– Следующая, пожалуйста!
Жаловались ли они на меня? По-видимому, да, так как непосредственно после одного незначительного инцидента – возмущенных причитаний одной бегемотихи – златые дни в Аранхуэсе, [8]8
Шиллер Ф. Дон Карлос. Акт 1, сцена 1.
[Закрыть]как выразился бы дядюшка, пришли к концу. Фройляйн Штарк, мирно сидевшая на своей широкой, крепкой корме, как святая на облаке, вновь превратилась в грозного боцмана, перед которым трепетала вся команда книжного ковчега.
– Я могу с вами поговорить, монсеньер?
– О чем речь?
– О мальчишке.
– Опять!.. – простонал дядюшка. – Что он на это раз натворил?
Но фройляйн Штарк не торопилась.
– Ну как жаркое? – спросила она как ни в чем не бывало. – Не слишком жирное?
– Pulcher et speciosus, – похвалил дядюшка. – Превосходно, очень вкусно. In medias, к делу!
Она взяла латку со стола, и прошло несколько мучительно долгих секунд, прежде чем она наконец изрекла:
– Монсеньер, поступила жалоба.
Дядюшка поднял левую бровь, я тоже.
– Жалоба?..
– Да. От одной певицы из Линца, фройляйн фон Цеддитц, Зандгассе шесть, – ответила Штарк, и, так как ее маленькие аппенцельские охотничьи глазки все еще были нацелены на латку с жарким, можно было подумать, что стоит ей только открыть крышку; и наружу выскочит обвинительница в образе жирного мясного клуба пара. – Она жаловалась на мальчишку, и притом вполне конкретно – конкретнее некуда! Она говорила, что он…
Но этого она не могла произнести вслух и потому приникла к уху монсеньера и что – то жарко зашептала, держа латку на вытянутых в сторону руках, чтобы не касаться ею дядюшкиного плеча.
Он молча выслушал ее с неподвижным лицом. Затем промокнул свое орошенное ухо камчатной салфеткой и сказал:
– Дорогой мой nepos, у нас здесь монастырская библиотека, и мы с гордостью можем утверждать, что на борту у нас хранятся бесценные сокровища Востока и Запада, в том числе любопытнейшие рассуждения философа Канта о нравственности, критерием которой являются не успешные деяния и поступки, как этого можно было бы ожидать, а скорее образ мыслей, то есть сама воля, сие же означает, что человеку, в особенности молодому человеку, надлежит подавлять свои пагубные наклонности…
Так – или приблизительно так – он разглагольствовал еще некоторое время, переходя от Канта к Блаженному Августину, от Блаженного Августина к Африке, от Африки к Египту, и в конце концов заключил свою речь ссылкой на Диодора Сицилийского: психезиатрейон.
– Аптека для души, – перевел я.
– Recte dicis. [9]9
Правильно говоришь (лат.).
[Закрыть]
– Это означает, – продолжал я, – что у нас есть все: любая болезнь и любое лекарство, – всё, от Аристотеля до ящура. Nomina ante res, вначале слова!
– Вот видите, фройляйн Штарк? Ессе nepos, [10]10
Се племянник (лат.).
[Закрыть]он весь в меня.
Весьма довольный своими учеными речами, дядюшка сунул свернутую трубочкой салфетку в серебряное кольцо и, как всегда, удалился в свой кабинет. Я кивнул фройляйн Штарк и последовал за ним.
16
Здесь, в так называемом кабинете, оборудованном им как некая пестрая плюшевая пещера, он чувствовал себя вольготнее всего. Здесь господин хранитель библиотеки принимал ученых со всего света, здесь он проводил свои вечера, здесь предавался, по его выражению, своей главной деятельности: чтению. Под образами святых день и ночь мерцали оплывшие свечи, на стенах висели ковры, гардины на окнах были затянуты, а красновато-золотистый призрачный свет «пещеры» был настолько пропитан тяжелым, сладким духом горячего воска, ладана и одеколона, что временами казалось, будто толстый персидский ковер, скрадывающий шаги, – это волшебный ковер – самолет, в одно мгновение перенесший нас на Восток. Фройляйн Штарк больше не показывалась. Звуки на кухне тоже замерли. «Ad lectionem», [11]11
«К чтению» (лат.).
[Закрыть]– изрек дядюшка.
Он взгромоздился на диван, как жирный шейх, я опустился в кресло, и, надев шелковые перчатки, мы раскрыли свои книги. Дядюшка уже давно занимался каким-то отцом-пустынножителем, который питался лишь скорпионами и любовью Божией и все больше и больше впадал в безумие. Но в своем безумии он вдруг узрел перед собой, посреди моря песков, дворец с высокими стенами, благоухающим садом и звонкими фонтанами. Ткхо реял ветер, за горизонтом величественно догорал закат, а зубцы стен загадочного дворца все чернели на фоне темнеющего неба, и пальмы над ними простирали свои раскидистые ветви, как составленные вместе крестьянские косы.
– Ты слушаешь? – спросил дядюшка.
– Да-да, дядя, конечно, слушаю. Это мираж.
– Верно, это мираж. Бедный отец-пустынножитель вступил в пределы Небесного Иерусалима, который ему выколдовал в царстве песков его безумный мозг. ТЫ позволишь мне составить ему компанию?
– Да, дядя, конечно.
Он достал огромную, с блюдце, лупу, сдвинул очки на лоб и улетел в свою пустыню.
У меня в руках была книга, которой я ждал несколько дней, но мне никак не удавалось двинуться дальше названия – «Подъем и спад швейцарской текстильной промышленности». Я напряженно вслушивался в тишину. Я боялся фройляйн Штарк. Д ядюшка пока что отбрил ее, но я знал: она слишком серьезно относилась к спасению моей души, точнее, к катехизису, чтобы простить мне взгляд в ходячую мясную лавку из города Линц. Я еще свое получу, думал я.
И получил. Уже на следующее утро, за завтраком.
– Клик-клик, клике-ди-клик!
Она вязала!
Да, фройляйн Штарк вязала – черные шерстяные носки, мое «приданое» для монастырской школы; они подойдут к рясе, которую мне предстоит надеть, и надо было быть камнем, чтобы не понять, что означает это вязание: «Собирай свои пожитки, бездельник! – говорили ее спицы. – Проваливай, шкодливый башмачник, ступай в свою монастырскую школу, там выбьют дурь из твоей башки!»
– Клик-клик, клике-ди-клик!
С вязаньем в руках она делала свои обходы, с вязаньем стояла в зале в качестве старшего надзирателя, осуществляющего контроль за младшими надзирателями, а вечером, когда мы опять расположились в плюшевой пещере, она сидела у самовара, сосредоточив все внимание на своем вязанье, как будто во всей Вселенной не было ничего важнее этих спиц, этих пальцев, этой черной шерсти.
– Клике-ди-клик! Клике-ди-клик! – позвякивали толстые спицы, отпугивая тишину, и хотя я, в отличие от бедного отца – пустынножителя, пока что был далек от безумия, у меня в конце концов появилось такое чувство, как будто ее спицы больно ранят меня.
Почему дядюшка это терпит? Почему он не вышвырнет ее из кабинета? Причина была ясна. Ассистенты оказались правы: даже Кац, почтенный капитан книжного ковчега, стоял перед фройляйн Штарк на задних лапах.
На следующий день она опять принялась за свое: клике-ди-клик! клике-ди – клик! И каждый раз, закончив очередную пару этих распроклятых носков, она укладывала их в чемодан, который принесла в мою комнату. Содержимое чемодана становилось все чернее и чернее. Монастырская школа подступала все ближе и ближе. Будущее тихо подкрадывалось ко мне в мягких толстых носках, как сказал бы, наверное, дядюшка. Клике-ди-клик! Клике – ди-клик! Клике-ди-клик…
17
Это садистское звяканье, похоже, раздражало и дядюшку. Однако он не говорил: «Любезнейшая, оставьте это». То ли господин хранитель был слишком труслив, то ли фройляйн Штарк слишком старалась соответствовать своей фамилии [12]12
Stark – сильный (нем.).
[Закрыть]– во всяком случае, она все вязала и вязала, наморщив низкий лоб, а я таким образом отбывал свое наказание.
Однажды вечером дя дюшка спросил меня, помню ли я еще его ссылку на Канта. Я кивнул. (После того разговора я провел краткую исследовательскую работу и установил, что помешанный на своем разуме философ из Кенигсберга Иммануил Кант заполнил собой целые шкафы в каталожном зале.) Я скромно назвал пару ключевых понятий, связанных с Кантом: разум, критика разума, мораль, этика, субъект.
Дядюшка уважительно под нял свой бокал в мою сторону. Потом поведал, что себя самого, то есть своего собственного эмпирического субъекта, Кант никогда не касался, даже при одевании или раздевании, предоставив это Лампе, своему слуге, который утром одевал, а вечером раздевал его, как маленького ребенка – от носков до парика. Но еще радикальнее, чем в отношении нравственности, поборник критики разума вел себя в отношении пунктуальности – тут он был просто фанатиком, и это в конце концов привело к тому, что не кто-нибудь, а именно Кант, самый пыльный из всех когда-либо существовавших париков духа, изобрел (тут дядюшка резко понизил голос) – пояс для чулок. Знаю ли я, что это такое?
Я уже чуть было не сказал: «Да, видел у мамы», но вовремя спохватился, решив, что дальновиднее просто поднять бровь, разумеется левую – кто его знает, когда фройляйн Штарк взбредет в голову войти в пещеру со своим вязаньем?
Так вот, Иммануил Кант, рассказывал дядюшка, каждый день отправлялся на прогулку, по одному и тому же маршруту, в одном и том же темпе, в одно и то же время, так что пол-Кенигсберга сверяло по нему часы: если Кант проходит рынок, значит, ровно четверть четвертого, сворачивает на Лютер – штрассе – двадцать три минуты четвертого, ни секундой позже, ни секундой раньше. Несколько лет все шло хорошо: завидев Канта, кенигсбергцы доставали свои часы и переводили спешащие или отстающие стрелки. Но то ли его чулки от стирки растянулись, то ли слуга Лампе охладел к своим обязанностям – в один прекрасный день чулки начали сползать, и, чтобы не осрамиться перед согражданами, представ перед ними в неподобающем виде, бедный философ вынужден был через каждые несколько шагов останавливаться и подтягивать проклятые чулки. И что получилось в итоге? Во всем Кенигсберге время словно сошло с ума – даже церкви, башенные часы которых тоже устанавливались по Канту, теперь трезвонили как попало. Но Кант был философом, критиком чистого и практического разума, он подумал-подумал и решил проблему. Отныне пояс с подвязками должен был держать его чулки на должной высоте. Сказано – сделано. Хитроумную выдумку философа, попавшего в самую точку, претворил в жизнь его слуга: эта штуковина оказалась полезнейшей вещью. Теперь Лампе каждое утро надевал на кантовские бедра пояс из тонкого шелка и пристегивал к нему его чулки. И все были довольны. Лампе, как и фройляйн Штарк, не хватавший звезд с неба, блеснул своим искусством портного, философ вышел, так сказать, сухим из воды, и время в Кенигсберге вновь вернулось на круги своя.
Вот такая история. Однако какие выводы мне надлежало сделать из этого наставления? К чему призывал меня дядюшка? К подавлению пагубных наклонностей, к бескорыстному служению башмачному делу а-ля Кант? Или он пытался утешить меня? Желая сказать, что даже у Канта, критика чистого и практического разума, заполнившего собой целые шкафы, были проблемы с носками?
В растерянности вернулся я в свою комнату Я уже второй раз лишился любви фройляйн Штарк и, чтобы вернуть ее, должен был пойти по тому пути, который она сама мне указала: признаться в своих грехах перед Богом и исповедником. Однако на этот раз мне не хотелось просто сказать, что я исповедался, я и в самом деле хотел исповедаться, по всей форме, как полагается – с покаянием, благословением и наказанием. Пришло время. Не в силах больше выносить это звяканье.
18
я поспешил в собор, бросился на колени и, повторяю, на этот раз действительно был исполнен решимости признать все свои грехи: взгляд под юбку линцской певицы, вранье, тоску по дому и даже сомнения в планах Господа Бога и моих родителей. Но сколько я ни вглядывался в перечень грехов, которые должны быть упомянуты в исповеди, своих грехов я там не видел. Неужели это действительно грех-вдыхать аромат женщин? Или время от времени робко заглядывать к ним под юбки?
И в чем мне, скажите на милость, признаваться – в «похотливых деяниях»? Разве обоняние можно назвать деянием?Кто дышит – тот обоняет, никакой это не грех, ни тяжкий, ни мелкий. В «похотливых помыслах»? Они, конечно, больше похожи на грех, но разве это похоть – поддаться власти нежного, сизо-серого полумрака под этими маленькими ходячими шатрами? Разве похоть – желание расслышать в тихом шуршании чулок какие-то сладостные призывы?
Косые лучи вечернего солнца разрезали синевато-сумрачный центральный неф, как праздничный пирог, на части. Откуда-то струился сладковатый запах увядших цветов и ладана, смешавшийся с кисловатым запахом пота бедных молельщиков перед «гротом» Мадонны. Время от времени тяжелая дверь с тихим скрипом отворялась, внутрь на секунду залетали смех и тарахтенье проезжающих мимо автомобилей, дверь закрывалась с глухим стуком, и в церкви вновь воцарялась тишина. Перед исповедальней торчало с полдюжины старых набожных ворон. Вот кому хорошо! Эти точно знают свои грехи: злословие, недоброжелательство, зависть, жадность, злоба – все их грехи расписаны в катехизисе как по нотам, коротко и ясно. Признался, покаялся – получи прощение. Одна за другой они проворно загружались в исповедальню и через пару минут уже скакали прочь. Очередь опять дошла до меня. Но что я должен был сказать? Ваше преподобие, у меня есть нос, и поэтому я не могу не вдыхать аромат женщин? Или начать с моей должности и признаться духовнику: мол, с некоторых пор я живу с греховным сознанием того, что мне нравятся толстые задницы, полные, крепкие попы, растягивающие юбки и придающие им сходство с шатрами? А может, чтобы получить абсолюцию, мне следует сказать: «Ваше преподобие, так же как я сейчас стою перед вами на коленях, я день за днем стою на коленях перед дверью всемирно известной библиотеки, надевая на ноги посетительниц войлочные лапти, и время от времени закатываю вверх глаза и заглядываю им под юбки, и был бы вам премного благодарен, если бы вы наконец объяснили мне, что же меня там так привлекает, что притягивает меня как магнит?»
Нет. Здесь мне никто ничего не объяснит. Только что башенные часы пробили четверть шестого; если я потороплюсь, то еще поспею к Вечерней Красавице. И я бросаюсь прочь из церкви, мчусь по лестнице, перепрыгивая по две-три ступеньки, бегу запыхавшись по коридору, дергаю за шнур звонка, пролетаю мимо старца швейцара, прямо к своему рабочему месту. Я поспел как раз вовремя – вот она приближается, невесомая, легконогая, все ближе, все красивее. И сегодня, моя дорогая, мне наконец удастся немного приподнять башмак, – не слишком высоко, но так, чтобы ваша ножка непроизвольно согнулась в колене; не очень заметно, но так, чтобы подол вашей юбки соскользнул с колена, – не очень далеко, но так, чтобы я, затаив дыхание, мог нырнуть в ваш шатер, распахнуть глаза и…
19
Туман. Потом немного проясняется, над серыми холмами плавает маслянистое солнце, и вдове портного Каца, путешествующей со своими семерыми детьми и всем домашним скарбом, то и дело приходится утирать пот. Старший сын, Йозеф, тащит тележку, на которой среди корзин и узлов трясутся его братья и сестры. Когда дорога идет в гору, мать толкает тележку сзади.
– Быстрее! – кричит она, наклонив голову и упершись руками в задний борт. – Давай, тащи!
Дорога ведет от одного холма к другому, и за каждым холмом, увенчанным ореховым деревом, в туманной низине, кажется, лежит одна и та же деревня с белой церквушкой и утопающими в герани крестьянскими домами – каждый раз одна и та же колокольня, одни и те же дома с геранью на окнах. Доберутся ли они вообще когда – нибудь до места?
Когда они спрашивали, далеко ли еще до равнины, крестьяне качали головой, кое – кто чертыхался, мол, пропади она пропадом! Лишь какой-то коммивояжер с медицинским саквояжем, в котором позвякивали склянки с каплями и тинктурами, указал саквояжем на север, в сторону гор. I)je же там может быть равнина?
Однажды утром мать не выдержала и разрыдалась. Было опять туманно и душно. И тут произошло чудо. Йозеф, который не мог больше слышать всхлипывания матери, схватил случайного прохожего, какую – то серую безликую фигуру, за рукав и спросил, где тут равнина. Прохожий показал пальцем на густые, холодные желтовато – серые клубы тумана:
– Тут. Она самая и есть.
Ни домов, ни деревьев, ни даже кустарников. Раскисшая дорога ведет через зыбкие мостки, связанные вместе жерди, соединяющие болотные кочки. Под мостками булькает и хлюпает, повсюду вода, покрытая щетиной осоки и камыша, и над всем этим – туман. Это и в самом деле была Линтская равнина, получившая свое название от реки Линт. Мать опять расплакалась, на этот раз от радости. Наконец-то добрались! Йозеф представлял себе все иначе – больше, просторней, красивей. Когда туман рассеялся, он увидел, что равнина – это всего лишь полоска заболоченной земли, перерезанной прямым как струна каналом, между двумя параллельными рядами гор, без неба, без деревьев. Но для матери это была равнина, окоторой так часто рассказывал отец, и потому она решила остаться здесь с детьми.
Они жили в хижине торфяника у подножия насыпной дамбы. Какая-то железно – дорожно-строительная компания пыталась проложить здесь рельсы, но строительство в конце концов заглохло, как и все, что тут делалось и затевалось, – его засосало болото. Чтобы прокормить себя и детей, мать занялась шитьем. В ловкости и умении ей, конечно, трудно было сравниться с мужем, однако она много раз (багровея от злости) слышала, как он нахваливает клиентам свой товар, и теперь с успехом подражала ему – да еще с каким успехом! Язык у нее был подвешен куда лучше.
– Эти теплые нарукавники навсегда избавят вас от ревматизма и подагры! – храбро заявляла она. – А это белье – о-ля-ля! Оно не только греет почки, мсье, оно возвращает силу молодости. Но только, чур, никому не рассказывать об этом!..
Летом небо становилось в мелкую крапинку: мириады комаров наполняли все вокруг жужжанием и облепляли все живое и неживое: людей, собак, дома. Кац, направляясь по деревянным мосткам к очередному клиенту, уподоблялась шагающей, злобно жужжащей туче насекомых, а черный гудящий ком, катившийся за ней следом, мог быть ее младшим сыном или увязавшейся за ней собакой – трудно было разобрать. Одна казнь египетская сменяла другую: летом комары, осенью туман; а болото, эта зловонная, тухлая жижа, из которой то и дело слышались отчаянные крики о помощи, далекие или близкие! То какой-нибудь путник сбивался с пути, то местный житель блуждал, как тень, в этом белом, зачумленном мраке. И никому и в голову не приходило поспешить им на помощь: это было не только опасно, но и бессмысленно – здесь невозможно было отличить человека от призрака.
Крики становились все тише и тише; наконец они обрывались, и вновь воцарялась тишина. Ни щебета птиц, ни кваканья лягушек – ничего. Только туман. Без конца и без края – как Россия, сказал однажды отец. И вот Линтская равнина тоже стала бескрайней, как Россия. Туман рассеялся, горы подступили ближе, но равнина казалась такой же необъятной, как та далекая страна, которую Зендер Кац покинул много лет назад.
Йозеф Кац, старший сын Зендера, стоял на дамбе, держа на руках младшего брата, остальные братья и сестры сгрудились вокруг него и молча, без всякой надежды смотрели, как взрослые тыкали шестами в болото вдоль деревянных мостков. Время от времени они вытаскивали что-то из воды, но все, не исключая и самих каценят, знали, что поиски напрасны. Они никогда не найдут мать.
20
Пришла зима, равнина замерзла. И вновь юный Йозеф Кац, мой будущий дед, стоял на дамбе. Закутавшись в одеяло и мешки из – под картофеля, он неотрывно смотрел вдаль на снежную равнину.
В тот же день, когда соседи перестали ковырять болото шестами в поисках матери, перед их хижиной появились служащие пожарной команды и две монашки, которые непрерывно молились, вызвали детей на улицу, похватали их, обрызгали святой водой и унесли за дамбу. С тех пор его братья и сестры жили в сиротском приюте. Голодать они не голодали – раз в день им давали миску каши или супа и кусок хлеба, по воскресеньям сыр, иногда даже молоко, а в каморке с нарами – Йозеф видел это через зарешеченное окошко – на каждом спальном месте лежало аккуратно свернутое колючее шерстяное одеяло. У них была крыша над головой и еда, но при этом один большой недостаток, хуже каиновой печати, – клеймо нахлебников. В Уцнахе, где стояла церковь, им нельзя было ходить по главной улице; если на дамбе им кто-то попадался навстречу, они должны были уступать ему дорогу, и горе тому сироте, который не поприветствовал проходящего мимо, сняв шапку! Его сажали под арест в жуткий подвал, где было по щиколотку воды. Да, конечно, им не дали умереть с голоду, их оставили в живых, но это была жизнь в аду.
Над равниной мерцали звезды, где-то вдали лаяли собаки, перекликались чьи-то голоса. Постепенно все стихло. Когда забрезжил рассвет, Йозеф Кац отправился к священнику. Он снял шапку, опустил голову и попросил назначить его опекуном несовершеннолетних братьев и сестер.
– Йозеф Кац, – сказал священник, – я могу кое-что сделать для тебя, но давай не будем спешить, хорошо? Всему свое время.