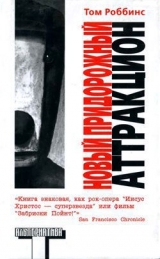
Текст книги "Новый придорожный аттракцион"
Автор книги: Том Роббинс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
В начале того же дня, вскоре после того как Зиллеры получили письмо Плаки Перселла, из Сиэтла прибыл паровой шкаф, доставленный фирмой ресторанного оборудования. Теперь Джон Пол захватил его с собой в пробное плавание, дабы подвергнуть испытанию. Глаза чародея были напряженно прищурены, как и положено летчику-испытателю в ритуале инициации крылатой машины. Как и полагается киношной жене испытателя, Аманда ждала мужа на земле. В глазах ее светилась гордость, однако губы были озабоченно поджаты. Наклонив голову к плечу, она тревожно вслушивалась. (Представьте себе Аманду и Дебору Пейджет в кухне маленького скромного бунгало. Они чашка за чашкой поглощают кофе, болтая обо всем на свете, старательно избегая темы, действительно волнующей обеих, – а именно: их мужей, пребывающих сейчас где-то на окраинах сосисочного космоса. Неожиданно звонит телефон, и мы видим, как напрягаются обе женщины. К счастью, это кто-то ошибся номером. Дебора плачет и, всхлипывая, ударяет кулачками по пластиковой поверхности стола.
– Я больше не могу! Сколько можно ждать и жить в постоянном страхе?! Я вышла замуж за Джима потому, что люблю его. Кроме него, у меня больше ничего нет на этом свете. Вот у него-то есть кое-что еще, кроме меня. Он женился на ВВС США и на этом так его разэтак паровом шкафу для хот-догов.)
Фильм обычно имеет счастливый конец, и хотя Аманда отказалась попробовать сосиску, булочку она все-таки отведала – всего кусочек – и нашла ее мягкой и бархатистой. Джон Пол съел два хот-дога «со-всем-что-у-вас-найдется» – как принято говорить – и остался доволен.
После испытания они задержались на кухне. Аманда покачивала сидевшего у нее на коленях малыша Тора, а Джон Пол подсоединял электроусилитель к своей глиняной флейте. Однако кинетическая энергия систем их мыслей находилась в совсем другом месте – примерно в 150 милях к югу, близ деревушки под названием Хамптьюлипс, там она хрустнула, раскололась и побежала в поисках точного местонахождения Плаки Перселла. Любопытство Аманды было почти осязаемым и чем-то напоминало радиосигналы, исходившие из той полости, в которой следовало находиться зародышу. В одном не сомневались оба – пытаться как-то вмешаться было бы крайне неразумно с их стороны. Они не только получили недвусмысленное предупреждение от самого Плаки, но даже представить себе не могли обстоятельства, при которых их появление в лесном монастыре имело бы положительный результат.
– Похоже, что Перселл попал в щекотливую ситуацию, – сказал Зиллер, – однако в равной степени очевидно и то, что он должен выпутаться из нее сам. Вообще-то мы знаем очень мало об истинном характере этого затруднительного положения. Его недописанное письмо лишает нас возможности хоть чем-то помочь ему.
– Надеюсь, Плаки справится со всеми неприятностями, – заявила Аманда, продолжая покачивать ребенка. – Хотя он и любитель размахивать кулаками, и за ним водятся темные делишки, есть в нем все-таки некая невинность. В любом случае я не знаю, как нам понимать его рассказ о воинственных монахах, которые промышляют шпионажем и убийствами. Если принять во внимание природу организованной религии вообще и историю римско-католической церкви, в частности, в том, что он нам сообщил, нет ничего удивительного. И все же в наши дни и в наш век в такое верится с трудом.
И она принялась дальше покачивать малыша Тора.
– Я бы не сказал, что рассказ меня как-то особенно шокировал, – сказал Зиллер. – Жестокости цивилизованного человека редко вызывают шок. Вообще-то о католической церкви я знаю очень мало. Правда, в Африке мне довелось встречаться с миссионерами-католиками. Это были храбрые и преданные своей вере люди; они добросовестно трудились, стремясь облегчить физические страдания туземцев. С другой стороны, они по неразумию нанесли многим древним племенам огромный моральный ущерб, навязывая им свои религиозные догмы. Кроме того, они чудовищно несведущи в этике примитивных народов и не способны постичь то, насколько богат и глубок разум так называемого дикаря, сколько в нем мудрости и музыки.
Услышав это, Аманда подумала, что Джон Пол сейчас приоткроет завесу тайны над своими странствиями по Африке, но нет – он принялся извлекать звуки из флейты. Однако вместо того чтобы звучать нежно и басовито, та издавала звуки пронзительно-вибрирующие. Можно ли считать это усовершенствованием звучания флейты? Джон Пол ничего по этому поводу не сказал. Он слегка подрегулировал усилитель и спросил:
– Если не ошибаюсь, ты в свое время получила католическое образование. Каковы твои впечатления?
Зиллер ничего не знал о религиозном прошлом Аманды, но поскольку она по происхождению была наполовину ирландки, а наполовину пуэрториканкой, было вполне логичным предположить, что она имела какое-то отношение к римско-католическим религиозным институтам.
– Формальное образование я бросила на восьмом году обучения, – призналась Аманда. – Когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Но вообще-то – да, я посещала приходскую школу – со второго класса до пятого. И я, конечно, видела, как многие мои маленькие подруги «созревали» – ненавижу это слово в таком значении – в условиях церковного влияния. Мои впечатления таковы: существует насекомое под названием оса-охотник. Самка охотится за пауками и прочими насекомыми и нападает на них несколько необычным образом. Она жалит их в крупное нервное сплетение в нижней части грудной клетки. При этом она не убивает их, а лишь парализует. Затем она откладывает яйцо на свою парализованную жертву – или прямо в ее тело – и запечатывает в гнезде. Вылупляясь из яйца, личинка осы начинает медленно пожирать эту парализованную жертву, причем самым систематическим образом. Сначала в пищу идут менее важные в жизненном отношении ткани и органы, чтобы несчастное создание оставалось живым еще какое-то время. В конечном итоге жертву доедают до конца. Во время этого долгого периода питания парализованное насекомое не может ни двигаться, ни протестовать, ни сопротивляться каким-либо образом.
Теперь давай рассмотрим Церковь как осу-охотника, чье жало в данном случае представлено монахинями и священниками, обучающими детей в своих школах. А школьников давай представим в роли парализованной жертвы. Яйцо, которое в них помещается, – церковная догма, в должное время из нее вылупится личинка – личная философия или систему религиозных взглядов. Такая личинка, как и в случае с настоящей осой, пожирает жертву изнутри, медленно, особым образом, и это происходит до тех пор, пока жертва не прекращает свое существование. Вот таким мне представляется приходское образование.
Поднимаясь по лестнице наверх, чтобы выкупать малыша, Аманда добавила:
– Всеобщее светское образование отличается лишь менее изощренными методиками и дает не столь смертоносные результаты.
Она пошла дальше, но тут Джон Пол остановил ее.
– Аманда, – сказал он. – Когда я был на Цейлоне, я поднялся на пик Адама, гору, которую четыре религии почитают как священную. На самой ее вершине имеется пятифутовое углубление. Буддисты полагают, что это отпечаток ноги Будды. Индусы уверяют, что след оставил Шива. Мусульмане доказывают, что здесь прошел Адам. Местные католики думают, что это был не кто иной, как святой Фома. Геологи из университета Коломбо говорят, что это результат древней вулканической деятельности. Как ты думаешь, кто из них прав?
– Все пятеро, разумеется, – ответила Аманда и направилась с ребенком в комнату.
Зиллер улыбнулся. Его улыбки отличала шершавость наждака и некая доля мистериозности. Эта не была исключением. Тем не менее это была улыбка, которая подразумевала следующую фразу: «Я не ошибся в выборе жены».
К счастью для Аманды – чье любопытство было подобно радио, которое она оставила на ночь включенным на всю мощь, так что соседи обратились с жалобой в полицию и полицейские приехали, – так вот к счастью для нее, между первым письмом и вторым прошло всего четыре дня. Как и первое, второе письмо прибыло без особых церемоний. Какой-то мелкий государственный служащий просто бросил его в почтовый ящик Зиллера, и оно с шуршанием упало на дно. Джон Пол извлек его, внес в дом и позвал Аманду. Когда она пришла в гостиную, Зиллер разрезал конверт одним движением ножика из слоновой кости. Вот что было в письме:
Дорогие З. и А. (Как вам, народ? – сразу конец и начало.) [8]8
Имеются в виду последняя и первая буквы латинского алфавита. – Примеч. пер.
[Закрыть]Привет. Тот, кто придумал карате, конечно же, был чувак еще тот. Он делал по две тысячи отжиманий в день, разбивал руками три ствола дерева и медитировал, сидя под водопадом с ледяной водой. Именно таким образом и собирается проводить время ваш старый друг Плаки – гулять в одиночку по лесу, постигая таинства карате. Это, понятное дело, только уловка с моей стороны – она позволяет мне держаться подальше от моих новых товарищей (я-то не собираюсь рубить деревья руками), но здесь, в монастыре на Рысьем Ручье, я считаюсь специалистом по карате, и пусть эти безумные монахи не знают того, чего им знать не положено. Придя сюда, в лес, к моему любимому пеньку, я получаю время и обретаю уединение, необходимые для написания этой забавной истории, в которую я угодил и частью которой я сейчас являюсь.
Итак, как я вам уже сообщил, разговорчивому старине Плаки удается заболтать своего грозного собеседника в сутане и с пистолетом, и он уже готов установить мировой рекорд в беге на дистанцию Монастырь – Хамптьюлипс, когда соображения иного свойства, нежели личная безопасность, призовут его временно отложить этот рекорд. С вашего позволения, я не стану озвучивать полностью эти соображения, ограничусь лишь тем, что скажу вам следующее: они связаны с интригой, исполнением религиозного долга (ха-ха) и обычным желанием немного отдохнуть от труда лесоруба, а заодно немного подурачиться.
По крайней мере одно представляется мне очевидным: покойный брат Даллас – новичок в монастыре, его прибытия ожидали, но никто не знает его лично. У него имелась при себе карта местности, а значит, он никогда раньше не бывал в здешних лесах; два монаха, которые мне попались, не знали его в лицо. Он умер по пути в монастырь, всего в паре сотен ярдов от лесной обители, и братья-монахи до сих пор не ведают об этом прискорбном событии. Монах с пистолетом по крайней мере процентов на пятьдесят поверил в то, что я и есть брат Даллас. Есть шанс, что если он поверит в это полностью, то и вся прочая монастырская братия тоже уверует. Хотя, конечно, существует вероятность, что кто-то в монастыре может знать Б.Д. лично, однако готов поспорить на что угодно, что это не так. Во всем происходящем со мной здесь и сейчас мне, несомненно, видится нечто зловещее, и, вполне возможно, я сам сую шею в петлю. Однако дело может обстоять и так, что все это лишь результат случайных совпадений, недопонимания и всеобщей паранойи. Вполне возможно, что за этими недружелюбными воротами ничего плохого и не происходит, кроме обычной католической лабуды и церковной ерунды. Хотя, признайтесь, странновато, что мужики, пусть даже они и монахи, живущие в лесной глуши, где обитают пумы, медведи и бродячие пьянчуги-индейцы, вооружены пистолетами калибра 38 Сп вместо обычного дробовика. Но и это можно объяснить довольно просто. Мое желание подурачиться осуществится скорее всего так: я тайком проскальзываю за кулисы этого священного представления, недельку развлекаюсь в роли Великого Самозванца и в понедельник утром, когда придет время отправляться на работу, тихонько делаю отсюда ноги. С другой стороны, там, в лесу, до сих пор валяется покойник. Даже если он скончался от естественных причин, на мне лежит моральное обязательство сообщить о его кончине – может быть, его где-то ждет безутешная любящая семья. Более того и хуже того: представьте, что весь уик-энд я выдаю себя за брата Далласа, после чего признаюсь, кто я такой на самом деле, – разве я тогда не стану главным подозреваемым в убийстве несчастного брата Далласа? Но даже если я не сообщу о его смерти – а это будет крайне неэтично, – его тело рано или поздно найдут. А найти его могут прямо в самый разгар моего маскарада. Не угодит ли тогда старина Плаки в крупную неприятность? Поэтому я должен подавить в зародыше эту безответственную эскападу и спасать себя, а возможно, и других достойных людей от совершенно ненужных неприятностей. Однако, Боже, в этом монастыре происходит что-то подозрительное. Как говорил мой папаша, аристократ-южанин, в каждой поленнице дров прячется ниггер. Так и за этими стенами, сдается мне, творится что-то неладное. Я это печенкой чую.
Значит, все эти мыслишки лопаются в моей несчастной черепушке, как вареные кукурузины. Причем лопаются очень быстро, пока я бегу к этой самой просеке. Еще несколько секунд принятия решений и контррешений, проверок и контрпроверок. После этого я – бац! бац! – начинаю стремительно действовать.
Сначала устремляюсь к покойнику и избавляю его от пакета с документами, запечатанными документами, о которых я упомянул в предыдущем письме. Потом перетаскиваю тело на другую сторону дорожки. Подобно Ричарду Бротигену, который в начале каждой главы мемуаров случайно находит ручей с форелью, я тоже совершенно случайно нахожу ручей с форелью. О, я знал, что он там! Еще раньше, когда по пути к монастырю я проходил возле этого места, мой слух зафиксировал журчание воды – истинную музыку ее величества природы, материализующуюся в прекрасном ручейке. Во избежание назойливого внимания болтливых ворон я сталкиваю тело усопшего в воду, в ямку глубиной около четырех футов, которую я – к счастью или нет – обнаруживаю чуть ниже по течению ручейка. И приваливаю покойничка тяжелыми камнями. Оп-п-п-п! Черт побери! Я же забыл о трех сотнях зеленых. Приходится выудить тело – чертовски тяжелое – из ручья и вытащить у него из кармана деньги. Я знаю, о чем вы сейчас думаете, да награди вас господь сифилисом. Вы думаете, что Перселл утверждает, будто стоит в оппозиции ко всей монетарной системе и все же подвергает себя самым немыслимым опасностям, охотясь за тремя сотнями не облагаемых налогом долларов. Но, мои дорогие, вы же знаете, что федеральное законодательство запрещает портить банкноты. А оставить банкноты разрушаться от воды равноценно такой порче. Как бы то ни было, но после повторного спуска на воду корабля США под названием «Брат Даллас» я вытер руки о джинсы, снова поднялся на склон холма, нашел ту самую, прежнюю, тропинку и снова затрусил в гущу леса. Не пройдя и половины пути до монастыря, я встречаю все тех же монахов, один из которых со смущенным видом энергично потирает шею, а второй – он явно разъярен – перебрасывает свою пушку из руки в руку. Этот самый с пистолетом беспокоит меня больше всего. Почему бы ему в минуты тревоги не перебирать четки, как это делают все добрые пастыри божий? Я понимаю, у Пэта О'Брайена обычно краснело лицо, и он сжимал руки в кулаки, но этот-то сжимает в руках оружие.
– Привет, – жизнерадостно говорю я. – Нашел я документы. Ох уж эта моя беспечность! Но ведь даже святым свойственно ошибаться! – На моем лице появляется блаженная улыбка.
Вооруженный монах выхватывает у меня пакете документами, смехотворно долго разглядывает его, хотя на нем начертаны всего две строчки, но распечатывать не осмеливается.
– Беззаботность – грех, который в нашем ордене не поощряется, – произносит он таким тоном, который домохозяйке прошлось бы извлечь из морозилки в два часа дня, чтобы он немного оттаял к ужину.
«Ага, – думаю, – этот падре с пистолетом не слишком большая шишка в монастыре, если он не имеет права распечатывать мои документы».
По пути к стенам монастыря я приношу свои извинения другому монаху за то, что вынудил его принять горизонтальное положение. Замечаю, что благословенное вино христианского всепрощенчества отнюдь не сочится из всех его пор, однако он все-таки признает, что в подобных обстоятельствах сам повел бы себя тоже не столь учтиво.
– Правда, я не такой хороший боец, как вы, – произносит он с завистливым восхищением, продолжая массировать шею.
Мы подбираем саквояж, засовываем в него сутану, подходим к воротам и звоним. У звонка довольно благозвучный тон, вполне соответствующий религиозному заведению. Нас впускают внутрь. Ворота захлопываются. А вот этот звук не вызывает у меня приятных ощущений. Ворота закрываются с противным мрачным тюремным щелчком – Щелк! – вторит ему эхо, производя малоприятный эффект на мою нервную систему. Эхо щелчка звучит сначала в моей голове, затем где-то за гранью горьких пределов сознания. Иисусе, я вовсе не собираюсь поэтизировать эти звуки. Этому, Зиллер, я, видимо, научился, вращаясь в кругу таких лабухов, как ты. Весь этот интеллектуально-театральный треп я слышал как-то раз на вечеринке в Нью-Йорке. Один пижон сказал будто бы, когда в последней сцене ибсеновского «Кукольного дома» Нора хлопнула дверью и ушла от своего старика, то от этого хлопка содрогнулась вся западная драматургия, и что благодаря ему в театре пали последние запреты – в том, что касается отношений мужчины и женщины, – подобно тому, как от такого хлопка со стены падает на пол картина, с той разницей, что пали они навсегда. Так вот, значит, когда монастырские ворота захлопываются за моей стеной, я чувствую, что они навсегда изменили театр Плаки Перселла, что короткая драма моей жизни, балет моей жизни уже не те, что раньше. В них появляется смутно ощутимая аура конечности, завершенности. Монастырские – нет, скорее тюремные – ворота захлопываются. Мне почему-то кажется, будто я стою на трапе десантного корабля, и у меня не остается другого выбора, кроме как выскочить на песчаный край чужого берега, где я рано или поздно столкнусь с недружественным населением. Влажный и липкий страх забивает мне горло словно ягоды, слипшиеся в скользкий ком в пластиковом пакете. Однако этот страх скорее призрачен, чем реален. В нем даже присутствует нотка веселости. Мой брат рассказывал, что морские пехотинцы при десантировании насвистывали мелодии из разухабистых мюзиклов. Почему бы и нет? Главное отличие авантюриста от самоубийцы заключается в том, что авантюрист оставляет себе местечко для отступления, узенькую такую полосочку (чем уже полосочка, тем величественнее авантюра), длина и ширина которой могут определяться неизвестными факторами, зато успешная навигация определяется мерой ума и нервов авантюриста. Жизнь восхитительна, когда живешь на нервах или на самом пике обостренных мыслей. Вот такое бессовестное признание я вам делаю.
Но чего, собственно, в этом страшного? За монастырскими стенами обстановка не показалась мне особенно странной. Главным образом это были стерильные коридоры, по обеим сторонам которых тянулись массивные двери. И все до последней заперты. Точь-в-точь как в монастырях, которые я видел
в кино, только те были сложены из кирпича или камня, а этот – из дерева. Мы идем по коридорам и по пути встречаем с десяток монахов, которые если и не похожи на героев-священников в исполнении Бинга Кросби или Пэта О'Брайена, зато в них нет и ничего общего с горбуном собора Парижской Богоматери. В их глазах меньше елея и больше железа, чем у тех священников, которых мне когда-либо доводилось встречать. Меньше соуса в их щеках и меньше выпивки в их носах. Помимо этого, я не замечаю в них больше ничего особенного, если не считать походки. Это не смиренное шарканье ногами, не благочестивая и покорная тяжелая поступь, не расхлябанная походочка. Они передвигаются с легкой, чуть агрессивной грацией хорошо тренированных атлетов. Проходя мимо них по узкому монастырскому коридору, я ощущаю себя так, будто снова оказался у входа в раздевалку стадиона у себя в Дьюке и ожидаю в любую минуту получить пинок коленкой под жопу, как это делают спортсмены, награждая товарищей по команде дружеским пенделем. (Этот жест почти умильно-трогателен в своей невинности и полном отсутствии эротизма.) Такое ощущение, что сейчас кто-нибудь да крикнет: «Давай-ка, Плаки, навешаем хороших этим засранцам! Погнали, старина!»
Где-то ближе к центру монастыря мы останавливаемся перед какой-то дверью, и старый добрый Специальный Тридцать Восьмого Калибра начинает барабанить в нее. Человек, который встречает нас, – отец Гудштадт, монах лет пятидесяти, с телосложением и физиомордией чикагского мясника, и, похоже, самый тут главный котяра. Голова отца Гудштадта – баллон, налитый кровью, гладкий красный пузырь с гусиными потрохами вместо глаз и огромной мясистой шишкой вместо носа, которую неведомый хирург отрезал, видимо, от внутренностей быка и прилепил к лицу человеческому. Добрый падре являет собой дымящийся кровавый человеко-пудинг, впрочем, ужасно хитрый. Если его внешний облик навевает мысль о бойне где-нибудь под Гамбургом, то внутри его корпулентной фигуры таится целый Гейдельбергский университет.
Он не слюнявил сигару во рту и не встряхивал ее, а держал подолгу в нескольких дюймах от губ, пока столбик пепла не достигал опасной длины. Он потягивал бренди с таким видом, будто занимался утомительным, но приятным интеллектуальным делом. Его самые простые по смыслу высказывания напоминали отрывки из университетских лекций по физике. Не содержание его речений, напыщенных и сложных для понимания, производит на вас впечатление, а весомость произносимого им. Слова его имеют ощутимый вес, они тяжелы, как камни. Язык его густ и плотен. Тогда как произносимые другими людьми слова кажутся сооружениями из холста и картона, предложения отца Гудштадта производили впечатление зданий из кирпича и стали. Когда ему рассказали о моей встрече с двумя монахами, он разразился добродушным смехом славного дедушки Санта Клауса, смехом, напоминающим грохот перекатываемых по комнате валунов. Рассказ о том, как я двумя ударами вырубил брата Бостона, привел краснорожего ублюдка в восторг. Мне кажется, что, если бы я сломал вышеназванному брату шею, главный падре, наверное, лопнул бы от смеха. Однако его веселье резко идет на убыль, когда выясняется, что я имел неосторожность временно посеять «документы» в лесу. Он проводит дискурс на тему беззаботности. Краткий дискурс – но весом тонны в четыре.
Затем при помощи увеличительного стекла проверяет печать на пакете с «моими» документами. Удовлетворившись осмотром, ломает печать и знакомится с содержимым пакета. Чтение бумаг – ох как хотелось бы мне знать, что там! – длится, как мне кажется, целую вечность. Гудштадт то и дело останавливается, чтобы сделать глоток бренди или пыхнуть сигарой. Наконец он разделяет бумаги, укладывает большую их часть в ящик своего письменного стола и возвращает мне то, что оказывается паспортом.
– Здесь содержится много свидетельств того, что ваше задание в Майами выполнено вполне успешно, – говорит отец Гудштадт. – Брат Батон Руж много пишет о ваших выдающихся талантах. Вы отличились в глазах Марии, Бога и Церкви. Хорошая работа. Славно. – Он встает из-за стола и протягивает мне свою огромную ручищу размером с ногу ягненка. – Добро пожаловать в монастырь Рысьего Ручья, брат Даллас! Теперь вы полноценный член Общества Фелиситатора, и вскоре мы устроим торжественную церемонию по случаю вашего вступления в наши ряды. А пока брат Бостон и брат Ньюарк проводят вас в вашу келью. Постарайтесь не напугать брата Далласа, брат Бостон! Хо-хо-хо!
Нет, это был не смех, а настоящий горный камнепад.
Вот так, мои дорогие, все и произошло. Прошло всего несколько секунд, и я оказываюсь на моей походной коечке в убогой келье, где имеется также шкафчик для одежды, стол, столик для умывания и циновки-татами на деревянном полу. И тут я задумываюсь над тем, не вознамерился ли проницательный старый мясник поиграть со мной в какие-нибудь свои хитрые игры. А вдруг он разглядел под маской моего притворства истинную суть дела? Хотя, конечно же, теперь я знаю, что это не так. Я их надул! Да, да, именно так. Теперь я живу в монастыре, где в результате целой цепочки совершенно безумных событий меня считают братом Далласом, Техасским Каратистом, новоиспеченным членом Общества Фелиситатора – жутчайшей банды монахов-громил, готовых убивать во имя Христово, каких не было у Святого Престола начиная со Средних веков. Если судить по паспорту, брату Далласу исполнился тридцать один год. Мне же совсем недавно стукнуло тридцать. Разница несущественна. Рост брата Далласа, согласно документам, шесть футов три дюйма, а вес – 200 фунтов (примерно столько же весит самая слабая отрыжка отца Гудштадта). Мой рост – шесть футов один дюйм, а вес – 189 фунтов. По телосложению я вовсе не напоминаю рахитичного цыпленка, так что разница в нашем с братом Далласом росте не бросается в глаза моим новым духовным собратьям. Брат Даллас родом с Юга, в моей речи тоже слышен южный акцент, причем, слава богу, натуральный – я думаю, что Гудштадт сразу бы распознал имитацию протяжной южной гнусавинки в голосе. Мою репутацию каратиста, опять-таки, к счастью, я подкрепил при первой встрече с монахами, когда продемонстрировал на одном из них якобы приемы якобы прославленного восточного единоборства. Кроме того, судьбе было угодно, чтобы я оказался в нужном месте в нужное время – в тот день, когда ожидалось прибытие настоящего брата Далласа со всеми необходимыми документами. Только представьте себе! Судьба все-таки, видимо, благосклонна к старине Перселлу.
В довершение всего как знак доверия я получил поручение доставлять в монастырь всевозможные припасы. То есть я вместе с одним чуваком по имени брат Омаха раз или два в неделю езжу на освященном джипе в Хамптьюлипс и делаю покупки в тамошнем супермаркете. (На днях, вскоре после моего прибытия, мне довелось съездить в Абердин, чтобы купить какую-то деталь коротковолнового радиопередатчика. Именно в этот день в своем абонентском почтовом ящике я и нашел ваше письмо, в котором вы рассказываете о вашей затее с венскими сосисками и придорожном аттракционе, и в тот же день отправил вам открытку.) В Хамптьюлипсе нас, монахов, воспринимают вполне адекватно. Та часть местных жителей, что не являются ни пьянчугами, ни индейцами, относится к нам с веселой елейностью, а те, что пьянчуги и индейцы – кстати, их среди местных большинство, – с демонстративным равнодушием. В мой самый первый поход за бакалейными товарами я тайком отправил писульку в Абердин, в «Баварскую Автомобильную Компанию», и велел им оставить мой автобус на хранение. Другое письмишко я отправил на лесопилку. В нем я сообщил, что отплыл на солнечный островок в Средиземном море, где буду жить в цыганской пещере с одной бывшей нашей американской студенточкой, а причитающиеся мне денежки попросил перечислить в фонд Армии Спасения.
Так что теперь я здесь. Внутри военизированного монастыря. А вы сейчас, наверное, спрашиваете в один голос: «Ну и что, совсем того?!» А я, глядишь, сумею-таки убедить вас, что вовсе я не осел, а может, и не сумею, но когда тут, в лесу, опускаются сумерки и становится темно, каждый раз, когда где-то рядом вдруг хрустнет ветка, у меня волосы дыбом на голове становятся. Так что новым подробностям моего рассказа придется подождать, пока я сяду за следующее письмо.
А вы, друзья мои, тем временем будьте осторожны. Удачи вам с вашим зверинцем и сосисками. Брат Даллас милостиво благословляет вас, но, пожалуйста, не пишите ему, потому что, если остальные братья поймают его на попытке связаться с внешним миром, они выроют в его голове ямку и похоронят в ней его башмаки.
Люблю. Целую. Плаки П.
– Ну, – спросила Аманда. – Что ты на это скажешь?
– А ты что на это скажешь? – вопросом на вопрос ответил Зиллер.
– Ну, я не знаю. Ты мог бы подумать, что Плаки Перселл решил попотчевать нас изысканным перфомансом собственной фантазии. Если не считать того, что ты знаешь, что он говорит чистую правду. Поэтому ты мог бы подумать, что Плаки занимается саморазрушением и намеренно засунул голову в пасть Церкви, зная о том, что зубы у нее отнюдь не резиновые. Или ты мог бы подумать, что Перселлу посчастливилось – или он просто имел наглость – прикоснуться к тайне настолько грандиозной, что она способна сотрясти основы христианства на расстоянии от Хамптьюлипса до Рима. Что он находится на самой ее вершине, и знает об этом, и не спустится вниз до тех пор, пока не попадет туда, куда ему надо. Или ты мог бы подумать, что эта необычная и интересная ситуация может в конечном итоге повлиять на наши с тобой сферы деятельности. Ты мог бы подумать, что наш долг – добраться туда, где находится Перселл, пока с ним не случилось что-нибудь действительно недоброе. Ты мог бы подумать, что чему быть, того – в соответствии с божественным предначертанием – не миновать, и что мы не имеем права вмешиваться, а должны сидеть на наших удобных местах и спокойно наблюдать за происходящим. Или еще ты можешь подумать, как думали другие до тебя, что я молодая и очень любопытная особа.
Аманда застенчиво улыбнулась и наклонилась, чтобы подобрать с застеленного персидским ковром пола игрушку, оставленную там малышом Тором. Нагнувшись, она почувствовала, как затрепетали ласточки под сводами купола ее чрева.
Зиллер ничего не ответил, отправился к своим барабанам и начал легонько по ним постукивать. Он ударял по ним, он колотил по ним, он выбивал из них дробь, он ласкал их поверхность, извлекая из них долгий, протяжный звук. Он набросил гирлянду высокого, ясного тра-та-та на шею первобытного бухающего ритма, который подобно цепной реакции рокотал всю дорогу обратно по брюху животного, чья мембрана и дала жизнь пустому кругу барабана.
– Вся вселенная – совокупность ритмов, – размышляла Аманда. – Каждый из нас ощущает необходимость отождествить ритмы своего тела с ритмами космоса. Море – это огромное средоточие ритмов. Вихри ветра, атомные орбиты – ритмичны. Женская матка, сильный мускулистый орган, сокращается при рождении ребенка. Ритмические сокращения – это важный стимул для появления младенца на свет. Именно с ритма все и начинается.
Если игра Джона Пола на барабанах и не пролила свет на тему Плаки Перселла и таинственных монахов, то по крайней мере позволила Аманде вникнуть в музыкальность человеческого поведения. Кстати, к вашему сведению: действия подобно звукам делят поток времени на ритмические отрезки. Большая часть наших действий и поступков происходит регулярно, им не хватает динамизма, и они не акцентированы. А вот случайные поступки, подобные проникновению Плаки Перселла в монастырь Рысьего Ручья, акцентированы в силу их высокой интенсивности. Когда рождается акцентированный ритм, связанный с одним или несколькими неакцентированными, возникает некое ритмическое целое. Ритм – это все, что содержит длительность энергии. Качество человеческой жизни зависит от ритмической структуры, которую он может навязать входу или выходу энергии. Энергия равна произведению массы, помноженной на квадрат скорости света. Эйнштейн прекрасно понимал то, что имел в виду Торо, когда говорил, что человек «слышит бой другого барабана». Обратите внимание, Торо не сказал ничего ни о саксофонах, ни о фисгармонии или казу. Зато обратите внимание на то, что он употребил слово «барабан». Барабанщик имеет дело исключительно с ритмом и таким образом является архитектором энергии. Искусство не бесконечно. Бесконечна только энергия. Барабан для бесконечности – все равно что ноль для бабочки.








