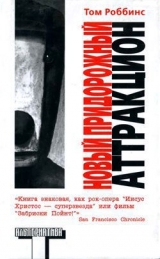
Текст книги "Новый придорожный аттракцион"
Автор книги: Том Роббинс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Это был очередной придорожный аттракцион. Однако по рекламному щиту трудно судить, насколько он отличался от сотен ему подобных, что выстроились вдоль дорог Америки (словно игрушки на извивающихся асфальтовых полках).
Придорожный аттракцион – 2 мили
Вот и все, что говорилось на нем. Правда, второй щит уже сообщал кое-какие подробности.
Живые змеи!
Остановитесь посмотреть на редкие виды пресмыкающихся!
Змеи, Которые Скоро Исчезнут с Лина Земли!
Обеды. Соки
1 миля
Третий шит был уже гораздо более внушительным. Наверное, потому, что его венчало гротескное изображение какого-то насекомого с выпученными глазами.
УБИЙЦА МИЛЛИОНОВ!
Страшная Муха lieue!
БЕСПЛАТНО Заповедник природных видов БЕСПЛАТНО
Хот-доги. Фотопленка
600 ярдов
И хотя тогда я не сразу это заметил, рекламные щиты были специально поставлены так, чтобы не портить живописные ландшафты (овощные плантации, речки и каналы и даже кольцо поросших лесом холмов и фиолетовые горные вершины вдали). Это было особенно верно для четвертого щита, в красно-желтых тонах, почти произведения искусства.
Блошиный иирк
Потеха для молодых и старых
Посмотрите забеги миниатюрных колесниц!
Полюбуйтесь на славную блоху Бен Гура!
Обеды и фруктовые соки – 300 ярдов
Последний щит представлял собой краткое изложение информации предыдущих, правда, с одним весьма экзотическим добавлением.
ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РЕПТИЛИЙ!
КРЫЛАТАЯ АФРИКАНСКАЯ УБИЙЦА!
БЛОШИНЫЙ ЦИРК
Смысл смысла
БЕСПЛАТНО – 100 ЯРДОВ
Знаток Америки и всего американского либо фанат поп-культуры наверняка узреет в этих рекламных щитах нечто притягательное и поэтическое. Расставленные вдоль всех дорог страны, они, словно перебинтованный большой палец, манят к себе путешественника, обещая ему сомнительные удовольствия (за исключением совершенно не к месту вставленного обращения к смыслу). Что до меня самого, то я отношу себя к людям мыслящим, как по складу характера, так и по предпочтениям. Лично я во всей этой жуткой навязчивой рекламе нахожу для себя лишь крохи интеллектуальной пищи. И все-таки готов признать: и в ней есть нечто значимое.
Было время, когда американцы сидели по домам. По крайней мере для большинства из них путешествия были редки и непродолжительны. Как следствие – живые развлечения сами приезжали к ним. Цирк, карнавальное шествие, собачки и пони, представления в духе Дикого Запада, карлики и уродцы, передвижная анотомическая выставка, зверинец – все они, колеся по раскисшим дорогам, время от времени наезжали то в один городишко, то в другой, привозя с собой кусочек далеких мест, куда домоседам не выбраться за всю свою жизнь. Причем не просто экзотику или заморские диковинки, но целый мир приключений, красивой жизни, любви и моды. Но мы переселились в большие города, утратили былую бесхитростность и, что самое главное, обзавелись четырьмя колесами – так что на месте нам теперь не сидится, – и бродячие аттракционы постепенно захирели. А все-таки было в них нечто такое, что влекло к себе, это ни с чем не сравнимое обещание волшебства, экзотики, чего-то ранее неизвестного и загадочного, иначе с чего бы им так расплодиться вдоль американских дорог. Сегодня этим сомнительным увеселениям нет нужды добираться до нас – мы добираемся до них сами.
Остановка. Впереди. Через пятьсот ярдов. Давайте к нам, любители пощелкать фотоаппаратом! Пещеры с лежбищем котиков. Скалы загадок. Деревня в стиле Дикого Запада. Настоящие джунгли. Ферма по содержанию рептилий (не хотите взглянуть, как у гремучей берут яд?). Индейские погребальные курганы. Сады аллигаторов. Болотные чудища. Заповедник дикой природы. Африка в миниатюре. Библейский город. Музей Старого Доброго Запада. Ранчо диких животных (где вы еще увидите редкого белого оленя?). Вонь бензина и жирных гамбургеров смешивается с бьющими в нос запахами несчастных полуголодных животных. Жужжит, взбивая молочный коктейль, миксер. Что-то там дребезжит музыкальный автомат. В туалете кто-то спускает воду. Остановка. Остановка для путешествующих, счастливый предлог свернуть с раскаленной ленты дороги на обочину. Место, где мать с детишками могут сходить пописать, где можно размяться, перезарядить «Кодак», отправить открытку и поглазеть по сторонам. Главное – поглазеть по сторонам. Гигантская ящерица. Королевская кобра. Увидеть пистолет Билли Кида. Мастурбирующих обезьян. Шалтая-Болтая из папье-маше. Или – в случае с «Мемориальным заповедником им. капитана Кендрика» – подивиться на блошиный цирк и обнаружить смысл смысла.
Это всего лишь прилавок для продажи хот-догов. Честно говоря, это и все (или почти все). Разукрашенный прилавок для продажи хот-догов. Но ключевое слово здесь «разукрашенный». Должен признаться, что для обыкновенного прилавка, где продают горячие сосиски, это очень даже внушительное заведение.
Начать с того, что одна такая гигантская сосиска размером с доброго кита красуется на крыше. Сделана она из дерева и окружена хороводом нарисованных фигур на нарисованном пейзаже. Кометами и горными пиками. Но первой в глаза бросается именно она, эта сосиска. Ее видать за целую милю.
Желтый фасад строения (архитектура в духе Дикого Запада, включая и высокое декоративное крыльцо) облепили плоские серебристые металлические сосисочки. Они отражают свет элегантной неоновой вывески над ними, преломляя его в радужные переливы. Помимо этой активной оптической деятельности металлических сосисок, которая, безусловно, радует глаз, сам порядок, в котором они размещены по всему прямоугольному фасаду забегаловки, свидетельствует о наличии у хозяев заведения эстетических принципов, что тоже приятно. Каков был композиционный фокус того, кто распределял по местам эти сосиски? Какой теорией он руководствовался, размещая декоративные элементы (а иначе что еще они такое?) так, чтобы они производили тот самый композиционный эффект, который мы имеем возможность наблюдать? Есть в том, как они разбросаны по фасаду, какая-то музыка. Этакая симфония серебристых сосисок.
А окна – на фасаде они на одном уровне с землей – и эти цветные стекла: странные яркие пиктограммы, на которых сосиски превращаются в змей, а те, в свою очередь, в арабскую вязь. Или это все-таки санскрит?
Само здание и автостоянка примостились в окружении полумесяца деревьев. Большинство из них – обыкновенные елки, однако я заметил по крайней мере один кедр – величественный исполин высотой около двухсот футов, раскинувший свои мохнатые ветви едва ли не с математической точностью. Из торца здания под самыми разными углами наружу торчат – да нет, скорее переплелись на манер рук – какие-то деревянные и стальные балки. По всей видимости, эти балки призваны скрыть от любопытных взоров пространство позади придорожного ресторанчика. Хотя, возможно, это тоже декоративные украшения. В любом случае эти частые, темные, перекрещенные, заостренные, изрезанные балки – ужасно похожие на поваленные горизонтально тотемные шесты – словно тянут в разные стороны фасад строения, растягивая его, как резиновый. И если фасад заведения посередине прямо-таки лучится радостью и игрой света серебристых сосисок, то ближе к краям он становится каким-то хмурым, испуганным и загадочным. Торчащие из него балки – все разные: некоторые из них стальные и украшены трубочками фиолетового неона, другие – деревянные и заканчиваются резными фигурами – тут и совы, и девы, и гиппопотамы.
И хотя все еще лил дождь, а мне в срочном порядке требовалось в уборную, где я мог бы выдавить в свою истерзанную прямую кишку живительную мазь, я тем не менее на мгновение застыл перед этим забавным разукрашенным прилавком для продажи хот-догов, чтобы мысленно отметить для себя все те детали, которые только что вам обрисовал. Зиллеры остановились рядом со мной. «Хм-м-м, – в конце концов произнеся, обращаясь к Джону Полу, – мне почему-то казалось, что вы забросили занятие скульптурой».
В ответ он только оскалил заостренные зубы, словно собрался меня укусить, и прошествовал внутрь.
Прежде всего я бы хотел записать мои самые первые впечатления о Зиллерах. Возможно, мне придется ограничиться впечатлением об их внешности, хотя бы потому, что пока еще слишком рано выносить глубокие суждения о характерах. О, если бы мне, пусть даже в ограниченной степени, только удалось остаться верным научной процедуре исследования! Лишь тогда я могу надеяться, что мне удастся достичь воистину долговечной интерпретации действительности. Я постоянно напоминаю себе об этом, хотя в потаенных уголках сердца начинаю все сильнее сомневаться в своей способности применять научные методы в этом конкретном случае. Конечно, в том, что касается Аманды, холодная формальность исключается – это вне всяких сомнений. Более того, если я хочу остаться честен перед самим собой, то не имею права сбрасывать со счетов и такую возможность, что время, когда я был в состоянии рассуждать по-настоящему здраво, давно прошло (если я вообще когда-то был наделен такой способностью). Тем не менее я не до конца уверен, что это так. Свои моменты истины я пережил. С другой стороны, будь я безукоризненно объективен в своих методах (при условии, что мои мотивы совершенно бескорыстны), то каким ветром меня занесло в эту фиглярскую придорожную забегаловку? И тем более – при таких обстоятельствах?
Судя по всему, меня одолевают сомнения. А это, черт возьми, мешает думать. Однако я намерен и дальше прилагать к этому усилия, поэтому позволю себе продолжить рассказ.
Интересно, как бы я стал описывать Зиллера, будь я репортером какой-нибудь бульварной газетенки? Как бы я описал его собственным родителям? А моим бывшим коллегам по институту? Прежде всего на ум приходит такое прилагательное, как… впрочем, нет, что это я. Так нечестно. Такие слова слишком резки для Аманды и слишком мягки по отношению к Джону Лолу. Уж если на то пошло, любые прилагательные в моем словесном репертуаре слишком мягки по отношению к нему. Будь то прилавок для продажи хот-догов в стиле ковбойского рококо или произведение искусства, маскирующееся под придорожный зверинец, – всем этим мирком правит человек столь экзотичный как по внешнему виду, так и по манерам, что даже тот, кто в принципе не питает к нему никакой вражды, наверняка скажет, что Джон Пол – позер, лицедей, ходячая личина. На этой самой ранней стадии игры я пока что не могу притворяться, будто питаю к нему теплые чувства. Нет-нет, я не испытываю к нему неприязни. По крайней мере пока что. Более того, он по-своему приковывает меня к себе. Даже без тарзанских прибамбасов, спутанных волос, без набедренной повязки, кожаных украшений и бус он производит впечатление силы, какое просто невозможно забыть. Эта сила буквально рвется наружу лакричными лучами из его неподвижных глаз, буквально буравящих вам душу. Ничуть не сомневаюсь, что, нацепи он банкирский прикид, эта сила рвалась бы из него наружу с тем же напором. Нетрудно догадаться, что свою репутацию скульптора и музыканта Джон Пол заработал честно. Существует мнение, с которым трудно не согласиться, будто этот человек наделен особым даром, благодаря которому способен добывать поэзию из самых труднодоступных уголков жизни, хотя вместе с тем с трудом верится, что он способен придать этой поэзии подлинное звучание.
Вынужден признаться – для меня он слишком экзотичен. Слишком удачлив. Он чем-то напоминает героя дешевого вестерна, не ведающего сомнений, с пистолетом в руках. Вот он приезжает в городок, неуязвимый паладин, стреляющий направо и налево в первого встречного. Вот он покидает городок – зевая от скуки либо скривив в презрительной усмешке губы.
В те редкие мгновения, когда Джон Пол нарушает свое презрительное молчание, его речь бывает столь ходульна, что я не удивлюсь, если кто-нибудь вообразит, будто сначала он сочинил ее на бумаге, а потом выучил наизусть. Роста в нем почти шесть с половиной футов, и похоже, ему нравится взирать на меня сверху вниз, словно он какое-то божество, король джунглей из кинокартины студии RKO образца 1941 года. Нет, разумеется, он провел в Африке немало времени. Почти Нормальный Джимми клянется, что однажды, когда Индо-Тибетскому цирку не хватало провизии, Зиллер выследил в лесу оленя, догнал его и полоснул ножом по горлу. А на следующий день он встал на берегу горного потока у самых порогов и голыми руками таскал из воды лососей. А еще через день взял в лес свою флейту – в результате три фазана закончили жизнь в котелке с супом. Глядя на Зиллера, в такое трудно не поверить. Но что еще удивительнее, он только что истратил сотню зеленых и немало личного времени, чтобы вызволить меня – человека ему чужого – из-за тюремной решетки. Возможно, причиной всему Аманда, это она настояла, чтобы приехать и забрать меня из тюрьмы. Но ведь Зиллер-то согласился. Так что держись, Джон Пол! Я буду не я, если не попытаюсь раскусить этого человека – в конце концов, именно из-за него я и предпринял в недавнем прошлом столь решительные шаги. А еще я попытаюсь проникнуться к нему расположением. Но истина заключается в том, что легкой дружбы с этим Предводителем Дикарей ждать не приходится. Не стоит даже рассчитывать.
А вот Аманда – совсем другое дело. Она тотчас располагает к себе, тотчас очаровывает и соблазняет, тотчас пробирает до мозга костей, учащает пульс и дыхание. Даже Джон Пол и тот не нашел слов, чтобы описать Аманду. Это, пожалуй, единственное, что ему не удалось. Почти Нормальный Джимми назвал ее как-то раз «религией в себе самой», и я готов признать, что есть в ней нечто неземное; это сквозит в ее мягкости, в ее манере держаться, в ее улыбке, в том, как она словно плывет по воздуху, не касаясь земли. И все же если она и святая, то канонизировал ее понтифик бродяг и цыган. Боже милостивый! Какие цвета она носит! Сколько на ней бус и браслетов! По кольцу на каждом пальце, в том числе на ногах. Ее темные волосы обожжены на концах пламенем костра. Ее жесты полны грации, словно она движется в такт только ей слышимой музыке. В них сквозит одновременно решительность и мечтательность.
Как и у меня, щеки у нее чуть пухлые. Черты скорее резковатые, нежели классические, однако их смягчает выражение воодушевления и добродетели. Ее глаза сияют, словно рисинки в воде. Ее губы торжествует победу над ее передними зубами, которые под углом слегка выпирают вперед, словно вагоны сошедшего с рельсов поезда. Но это не уродует ее, не умаляет ее красоты – наоборот, из-за неровных зубов губы ее постоянно словно слегка надуты. Этот чувственный и капризный рот сотворен для поцелуев, для того, чтобы упиваться им. Этот рот артикулирует гласные, словно они символы плодородия, и мужчинам остается только беспомощно скользить по дуге ее легкого пришепетывания.
Бесполезно даже пытаться описать ее дальше. Ведь я не поэт и не наделен умением объяснить, почему ее небольшие груди столь же соблазнительны, как и молочные железы какой-нибудь пышнотелой красотки. По всей видимости, она околдовала меня (Почти Нормальный Джимми предупреждал, что так оно и будет), так что мне только остается надеяться, что я еще не окончательно утратил рассудок.
Что же касается Зиллеров как супружеской пары, их образа жизни, то выносить суждения пока что преждевременно. Более того, тем самым я скорее бы дал характеристику себе самому, нежели им. Конечно, я бы мог предположить, что сказал бы о них какой-нибудь ученый муж из института. До некоторой степени я мог бы с ним и согласиться. Я ведь здесь не для того, чтобы превозносить Зиллеров, но и не затем, чтобы смешивать их с грязью. Однако боюсь, что мне с ними есть из-за чего ломать копья. Из того, что мне известно об их философии, можно сделать вывод: она заражена романтикой и разной мистической дребеденью. Однако не считай я их фигурами знаковыми, не ощущай я, как сегодня они создают в поэзии то, что завтра станет достижением научной мысли, вряд ли бы отправился вместе с ними… к тому, что считает их частью себя.
* * *
Мои хозяева уложили меня спать в гостиной, устроив из пестрых подушек и лоскутных одеял лежанку на манер аккордеона. Если они надумают взять меня в работники, сказала Аманда, то за домом над гаражом имеются еще две комнаты, которые я могу обустроить по собственному желанию. Конечно, это как небо от земли отличается от моего шикарного люкса при институте. И все равно я, словно жених, жду не дождусь, когда переберусь в эти новые спальные покои.
Спать Зиллеры ушли рано. Признаюсь, даже если я и испытывал к Джону Полу похотливую зависть, обильное кровотечение из моей бедной задницы быстро заставило меня позабыть о ней. Черт подери этот геморрой! Из-за него я состарюсь раньше времени. И пока я лежал у себя (разумеется, на животе), до меня из их комнаты доносились смех и музыка. Подрагивало пламя свечи – в щель под дверью мне были видны его отблески, ноздри щекотал дурманящий дымок благовоний. (Интересно, а их знаменитый бабуин тоже там с ними?) Зиллеры крутили пластинки, какой-то новый, совершенно безумный джаз. Напрягши слух, я расслышал, как Аманда спросила: «Джон Пол, а правда, что Роланд Керк – это переодетый оркестр Каунта Бейси?»
На этом заканчивается серия выдержек из заметок в блокноте Маркса Марвеллоса. Возможно, в дальнейшем автор еще будет время от времени цитировать новые выдержки из них, а может, и нет. В любом случае хотелось бы предупредить читателя не принимать эти записи слишком серьезно. Они были расшифрованы в то время, когда Маркс Марвеллос несколько запутался в собственной миссии и собственных методах и поэтому метался между чисто научным взглядом на вещи и другим, довольно фривольным.
В любом случае такое поведение для парня было не в первой. Видите ли, Маркс Марвеллос – весьма примечательный молодой человек. Он из той породы людей, которые без особого труда оставляют свой отпечаток на лице мира. У него горы мозгов, горы таланта, горы способностей. Однако ему мешает какая-то нездоровая двойственность. Она полуобщипанным альбатросом повисла у него на шее. Еще с тех самых времен, когда он был восьмиклассником-вундеркиндом по физике, Маркс мечтал, что в будущем станет великим физиком-теоретиком того же масштаба, что и Вернер Гейзенберг или Эйнштейн. Увы, как ни мечтал он о великих свершениях, у него никак не получалось заняться наукой всерьез, ни мечтаниями о ней, ни ею самой. Вернее, он мог относиться к ней серьезно лишь до определенного момента или же, например, одну неделю мог, а в следующую – уже ни в какую.
Одновременно он развил в себе второй набор мечтаний, а именно такого свойства, что автор опасается, как бы упоминание о них не посрамило мечтателя. Это были мечты как фиолетовые колибри. Когда они заглядывали в иссушенную лабораторию его обычного сознания, Маркс ловил себя на том, что подхихикивает где-нибудь прямо посередине изящного кеплеровского уравнения либо почесывает у себя в паху, в то время когда, по идее, ему следовало бы почесывать вместилище разума. Эти видения выстраивались рядами на роялях, пожимая руки Эрролу Флинну, либо щекотали щитовидную железу самого мечтателя, доводя его до изнеможения, – сумасшедшие, суматошные, сумасбродные картины, что, словно на батуте, подпрыгивали на брюхе его куда более осмысленных стремлений, оскверняя собой самые подконтрольные ему инстинкты. Таков был второй набор его мечтаний. И конфликт между ним и первым так и не был устранен. До сегодняшнего дня жизнь Маркса Марвеллоса являла собой один сплошной компромисс. Он пока не смог реализовать себя ни как гений, ни как мошенник.
Марвеллос был все еще молод, однако к тому моменту, как жизнь занесла его в придорожный зверинец, успел испытать на себе немало ее сюрпризов. И все-таки надежда не была для него потеряна. Правда, его будущее – это в некотором роде не вашего ума дело. От вас требуется одно – думайте что хотите о его первых впечатлениях о Зиллерах, а мы тем временем поехали дальше.
Собеседование при приеме на работу
I
Под утро дождь прекратился. Зима предприняла последний рывок и тихонько испустила дух. Наутро солнце уже светило вовсю, а небо поражало голубизной. Пока Маркс брился, он то и дело поглядывал в окошко ванной комнаты, любуясь острыми пиками Каскадных гор, торчавшими на востоке из-за округлых холмов предгорий. В то утро Каскадный хребет почему-то показался ему ужасно похожим галерею профилей Дика Трейси. Вот, например, подбородок Дика Трейси – указывает точно на север. А нижняя челюсть детектива снисходительно опушена вниз на Малыша. А вот она же – заискивающе задрана вверх перед Тощим Смитом. А еще дальше – опять же эта самая нижняя челюсть, по-мужски твердая и суровая, смотрит вперед, прямо в полные любви и восхищения глаза Верной Тесс. Была там и целая батарея носов Дика Трейси – они словно принюхивались к свежему воздуху в поисках улик, и еше один очень крупный профиль (гора Маунт-Бейкер), весь в какой-то пене, словно под конец жизни Дик Трейси обезумел от бесконечного истребления разного рода преступников и моральных уродов (Плоской Башки, Грызуна, Уродки Кристины).
Завтрак накрыли на круглом дубовом столе в кухне – вареная лососина под голландским соусом и на десерт свежая клубника в диком меде. Стол был уставлен букетами тюльпанов и нарциссов. Откуда-то сверху из невидимого проигрывателя доносилась нежная мелодия японской флейты. Аманда все это приготовила сама, после того как провела час за утренней медитацией, занимаясь упражнениями по укреплению мышц вагины, на берегах ручья.
За столом присутствовали малютка Тор и Мон Кул. Маркс Марвеллос был сражен пронзительным взглядом мальчика. Было в этих глазах нечто от оголенного провода. Зато выходки бабуина его поразили и позабавили. Маркс потешался, глядя, как, прежде чем отправить ягоды в рот, Мон Кул ловко жонглирует ими, как он чешет вилкой свои бока.
Аманда весело болтала с сыном, время от времени посматривая то на мужа, то на бабуина, то на Маркса Марвеллоса. Она что-то там щебетала насчет будд из морских раковин, о сладких кремовых радугах, о том, что неплохо было бы отправиться в горы пособирать сморчки (Маркс решил, что это, должно быть, грибы). В отличие от нее Джон Пол не проронил ни слова. Зато шумно и неряшливо поглощал свой завтрак – этим в глазах Маркса он мало чем отличался от Мон Кула. Ел Джон Пол исключительно руками, в том числе и ягоды в меду, чем вызвал у гостя крайнее отвращение – тот счел эту вольность омерзительным появлением нарочитого примитивизма. Маркс уже даже собрался отпустить по этому поводу какую-нибудь колкость, но Зиллер сам неожиданно обратился к нему:
– Мистер Марвеллос, как по-вашему, существует ли что-либо между пространством и стеной?
Этот вопрос заставил Маркса внутренне съежиться, ибо оскорбил его даже не до глубины души, а до самых глубин его утробы. Тем не менее он быстро нашелся с ответом.
– Альберт Эйнштейн как-то раз определил пространство как «любовь». И если принять это за точное определение, в таком случае мы имеем полное право утверждать, что, если между любовью и предметом любви существует пространство, способное вместить некий объект, в таком случае то же самое можно сказать и о пространстве и стене.
– Замечательный ответ, мистер Марвеллос. Разрешаю тебе продолжить собеседование по своему усмотрению.
С этими словами Зиллер поднялся из-за стола и направился в дальний угол кухни, где затем принялся снимать с крюков длинные связки сосисок. Было в его точных и размеренных движениях нечто такое, что роднило его с нимфоманкой, срывающей плоды наслаждения с вьющихся лоз своих извращенных мечтаний.
II
Сначала Аманда выпустила Тора и Мои Кула поиграть в рощице за домом, после чего повела потенциального работника по территории заведения. В залитом солнечном светом конце дома, там, где у бывшей его владелицы располагалась столовая, огороженная металлической сеткой, высилась груда камней. Подведя Маркса к вольеру, Аманда пристально посмотрела в лицо гостя, пытаясь обнаружить на нем признаки омерзения.
– Мы всей душой печемся о наших крошках, – доверительно произнесла она. – Их осталось всего не более ста особей, и нам, можно сказать, повезло, что мы смогли взять на себя заботу сразу о нескольких.
Маркс попытался подсчитать количество сан-францисских подвязочных змей, что копошились за металлической сеткой, однако поскольку они только и делали, что извивались между камнями и между собой, провести точную перепись змеиного населения оказалось делом непростым. Штук двенадцать – пятнадцать, решил про себя Маркс.
– Что-то не похоже, что они на грани исчезновения. Вид у них вполне цветущий, – буркнул он.
Блошиный цирк оказался под увеличительным стеклом в выемке специального стола с подсветкой. Маркс Марвеллос не смог скрыть своего восхищения. Все блохи до одной были в костюмах – некоторые одеты в балетные пачки, другие – в латы римских легионеров. Имелась среди них пара в клоунских нарядах, еще одна – наряженная персидским царем, другая – ковбоем. И наконец, одна блоха – в алом шифоновом вечернем платье и желтом парике – ну вылитая Джин Харлоу в миниатюре. В углу под крошечным балдахинчиком были сооружены декорации.
– Блохи – моя радость и моя гордость. Я их лично выдрессировала и сама сшила им костюмы, – поведала Аманда, – но они же и моя главная головная боль. Блохи требуют к себе постоянного внимания, потому что туристам обычно хочется взглянуть на их представление. Нет-нет, я их отлично понимаю. Но мне постоянно приходится ставить новые спектакли, а это довольно утомительно. Например, в иные дни мы устраиваем гонки колесниц практически каждый час, и народ жалуется, если им приходится ждать. Сейчас у меня нет времени показать вам спектакль. Скажу лишь, что мы заставляем блох проделывать все эти фокусы, пуская на них дым. Нет-нет, это совсем нетрудно. Требуется лишь немного практики. Уверяю, из вас тоже получится отличный дрессировщик блох, вот увидите.
Маркс Марвеллос от души расхохотался.
– Из меня? Дрессировщик блох? Интересно, что бы сказали, узнай они об этом, мои коллеги по институту?
– По институту? – удивилась Аманда.
– Да. Просто когда-то я работал в одном исследовательском учреждении. Ист-Риверском институте, если уж быть до конца точным.
Название это ничего не говорило Аманде.
– Надеюсь, вам там нравилось, – произнесла она и повела гостя дальше, к нише с эффектной подсветкой, где на атласной подушке покоился кусок янтаря с мухой цеце внутри. Именно здесь, при свете свечи, отражавшемся зелеными отблесками в фасеточных глазах насекомого-убийцы, Аманда и решила провести вторую часть интервью.
– Вы боитесь змей? – был первый вопрос.
– Ничуть. Когда-то давно, когда мы в школе по зоологии проходили змей, я даже собственными руками ловил щитомордников.
– Вы сумеете правильно давать сдачу? – второй вопрос.
– В колледже я изучал математику в объеме двадцати часов. Надеюсь, мне не составит труда дать сдачу с доллара. Нет, даже с пяти.
Наконец третий вопрос:
– Хватило бы у вас терпения продавать сосиски проезжим водителям, а летом всячески ублажать капризных туристов?
– В свое время психолог в нашем институте сказал, что мазохист во мне виден за милю. Полагаю, этого расстояния достаточно, чтобы разглядеть во мне идеальную кандидатуру для обслуживания туристов.
– В таком случае мне больше ничего от вас не требуется.
– То есть, Аманда, вы хотите сказать, что берете меня на работу лишь на основании того, что вам известно обо мне на данный момент?
– Почему бы нет? Вы отвечаете всем требованиям. Более того, вы мне нравитесь. У вас честное лицо (и еше кое-то поинтереснее, добавила она про себя, глядя на выпуклость под клетчатыми брюками). Кроме того, сегодня утром я справилась о вас по книге «И Шин». Я раскинула стебли тысячелистника и в результате получила гексаграмму Цуй, или Воссоединение. В гексаграмме Цуй образ Озера лежит поверх образа Земли. Это означает, что Озеро грозит выйти из берегов и залить Землю, то есть опасность связана с тем, что кто-то соберется вместе. Но в целом гексаграмма Цуй несет в себе радость, потому что сильным людям только на пользу собираться вместе в едином порыве. Отчего я сделала для себя вывод, что хотя выпавшая гексаграмма и несет в себе элемент опасности, тем не менее мы все только выиграем, если вы согласитесь поселиться с нами. А разве вы интерпретировали бы это как-то иначе?
Маркс Марвеллос насупился словно горгулья, которой до смерти осточертел Нотр-Дам.
– Боюсь, я не стал бы при принятии решений полагаться на дурацкие китайские суеверия, – ответил он. – Скажу честно, на основе вашей «И Шин», или как вы там называете эту свою книженцию, я не взял бы на работу даже говночиста. А уж тем более не соглашусь, чтобы на основании каких-то там гаданий меня брали на должность управляющего вашим заведением.
Аманда явно не ожидала таких резкостей.
– Извините, – пробормотала она, – я не думала, что вы это так воспримите. Вы ведь дружны с Почти Нормальным Джимми. Вот я и решила, что вы разбираетесь, ну или по крайней мере знакомы… со знанием, что лежит вне пределов песочницы эмпирического опыта.
– Стоит Почти Нормальному Джимми завести речь на философские темы, как он тотчас, как и все юные мистики, становится похож на смесь Нормана Винсента Пила и предсказателя из дешевого балагана. А из того, что я сегодня узнал о себе от вас, то и вы недалеко от него ушли. Песочница эмпирического опыта! Это же надо так загнуть!
Однако Маркс Марвеллос вовремя сдержался и поспешил подсластить сарказм елеем.
– Вы не подумайте, у меня и в мыслях не было оскорбить вас! Просто я ученый – в некотором роде ученый, то есть ученый до известной степени, – и привык решать проблемы человечества. И поэтому терпеть не могу, когда в принципе разумные люди пытаются уверить меня, будто им известны средства избавления человечества от его скорбей. Как правило, все это не более чем результаты гадания на кофейной гуще – всякой там йоги, теософии, вегетарианства, дзена, примитивного христианства, летающих тарелок и вертящихся столов.
– Я не пытаюсь вас ни в чем уверить, Маркс Марвеллос.
Голос Аманды позвучал мягко, едва ли не вкрадчиво. Она сделала шаг, и ее грудь под усыпанной блестками вязаной безрукавкой соблазнительно покачнулась. Губы ее были влажными, словно лепестки орхидеи в каплях росы.
– И я не собираюсь искать пути, чтобы избавить человечество, как вы выразились, от его скорбей. Тем не менее, если вы видите конфликт между наукой и мистикой, то я могу сказать лишь следующее. Не стоит отрицать за мистикой объективность, какую вы с такой легкостью приписываете науке. Профессор Карл Юнг был великий ученый, но и он не отрицал того, что «И Шин» – не что иное, как проверенное временем и вполне применимое на практике руководство по теории вероятностей. Я почему-то подозреваю, что ученые гораздо чаше полагаются на случайность, нежели готовы в том признаться нам, простым смертным. И если вы честны – а в этом я ничуть не сомневаюсь, – то должны признать, что гоже время от времени руководствуетесь интуицией.
Вместо ответа потенциальный продавец сосисок и управляющий зверинцем только пожал плечами. Разговор зашел такой, какого ему как раз хотелось избежать или по крайней мере отложить очень надолго. И теперь Маркс не знал, как направить их с Амандой общение в иное русло. А может, прямиком в постель? Господи, до чего же она соблазнительна! Маркс подумал, что если застынет на месте, не проронив ни звука, то наверняка услышит, как сексуальность так и гудит внутри нее, словно пчелы в улье. Но с другой стороны, это страстное жужжание наверняка заглушит жалобное блеяние его собственного геморроя.
– Послушайте, – решился он наконец, – я весьма польщен, что вы сочли мою кандидатуру подходящей. И если ваша древняя китайская книга, которой уже три тысячи лет, высказалась в мою пользу, то, подозреваю, я должен испытывать благодарность. Признаюсь, мне очень хотелось бы получить эту работу, и поскольку вы мне ее предлагаете, то я говорю, что согласен.
– Маркс Марвеллос, – произнесла Аманда, чуть помедлив, – сначала скажите мне вот что. Что вы за ученый такой, если согласны продавать горячие сосиски и показывать посетителям блошиные бега? Есть ли такая отрасль науки, которая требует прохождения практики в придорожном зверинце?
– Я не ищу работы в любом придорожном зверинце. Меня интересует именно этот.
– Но почему?
– Черт, – вздохнул Марвеллос. – То-то мне показалось, что интервью идет как-то уж слишком гладко. Скажите, моя судьба зависит от ответа на этот вопрос?
– В принципе нет, – успокоила его Аманда. – Что касается меня, то считайте, что я уже приняла вас на работу. Так что, если не хотите, можете не отвечать на последний вопрос. Я задала его лишь из любопытства. Не более того. Но если вы действительно настоящий ученый и у вас была интересная работа в каком-то научном учреждении, то зачем вы приехали сюда, зачем отыскали нас? Да-да, мне не дает покоя любопытство.
Молодой ученый в клетчатом костюме снова вздохнул и перевел взгляд от пронзительных глаз Аманды к складкам ее короткой шелковой юбки.
– Вы позволите, если я не стану ворошить собственное прошлое? Нет-нет, там нет никаких страшных секретов, просто все это не так уж важно. Скажу лишь одно. Начальник моего отдела в университете имени Джона Хопкинса написал на моей диссертации следующее – по сути дела, он отверг ее, а я не стал утруждать себя вторичным ее рассмотрением, – «Гениально, но чересчур легкомысленно». Почему-то такой репутации я удостаивался всегда, в каких бы научных кругах ни оказывался. Стоит ли говорить, что лично я не согласен с такой оценкой.
– Пожалуй, не стоит.
– Хм-м. В любом случае репутация непредсказуемого гения не мешала мне получать очень интересную и достойную работу. Причем не единожды.
– Вас увольняли?
– Не всегда. Нет, один раз все-таки попросили. Но обычно я уходил сам, как только чувствовал, что работа не удовлетворяет моих интеллектуальных запросов.
– Вы мечтали заниматься собственными исследованиями?
– Да. Черт побери, мечтал, и еще как! Я спал и видел, что занимаюсь собственными исследованиями!
Марвеллосу было до некоторой степени неприятно, что его заветные мечты, оказывается, так легко угадать.
– Но у вас не было денег.
– Верно, денег у меня не было. И вообще откуда вам все это известно? Обо мне что, по телевизору передавали?
– Много раз. И что вы такого натворили?
– Ну, скажем, я взял один странный отпуск. То есть в ту пору мне казалось, что это отпуск. Один мой старый знакомый, летчик из Балтимора, обрюхатил одну стюардессу. Но у него была семья, а она затянула с абортом. И тогда этот пилот предложил мне сделку: он платит мне пятнадцать тысяч долларов, если я женюсь на его подружке. Той нужен был муж, чтобы у ребенка был отец и имя. Летчик познакомил нас, мы сходили с ней в ресторан. У нее были огненно-рыжие волосы. Звали ее Нэнси. В постели – сущая юла. Я решил принять предложение друга. Действительно, чем не выгодное дельце? Пятнадцать кусков плюс то, что было у меня самого. Вполне можно было переехать куда-нибудь в провинцию, поближе к природе, взять отпуск на пару лет и посвятить себя разработке собственных теорий. Смотришь, за два года я бы сумел продвинуться со своими исследованиями, и можно было рассчитывать на получение гранта. Звучало заманчиво. Да еще и в придачу красавица жена и ребенок. Я действительно решил, что мне пора остепениться.
Маркс Марвеллос издал очередной вздох и вновь перевел взгляд в сторону мухи цеце, которая возлежала в своем янтарном саркофаге подобно мумифицированному императору некой далекой планеты, недоступной слабым линзам человеческих телескопов.
– Подозреваю, что по какой-то причине ваш план наткнулся на преграду, – произнесла Аманда и направилась открыть входную дверь заведения. Придорожный зверинец был готов к приему посетителей.
– Мы с Нэнси поженились, и я оставил работу. Снял на Восточном побережье ферму и взялся за обустройство собственной лаборатории. Но пилот так мне ничего и не заплатил. Ни гроша. Он перешел работать на трансатлантическую линию, и мне никак не удавалось застать этого поганца дома между рейсами. Через три месяца я был вынужден вернуться на работу, большая же часть моих сбережений вылетела в трубу. Что касается Нэнси, то мы с ней неплохо ладили. Говорила она мало, зато была очень ласковая. То есть я хочу сказать, затрахала меня так, что я почти голову потерял. А еще с ней было ужасно весело. Но как только ребенку исполнилось несколько недель и с ним уже можно было выходить из дому, она слиняла. Да-да, взяла и ушла от меня, не говоря ни слова. Но самое грустное в этой истории, что я успел в нее по-настояшему влюбиться. А ребенок – я ужасно гордился нашей малышкой, словно то была моя родная дочь. Почему вы смеетесь?
– Можете назвать это женской реакцией. Даже если возьмусь объяснить, вам все равно не понять.
– Пожалуй, вы правы. Вижу, вам смешно. То ли будет с вами, когда узнаете, что случилось дальше. Впадете в истерику – обещаю вам. Нэнси подала на развод, и судья присудил, чтобы я выплачивал на девочку алименты. Я их сейчас обязан выплачивать. Восемьдесят баксов в неделю. А для меня это ого-го сколько. Иначе с чего бы это мне с моим геморроем мучить собственную задницу и трястись три тысячи миль через всю страну в автобусе, когда я мог бы спокойно прилететь сюда самолетом? В общем, когда я ушел из института, мне пришлось сменить имя. Как-то не хочется платить свои кровные непонятно за что.
– Сменили имя?
– Ну да. Маркс Марвеллос – это не совсем то, как меня звали прежде.
– Жаль. Звучит очень красиво.
– Рад, что вам нравится. В общем-то и мне тоже. А знаете, как я его себе выбрал?
– Понятия не имею.
– Когда я решил сменить имя, то подумал, что мне нужно нечто большее, нежели просто новое покрытие изношенной поверхности моего «Я». Нет, мне требовалось нечто такое бунтарское, что бросало бы вызов обществу, что посредством броского наименования выражалобы некую идею. И в этом своем стремлении самоутвердиться я спросил себя: а что мои коллеги по институту – да что там, большинство американских мужчин моего возраста и экономического положения – ненавидят больше всего? Что вызывает у них наибольшую неприязнь? Ответ нашелся довольно быстро – коммунизм и гомосексуализм. Коммунисты и гомосексуалисты – вот кто вызывает скрежет зубовный рядового американского мужика. Отсюда нетрудно понять, почему я в своем стремлении бросить обществу вызов выбрал для себя имя Маркс. С фамилией дело обстояло сложнее. Не мог же я назвать себя Маркс Гомик или Маркс Педик. Или какой-нибудь там Маркс Голубой. Но зато мне вспомнилось, что я где-то читал, что ни один уважающий себя мужик никогда не употребит в своей речи такого прилагательного, как «марвеллос», [11]11
«изумительный». – Примеч. пер.
[Закрыть]у него просто язык не повернется произнести такую гадость. Этим словом пользуются разве что хореографы и декораторы, а для настоящего мужика, будь он трудяга в комбинезоне или бизнесмен у себя в офисе, слово это сродни розе за ухом или бархатной сетке для волос. Вот я подумал, а не взять ли мне на вооружение словечко-изгой, сделав его как бы именем моего предка. И вот я перед вами – Маркс Марвеллос. – Маркс умолк, ощущая, как обезьяньи пальцы стыда и позора тянут вниз его веки. – Согласитесь, что для настоящего ученого подобная романтика как-то противоестественна.До этой последней фразы Аманда слушала рассказ гостя, затаив дыхание от восторга. И поэтому бросила на Маркса укоризненный, но в то же время добрый взгляд – так матери смотрят на детей, вторично совершивших глупую ошибку.
– Бедный Маркс Марвеллос, – проворковала она. – Ну кто бы мог подумать, что у вас тут пунктик. Неужели вам не понятно, что романтика – не больший враг науки, чем мистика. Более того, я бы сказала, что наука и романтика идут рука об руку. Ученый удерживает романтика от лжи, романтик помогает ученому сохранить в себе человека.
– Это еще требуется доказать, – упрямо буркнул Марвеллос. Однако было заметно, что у него отлегло от души.
Аманда же просто покачала головой.
– Как бы там ни было, – произнесла она, – по вашему виду не скажешь, что вы так уж несчастны. Глаза у вас спокойные и веселые. – И она вновь перевела взгляд на выпуклость в его клетчатых брюках. – Несмотря на все ваши приключения и причуды, вы мне симпатичны. И если Джон Пол будет не против, я с радостью познакомлюсь с вами поближе.
Нервная система Маркса моментально превратилась в некий аморфный экран, на который бесконечной чередой проецировались кадры фальстартов. Ему показалось, что его погрузили в чан с теплым тягучим сиропом. Его мозг отчаянно пытался подыскать для языка подходящее слово, для рук – подходящее направление движения, но вместо этого он лишь глубже погружался в липкий тягучий сироп и так и не сумел сказать в ответ на предложение Аманды что-либо внятное. Поэтому затянувшуюся липкую паузу она нарушила первой.
– Нэнси своим уходом нанесла вам душевную травму, не говоря уже о том, что вы пострадали от финансовых последствий этого вашего, с позволения сказать, брака. Однако насколько я могу судить, вы не предприняли попыток самоубийства и не спились. Чем вы можете объяснить тот факт, что вы не утратили благоразумия? Или справиться с жизненными неурядицами вам помогла наука?
Ага, разговор принял новое направление, однако Маркс не знал, радоваться этому или огорчаться.
– Как сказать, – начал он. – По крайней мере не эта ваша дурацкая «И Шин». Это уж точно. Мне повезло. Когда я после неудавшегося отпуска вернулся к работе, то нашел себе место, для которого просто был создан. Да-да, впервые за всё время у меня была работа, где я мог полностью реализовать мои таланты, которая, по крайней мере первое время, приносила мне душевное удовлетворение. Я имею в виду Ист-Риверский Институт Неограниченных Интеллектуальных Возможностей.
– Если не ошибаюсь, вы уже упоминали это название, – произнесла Аманда, сидевшая в позе лотоса перед алтарем с мощами усопшей мухи цеце. – Что он собой представляет?
– Это мозговой трест.
– Хм-м. Мне уже доводилось слышать это выражение. Однако я с трудом могу вообразить, что это такое.
– Мозговой трест – закрытое научное и учебное учреждение, своего рода университет, только без студенческих аудиторий. Да и сами студенты – не студенты в привычном смысле слова, а гигантские корпорации, правительственные агентства и главы государств. Но вижу, это мало что вам говорит. Хорошо, попытаюсь объяснить с другой стороны. Жизнь в двадцатом веке гораздо более сложна, нежели нас хотели бы уверить в том газеты. Технические достижения распространяются с поразительной быстротой и в самых разных направлениях – как геометрически, так и географически, – что, в свою очередь, ведет к резкому усложнению нашего бытия. И чтобы как-то справиться с губительными последствиями этого небывалого технологического роста, правительства и корпорации – да что там, все человечество – вынуждены иметь доступ ко всевозрастающему объему информации. Они вынуждены просеивать ее, сортировать, раскладывать по полочкам, использовать те ее части, что имеют отношение к насущным проблемам, и на ее основе делать прогнозы на будущее, К счастью, в правительстве и в промышленности имеются светлые головы, которые отказываются принимать тот подсахаренный, отлакированный образ действительности, что нам пытаются преподнести газеты. Они еще несколько лет назад поняли, чем чревата современная ситуация. Именно эти люди стали инициаторами создания мозговых трестов – тихих закрытых научных учреждений, в чьих стенах собраны высокоинтеллектуальные мыслители. Ввиду отсутствия в мозговых трестах жестких академических оков их опыт научной работы и склонность к рассуждениям могли быть использованы для разработки перспектив развития в любой заданной области. На основе рекомендаций этих ученых мужей можно составлять научные прогнозы, разрабатывать конкретные программы действий, принимать те или иные меры. При такой организации дела исключаются ошибки планирования, теряют смысл устаревшие или, наоборот, преждевременные методики, устраняется возможность скороспелых, непродуманных выводов. Нет, мозговые тресты не принимают судьбоносных для западного мира решений, они просто дают советы и рекомендации тем, от кого эти решения зависят. И в том, что касается выработки политической линии, как у нас в стране, так и за рубежом, влияние мозговых трестов не сравнимо ни с чем.
Ист-Риверский институт в Нью-Йорке – один из таких мозговых трестов, в числе его клиентов – правительства и крупнейшие корпорации. Господи, какое удовольствие там работать! А какие умы там собраны! А тамошний начальник, директор то есть, просто обожает нанимать на работу, как он выражается, «чокнутых гениев», то есть мыслителей даровитых, но одновременно чересчур эксцентричных, неуживчивых или просто больших фантазеров. Наверное, и меня тоже только поэтому туда и взяли. Меня порекомендовал один профессор из университета имени Джона Хопкинса, даже несмотря на то что я так и не защитил диссертации. По его словам, я был «ученый блестящий, но непоследовательный». Что ж, может, он и прав. Работа мне ужасно понравилась, я прямо-таки был для нее создан. Разумеется, я не играл там первой скрипки, а всего лишь занимал скромную должность младшего научного сотрудника. Но работал я хорошо, так что проблем не возникало. До того момента, как… до того, как… До моего последнего поручения. После чего мне никак не удавалось собраться с мыслями… относительно ряда вопросов… и по причине… кое-каких вещей… что не давали мне покоя, в общем, я решил уйти. Случилось это несколько недель назад.
В заведение ввалилась группа водителей-дальнобойщиков, но как только Джон Пол поставил их в известность, что здесь не подают их излюбленный утренний наркотик, а именно, кофеин, они, не раздумывая, удалились, недовольно чертыхаясь себе под нос. Было в них что-то от раздосадованных медведей. Помимо них, в «Мемориальном заповеднике имени капитана Кендрика» за все утро не побывало ни души.
– А теперь ближе к делу, – произнесла Аманда. – У меня такое чувство, что сейчас я узнаю, что заставило вас бросить карьеру и искать убежища в нашем крошечном зверинце. Кстати, присаживайтесь. – И она похлопала по полу рядом с выставленным напоказ нежным розовым бедром.
В ответ на это предложение Маркс Марвеллос похлопал себя по пятой точке.
– Мое болезненное состояние требует, чтобы я сохранял вертикальное положение, – сказал он. – Право, мне так удобней.
– Как пожелаете, – улыбнулась Аманда. Она попыталась поддернуть юбчонку, однако вследствие малых размеров сего красно-серебристого одеяния, а также позы, в которой она сейчас пребывала, ей так и не удалось скрыть выставленных напоказ трусиков. – Продолжайте. Так в чем же заключалось ваше последнее задание?
– Обычно Ист-Риверский институт занимается исследованием конкретных проблем и ситуаций, – начал Марвеллос. – Например, госдепартамент и министерство обороны подписали с нами совместное соглашение по Исландии. Им хотелось выяснить, каково место этой страны в современном мире и каковы шансы, что в будущем она способна стать угрозой для Америки. Учитывая историю Исландии, ее этнический состав, современные темпы экономического роста, научную деятельность и политические амбиции, какова должна быть долгосрочная политика Америки в отношении этой страны? На семинарах, проходивших два раза в неделю, мы обменивались полученной информацией и пытались ее осмыслить. При этом мы питались рыбьими головами, запивали нашу трапезу медом, слушали исландскую музыку и как бы тем самым погружались в исландское бытие. Мы даже врубали кондиционеры на полную мощность, чтобы на собственной шкуре ощутить все прелести исландского климата. Замдиректора жутко тогда простудился и пропустил целых десять дней. Исследование, как вы понимаете, было высшей категории секретности, так что, рассказывая о нем, я сейчас выдаю государственную тайну. Однако, надеюсь, в общих чертах вам понятно, чем мы там занимались?
– В целом – да. Звучит ужасно внушительно, – отозвалась Аманда и негромко хихикнула.
Или чихнула? Маркс так и не понял.
– Главное – отрешиться от привычного состояния дел, взглянуть на веши под неожиданным углом, – пояснил он, словно пытался отстоять свою правоту. – И если наука способна помочь человеку в этом, то таков ее долг. Ладно, вернемся к тому, о чем мы только что говорили. Месяцев шесть-семь назад институт получил заказ на исследование совершенно иного рода. А началось все вот с чего. Кто-то из правительственных шишек обнаружил, что Соединенные Штаты заносит куда-то не туда. То есть весь этот внутренний разброд, все эти метания, решил он (кстати, в отличие от журналистов, которые, как правило, видят лишь разрозненные события), все эти взрывы недовольства – звенья одной цепи и свидетельствуют о том, что страна поражена болезнью, причем основательно. А все потому, решил он, что Соединенные Штаты отошли от протестантской этики, которая когда-то и взрастила страну. То есть мы, как он выразился, «утратили благодать Божию». Свидетельство тому – разброд и упадок в культуре, политике, экономике. И за всем этим он узрел крушение традиционных христианских ценностей.
И хотя его анализ текущей ситуации не отличался глубиной по сравнению с тем, чем нас обычно пичкает пресса с ее фрагментарной трактовкой происходящих событий – мол, каждое из них является следствием какой-то одной отдельно взятой причины, – в проницательности этому парню никак не откажешь. Не стал он и как попка повторять излюбленный довод наших тупиц, что-де любой сбой нашей системы есть следствие коммунистического заговора. Согласен, его точка зрения наивна, в чем-то ей не хватает четкости, но по крайней мере она всеобъемлюща, и он не пытается все свести к проискам коммунизма. В принципе этот парень близок к трезвым и взвешенным суждениям. Нет, он еще не достиг их, но уже, что называется, на подходе.
Так вот этот светлый политический ум склонил кое-кого из ключевых фигур в правительстве на свою точку зрения. После чего под эгидой министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения правительство выделило несколько сотен миллионов долларов налогоплательщиков на то, чтобы поставить диагноз самому себе. Оно попросило Ист-Риверский институт выяснить, что же неладного творится с Америкой. Почему вдруг обесценились традиционные ценности? Почему мы как народ одержимы чувством вины, отчего нас терзает тревога, отчего мы склонны к насилию? Почему невозможно избавиться от ощущения, будто нация, с которой по богатству и влиянию не сравнима никакая другая, неожиданно, что называется, обтрепывается по краям и трещит по швам. Куда улетела великая птица христианства, под чьими распростертыми крылами мыкогда-то чувствовали себя в безопасности? Почему мы, и это-то с нашими бомбами и церквями, охвачены страхом? И в чем искать причину социального разложения и упадка, ведь их уже невозможно отрицать? Вы снова смеетесь.
На сей раз Аманда точно хихикнула.
– Смеюсь, – призналась она. – Но не обращайте внимания. Прошу вас, продолжайте.
Из ее трусиков наружу выглянул завиток волос и расправился на нежной коже бедра, словно ленточка серпантина. Маркс Марвеллос с трудом оторвал взгляд от этого зрелища. Господи, с каким упоением он бы ринулся в бой, прикрепив этот завиток к своему знамени! В какой-то момент это сладостное видение лишило его дара речи.
– Продолжайте, – напомнила ему Аманда.
– Хм-м… ах да. Боюсь, однако, что я занимаю ваше драгоценное время. Полагаю /вы сейчас должны помогать Джону Полу на кухне.
Аманда перевела взгляд на пуэрто-риканские часы на стене – инкрустированные, с распятием и кукушкой.
– Наплыв посетителей начнется минут через пятнадцать – двадцать, – произнесла она. – После чего мне надо будет заняться зверинцем и, возможно, помочь за прилавком. Впрочем, мы торгуем только соками и хот-догами, особой помощи на кухне не требуется. Так что, прошу вас, продолжайте.
– Хорошо. В общем, дело было так. Институт взялся изучать, что творится с Соединенными Штатами. Мы рассмотрели экономические причины, социальные причины, но главный акцент сделали на религиозных. Положив в основу нашего исследования мысли того парня из правительства (не имею права назвать вам его имя), мы попытались определить, не кроется ли причина нынешнего упадка и разобщенности страны в утрате ею духовных ценностей. Не скажу, чтобы эта гипотеза была такой уж надуманной. В конце концов, человека здорового в духовном плане не так-то просто сломить жизненными неурядицами. То же самое можно сказать и о нации в целом.
Моя часть исследования заключалась в сборе фактов. Из-за моей юношеской внешности (хм-м) меня выбрали работать под псевдонимом в молодежной среде. Я провел около полугода, выполняя этот задание. Я бывал в церковных объединениях и воскресных школах, я играл в лото, пел в хоре, дул в неимоверных количествах пунш из смеси имбирного пива с лимонным шербетом, от чего порой казалось, что у меня вот-вот лопнет мочевой пузырь. Страшно вспомнить все эти церковные сборища! С другой стороны, я не обошел вниманием и студенческие кампусы, коммуны, рок-фестивали, гетто. Там я отплясывал, участвовал в сидячих забастовках и пикетах, покуривал травку, бросался камнями в полицейские машины, а также участвовал в сожжении трех деканов и двух судей – вернее, их чучел. Надо сказать, все эти веши были куда увлекательнее, чем чертово лото.
– Вы сразили меня наповал, мистер Марвеллос. Такой прыти я от вас не ожидала.
– Приберегите сарказм на потом. Думаю, вам будет интересно узнать, что именно тогда судьба вновь свела меня с Почти Нормальным Джимми, вернее будет сказать – я налетел на него в Нью-Йорке, в толпе Нижнего Ист-Сайда. Я знал его давно, еще по университету Джона Хопкинса, где был его куратором в рамках программы «Лучший ученик года». В свое время я тоже удостоился чести быть названным лучшим учеником года в области естественных наук. Когда же мне было двадцать четыре, Почти Нормальный Джимми получил звание «Лучший ученик года в области экономики», и меня назначили его куратором. Господи, до чего же у парня была светлая голова! Да из него бы вышел второй Джон Пирпонт Морган! Позднее, на втором курсе университета, он разработал собственную систему, благодаря которой его профессор маркетинга положил себе в карман на биржевых спекуляциях семьдесят пять тысяч баксов. Увы, какой-то шизанутый отшельник в Аризоне как-то раз накормил парня гнусными поганками, и с тех пор Джимми стало не узнать. Он бросил учебу и вообще махнул на все рукой. Если не ошибаюсь, какое-то время подвизался в шоу-бизнесе. Когда я видел его в последний раз, он находился в пути. Правда, не к звездам и не к славе. Вряд ли он меня узнал. Сказал, что держит путь в Гималаи, чтобы там показывать фильмы о Тарзане далай-ламе. Бедный близорукий поганей! Правда, думаю, он не единственный юный гений, кто загубил свои драгоценные мозги наркотиками. А этого паразита-отшельника из Аризоны мало обвалять в дегте и перьях.
Аманда сидела не шелохнувшись. Однако если Маркс Марвеллос вообразил, что тем самым она молча выражает свое сочувствие по поводу загубленных мозгов Почти Нормальных Джимми этого мира, то он ошибся. Наоборот, она была во власти воспоминаний о Ба-Ба. Ей вспомнилась его полная летучих мышей пещера, натянутые веревки над огнем, на которых он развешивал для сушки грибы. Дорогой Ба-Ба. Ты был первым. Самым первым. О, чудеса горы Бау-Вау!
Поскольку было понятно, что Аманда ничего не собирается говорить, Маркс вновь оторвал взгляд от вожделенного завитка, который он хотел бы прикрепить к своему боевому штандарту, и продолжил рассказ.
– Мои изыскания – по крайней мере на одном уровне – подтвердили данные, полученные коллегами по мозговому тресту. Увы, все было предельно ясно. Христианская Церковь пребывает в глубоком кризисе. Не заметить это мог только слепоглухонемой. Во время общенационального опроса лишь двадцать пять процентов населения определили себя как истинно верующих. И лишь примерно половина из них была искренна в своих словах. Прежде всего потому, что, даже если человек и посещает церковь, это мало о чем говорит. Но и само посещение церкви резко упало до неслыханно низкого за всю нашу историю уровня. Сомнению подверглось вероучение христианства, каждое его установление. Епископы открыто восстали против диктата Папы, монахинь можно увидеть среди пикетчиков, священники обзаводятся семьями. Многие пасторы сегодня проводят на улицах не меньше времени, чем у себя в приходах. Кроткие евнухи, которые когда-то питались жареным цыпленком и нравоучительными банальностями, неожиданно стали призывать к забастовкам, демонстрациям и гражданскому неповиновению. Теология превратилась в оплот радикализма. Когда-то интеллектуалы-нигилисты донимали священников заявлениями, что-де Бог умер. Теперь же сами теологи – по крайней мере некоторые из них – принялись сочинять Отцу Небесному некрологи. Молитвенные собрания превратились в семинары по экзистенциализму и психоанализу, литургии – в рок-концерты. Из Африки и Азии миссионеров начали выставлять под зад коленкой. То там, то здесь Церкви привлекают к суду, требуя лишить их права неуплаты налогов. Добрая половина тех, кто считает себя христианином, разочарованы в церкви, а все потому, что она слишком велика, слишком далека от рядовых верующих, слишком печется о своем материальном благе. Она стремится поглубже проникнуть не столько в души паствы, сколько в их кошельки. Неудивительно, что половина людей разочарована, потому что Церковь не поспевает за временем. Вторая же половина разочарована потому, что Церковь меняется слишком быстро. Они тоскуют по старой доброй вере, с ее утонченным мистицизмом, не оскверненным проблемами бренного мира.
В этом месте Маркс Марвеллос сделал паузу.
– Не знаю, почему я вам все это рассказываю. Если вы хотя бы просматриваете периодические издания, вам самой все это известно.
– В принципе, – зевнула Аманда, – я читаю только одно периодическое издание – «Журнал Лепидоптеры». Эл издает его в Суэце, и ему нет дела ни до какого христианства.
– А-а-а, – протянул Маркс Марвеллос. – Вот как? В таком случае я, наверное, сообщил вам нечто такое, чего вы не знали, хотя, сказать по правде, с трудом верится, как можно жить в этой стране и не замечать того, что в ней происходит. Даже слепой и то заметил бы. Ну ладно, когда все стадии изысканий, в том числе и моя, завершились, вывод был очевиден: Христианская Церковь как общественный институт изжила себя. Она утратила точки соприкосновения с реальной жизнью и пребывает в глубочайшем кризисе. Спорить с этим было невозможно. А вот затем наши мнения с коллегами разошлись. Так, например, большинство из них связали это шараханье Церкви из стороны в сторону с тем, что они называли общим снижением в обществе этических принципов. Мои же полевые изыскания склонили меня к несколько иным выводам, а именно: что пресловутое моральное падение Америки не более чем миф. Например, вот что я узнал. ФБР регулярно публикует статистику тяжких преступлений, однако при этом оно не учитывает темпы роста населения. Так, например, в одном из докладов можно прочитать следующее: «Количество тяжких преступлений в Лос-Анджелесе сегодня на 22 процента выше, чем в 1950 году». При этом ни слова не говорится о том, что за тот же самый период население города выросло почти вдвое. И если сравнить темпы роста населения с динамикой роста преступности, то выходит, что она не росла, а наоборот – неуклонно снижалась. Значит, ФБР намеренно искажает истину? А если да, то с какой целью? Не знаю. Скажу одно – я был неприятно поражен, узнав, что правительственное агентство регулярно вводит нас в заблуждение.
– Я тоже слышу это впервые, – заметила Аманда. – Но у нас есть один знакомый по прозвищу Плаки Перселл. Он бы сказал, что ваша реакция свидетельствует о вашей наивности.
С залива Пьюджет прилетел свежий ветерок. Он пробежался по ногам Аманды, и Маркс Марвеллос вожделенно представил, как под его дуновением затрепетал упрямый завиток, выбившийся из-под ее трусиков. Бывшему ученому даже захотелось отдать честь этому стягу. Пусть и дальше трепещет на ветру!
– Вранье о росте преступности – это только одна ложь из многих. Среди молодых людей, которые, по идее, погрязли в пороке, я обнаружил удивительную моральную стойкость. Нет, конечно, что касается их сексуального поведения, то здесь царила полная вседозволенность. То же самое можно сказать и о наркотиках: молодежь потребляла их лошадиными дозами и без разбора – весьма глупое и рискованное, скажу я вам, занятие. Но зато при этом они стремились не причинять страданий другим людям. Они жили – заметьте, на деле, а не на словах, – руководствуясь принципом «Живи и дай жить другим». Они были терпимы и добры и следовали весьма строгим этическим принципам. Их акции протеста, их демонстрации – хотя порой там и случались беспорядки – никогда не были бездумным взрывом недовольства. Нет, цель была сформулирована четко – облегчение страданий всего человечества. Эти юные радикалы не искали личной выгоды, не стремились к богатству для себя. Просто они призывали к созданию более честного, более здорового, более демократичного общественного устройства. Собственно говоря, об этом мечтала не одна только молодежь. По всей стране люди всех возрастов разочаровались в своих Церквях. Лаже те, кто никогда не принадлежал ни к какой Церкви в традиционном смысле, кто отвергал трансцендентальное бытие, – все эти люди неожиданно объединились в едином моральном порыве. Впервые за нашу историю значительная часть американцев активно протестовала против правительственных войн. Некоторые из этих пацифистов многим пожертвовали ради правого дела. И это люди, которым неведома духовная жажда? Полноте. Тогда чем вы объясните повальное увлечение астрологией, йогой и всеми этими примитивистскими вещами, которые вы, юные романтики, пытаетесь возродить, как только видите, что официальная Церковь теряет свой авторитет и влияние?
– Вы можете отнести меня к романтикам или мистикам всегда, когда сочтете нужным, – возразила Аманда. – Только учтите, это ваши собственные ярлыки.
Больше она ничего не сказала. А что сказала, прозвучало вполне дружески. Однако при этом подумала: «Душка Марвеллос ел за многими столами, но так и насытился».
– Прошу меня извинить, если я отнес вас не к той категории, – поспешил оправдаться Маркс. – Вернее, за то, что вообще отнес вас к какой-то категории.
Его слова прозвучали не вполне искренне, и он сам это знал. Впрочем, какая разница. В данный момент куда важнее было другое.
– Я поставил в известность об этом парадоксе моих коллег по Ист-Риверскому институту. Вы только задумайтесь, сказал я им: здесь у нас, в Соединенных Штатах, религия упала так, что ниже не бывает, зато святость на невиданной высоте. Парадокс: когда влияние христианства переживает, если можно так выразиться, время отлива, поиски истины, поиски смысла жизни поражают своим размахом и интенсивностью. В институте внимательно ознакомились с моими выводами. Так у нас заведено. Директор даже обещал учесть их при составлении окончательной редакции наших рекомендаций правительству. Однако меня мучило подозрение, что они не получат должного внимания, какого, на мой взгляд, по праву заслуживали. Главного начальство так и не поняло. Черт, самые сообразительные головы во всей стране и те не усекли самой важной фишки. Им показалось, что страна погружается в некое подобие Темных веков. Хотя на самом деле – и этого они в упор не заметили – она вступает в Золотой век. То есть в некотором роде мы ухватили за хвост новую Реформацию и при этом сами ни черта не поняли.
Маркс даже слегка разволновался. Он принялся расхаживать по комнате, и Аманде ничего не оставалось, как наблюдать за ним широко раскрытыми от любопытства зелеными глазищами (кстати, эти глаза роднили ее с мухой цеце).
– Я вернулся домой и весь следующий день провел за чтением и размышлениями. Нет, главным образом за размышлениями. И меня осенило. Помню, это была пятница. Оказывается, я проглядел самое важное – хотя и не в той степени, что мои коллеги. Они в целом полагали, что стремление к религии проистекает из проекции бессознательных процессов, которые, несмотря на все разнообразие своих проявлений, в принципе являются всеобщими. И с современным обществом, сделали они вывод, произошло следующее. Эти всеобщие инстинкты притупились под воздействием научно-технического прогресса, а наши подсознательные проекции оказались затуманены повальным стремлением к материальным благам. В век электронных технологий смена культурных стереотипов происходит гораздо быстрее, нежели изменения в системе ценностей. Последние просто не поспевают за всеми этими инновациями. В результате культ техники начинает подменять собой религию. Христос, основополагающий символ западной религиозной традиции, остался таким, каким был и будет во все века. Просто он затерялся посреди всей этой суматохи. И мы должны заново научиться воспринимать идею Христа, хотя и в новом историческом контексте – в сложном контексте Космической эпохи, а не в контексте аграрного общества. Собственно, в институте никто не оспаривал этого положения. Однако в том, как оно виделось мне, имелось одно существенное отличие. Причина заключалось не в том, что современный человек ослеп, а в том, что устарела сама церковь. Как может современный человек воспринимать идею Христа как важную составляющую своего каждодневного бытия, когда сама эта идея обитает где-то на периферии общества, облачена в странные одеяния воскресной школы и говорит на тарабарском английском перевода короля Иакова? [12]12
Имеется в виду перевод Библии на английский язык, выполненный в XVII веке. – Примеч. пер.
[Закрыть]Этот Христос был бледен, тщедушен, он устарел, он никому не нужен, и хотя будет побогаче десятка Рокфеллеров вместе взятых, вечно ходит с протянутой рукой. Скажите, разве способен такой Христос вписаться в контекст современной жизни? Какой смысл он может нести в себе? То есть проблема была не в людях, а в самой религии. Повсюду вокруг себя я видел неукротимый духовный голод, но то допотопное, пресное блюдо, что церковь предлагала алчущим, никак не назовешь ни аппетитным, ни питательным. Более того, я имел возможность познакомиться с людьми поистине святыми, которые, однако, не нуждались в наставлениях духовенства, не искали опоры в официальном вероучении и общепринятых символах. Человек бывал сам себе строгим судией в самых разных обстоятельствах. А вот церковь безнадежно больна. К счастью, планы ее лечения уже составлялись. В конечном итоге, решил я, мы получим новую, исцеленную, исполненную жизненных сил церковь, и люди поспешат в нее, зная, что она приведет их к спасению. Ну и дурак же я был!Мои коллеги совершили точно такую же идиотскую ошибку. И хотя в отличие от меня, оптимиста, они в целом придерживались негативных воззрений на нынешнее брожение в стране, тем не менее и я, и они решили, что становимся свидетелями нового действия в христианском спектакле. Почему-то мы сочли этот кризис кризисом христианства, отчего сделали вывод, что те перемены в религиозной жизни, какие сейчас имеют место, происходят в рамках христианской системы. И в этом мы ошиблись, причем жестоко. И только тогда, в ту Страстную пятницу, мне неожиданно открылась Истина! Христианство мертво! Мертво! Его уже не реанимируешь и не излечишь. Оно отдало концы. И то, что происходит, это не обновление христианства, а зарождение новой религии, которая вскоре станет главенствующей. В институте мы рассматривали происходящее в рамках революции веры, что не соответствовало истине. Мы неверно интерпретировали знаки. На самом деле имела место эволюция– процесс куда более глубокий и бесконечный. Духовная эволюция. Именно так. Но не медленная, ползучая, какой мы привыкли ее воспринимать, а эволюционный взрыв! Я говорил о неореформации, что тоже не совсем верно. Христианство невозможно реформировать! Его можно только заменить. И сейчас мы пребываем в переходной стадии замены одной религии другой. Именно отсюда все это наше бурление, эти наши духовные поиски и разброд в умах. Нет, конечно, только этим всю нашу нынешнюю сумятицу не объяснишь. Перемены, вызванные техническим прогрессом, вносят в умы не меньше сумятицы, чем духовная эволюция. Но в некотором смысле периоды ускорения технического прогресса и религиозных исканий нередко совпадают. Важные научно-технические открытия – например, недавние, в области электроники или химии психических процессов – неизменно приводят к тому, что человек начинает по-новому смотреть на себя самого, на свою среду обитания, на божества, которым поклоняется. Взять того же Галилея! Ведь он не просто изобрел телескоп и сформулировал законы природы, основанные на наблюдении и математических расчетах. Он воплотил в себе тот свежий ветер перемен, что вымел западного человека из тесных средневековых залов освященной традицией импотенции. Галилей – это та искра, от которой воспламенилась куча огнеопасных философских отбросов, что постепенно, на протяжении веков, копилась где-то на задворках папства. Последовал мощный взрыв, который снес страдающих запорами иерархов с их золоченых горшков! Прошу прощения за лирическое отступление. Сегодня тоже происходит нечто подобное. Только гораздо больших масштабов по сравнению с Реформацией. Сейчас мы с вами находимся в стадии нулевой религии, чтобы в ближайшем будущем перейти в стадию религии новой, нам еще не известной. И та активность современной Церкви, свидетелями которой мы с вами являемся, весь этот экуменизм, социальная деятельность, якобы воинственный настрой и дебаты по поводу состояния здоровья Бога – все это не более чем судороги смердящего трупа. Роскошные церковные здания, обитые плюшем амвоны, ковры от стены до стены – это все атрибуты ее собственных похорон. Комедия закончена. Христианской веры больше нет. Она мертва. Мертва. Скончалась. Испустила дух. Отошла в мир иной. Покинула нас и не оставила обратного адреса. Адью! Была и сплыла. Мертва. Окончательно и бесповоротно.
Марвеллоса словно прорвало. Напрочь позабыв о завитке волос на своем воображаемом знамени, он бурно жестикулировал и расхаживал по комнате.
– Осмелюсь заметить, у меня такое впечатление, будто ваши теории были вам самому не в радость, – произнесла Аманда.
– Совершенно верно. Абсолютно не в радость. А иначе и быть не могло. Пригород Балтимора, где мне выпало провести детство, в моей памяти навсегда связан с матерью, женщиной набожной и суровой. Вот уж кто являл собой ходячее олицетворение баптистского фундаментализма. Пока мне не исполнилось восемнадцать, я каждое воскресенье проводил в церкви. Признаюсь честно, меня это ужасно угнетало. Учась в колледже, я сделал для себя открытие: оказывается, самые блестящие умы – как студенты, так и преподаватели – поголовно атеисты. Более того, они черпали в этом особую радость. Они купались в своем неприятии Бога. Казалось, они горды тем, что отринули идею Творца. Нет никакого боженьки, ха-ха-ха! В итоге я тоже перешел в их лагерь. Только вся фишка в том, что в отличие от других счастливее я не стал Пусть Бога нет, но с ним как-то лучше.
Аманда с любопытством посмотрела на Маркса, и тот улыбнулся.
– В конце концов, – произнес он несколько спокойнее, – кто-то же должен нести ответственность за все это дерьмо.
И он взмахнул рукой, словно пытаясь заключить в этом жесте всю Вселенную.
– Что ж, я готова взять ответственность на себя, лишь бы вы продолжили свой рассказ, – произнесла Аманда.
– Хорошо. Даже если кончина христианства и нанесла мне душевную травму, свет на ней не сошелся клином. Ведь религии умирали и раньше. Раз христианство когда-то появилось на свет, как и все остальное, оно должно в один прекрасный день умереть. Исключений из этого правила нет, даже для философских систем. Христианство проделало по жизни долгий путь, но теперь час его пробил. И незачем стараться продлить его агонию. Пусть оно отойдет с миром. А нам пора взяться за дело. Раньше, когда какая-то религия умирала, ее место не пустовало – его тотчас занимала другая вера. Так, очевидно, будет и на этот раз. Место христианства займет новая религия. Только вот когда? И где? И самое главное – какая? Может, она уже здесь, прячется среди нас, затаилась в ожидании, когда кто-то сорвет с нее маску? Аля ответов на эти вопросы я решил применить научный метод. Ведь до сих пор якобы объективные, нетеологические исследования религии были в основном уделом бихевиористов – всяких там антропологов, психологов и социологов, то есть тех, кто в принципе еще не утратил веры в такую туфту, как душа…
– А вы хотите сказать, что вы в нее не верите?
– Аля таких, как я, то есть людей, чуждых мистике, человеческая душа – это электрохимические процессы: синтез белков, электрические сигналы нервных волокон. И ничего более.
– В Бирме существует поверье, что душа – это бабочка, – заметила Аманда.
Маркс Марвеллос удивленно уставился на нее. Нет, ей он мог простить что угодно. Ее легкое пришепетывание сотрясало его убеждения, сокрушало его принципы.
– В детстве, – задумчиво произнес он, – у меня была овчарка, на вид – вылитый Перси Биши Шелли. Те же печальные голубые глаза, что у английского поэта. Но в один прекрасный день пес исчез. Домой он больше не вернулся. Мать сказала, что его украли цыгане. Вы, случаем, не цыганка?
– Из меня такая же цыганка, – ответила Аманда, – как из вас ученый. Одно только название.
– Как это понимать – одно только название?
– Маркс Марвеллос, ваши методы могут быть вполне приемлемы в глазах так называемой технократии. Однако, насколько я могу судить, ваши цели были сформированы великой и древней загадкой смысла бытия. Пожалуйста, не кривите рот, это портит вашу внешность. Вот так, совсем другое дело. А теперь скажите мне одну вещь. Почему вы, если сказанное вами имеет для вас принципиальное значение, решили – кстати, это я поняла из ваших же слов, – что религии – это не сверхъестественные сущности, а скорее естественные системы, подчиняющиеся естественным законам? То есть если вы подходите к изучению религий как исторических структур, как естественных сущностей, то вам необходимо установить некий набор фактов и отношений касательно религии. Верно? Например, возможно, отыщется уравнение, с помощью которого передвижения богов можно предсказать с той же точностью, что и движение планет. Или почему бы вам не придумать Первый Закон Религиодинамики Марвеллоса? Интересно, как бы он работал? Трансформация, конечным результатом которой является превращение в догму этического поведения, извлеченного из своего источника, что при повсеместно одинаковой социальной температуре невозможно. Или что-то в этом духе. Скажите, вы задумывали что-то в этом роде?
– Ваша пародия первого закона попахивает упрощенчеством моих идей, превращает их в расхожую банальность. Хотя, в сущности, вы правы. Если выработать некую применимую к религии логику, основанную на наблюдаемом знании и накопленных фактах, то, может статься, удастся предсказать природу религии, которая придет на смену христианству, – и, кто знает, даже повлиять на нее. Имея в своем распоряжении мощный исследовательский аппарат, наука смогла бы уберечь человечество от великих страданий.
– А, гордыня интеллекта, – вздохнула Аманда. – Впрочем, вы в этом лучше разбираетесь, чем я. Откуда мне было знать первый закон, если бы не студент-физик, который был моим любовником и все время разговаривал во сне? И все же, что сталось с вашей великой затеей? Наверное, в вашем институте имелась богатая библиотека. Плюс контакты, компьютеры, ресурсы, закрытые темы. Мозговой трест – это же в самый раз для вашего проекта. Так почему же вы все бросили?
– Есть идеи, которые не под силу даже самому мощному мозговому тресту. Я обнаружил, что церковь слишком замкнулась на самой себе и поэтому не способна реагировать на окружающую жизнь. А жизнь идет своим чередом, и нередко ее заносит в крайности. Затем я обнаружил, что мозговой трест уж слишком привык к комфорту, а это не располагает к подлинному мышлению. Подлинное мышление – вещь рискованная и подчас опасная. По-моему, мозговой трест идеально подходит для размышлений о смысле явлений. Я же был одержим совершенно иным. Мечтал нащупать…
– Смысл смысла?
– Черт! – Марвеллос в изнеможении привалился к тотемному шесту, что торчал по соседству с алтарем мухи цеце. – Как я ненавижу это выражение. Мне от него тошно.
– Маркс Марвеллос, признайтесь, чем вы занимаетесь – научными изысканиями или же пытаетесь утолить духовную жажду?
– Что? Научными изысканиями? Не знаю. Честное слово, затрудняюсь сказать. Я ведь уже говорил, что никак не могу разобраться во многих вещах. Возможно, и то, и другое. Это на меня похоже. Меня терзает раздвоенность. И я ничего не могу с этим поделать.
– А жаль, – искренне вздохнула Аманда. – Раздвоенность – недуг пострашнее шизофрении. Если вы шизофреник, то каждая из ваших личностей пребывает в блаженном неведении относительно существования другой. А вот когда вы страдаете от раздвоенности, то одна половина вашего «Я» болезненно ощущает присутствие другой, с ней несогласной. И стоит вам ослабить самоконтроль, как вся ваша жизнь превратится в перетягивание каната. Как бы там ни было, вы ушли из института. Однако это еще не объясняет, каким ветром вас занесло сюда.
– Я нутром чувствовал, что в истории рода человеческого происходит нечто грандиозное, причем я тому современник.И пока в институте осознают истинную подоплеку происходящего, пока во всем разберутся, пока все проанализируют, пока разложат по полочкам, мною овладело желание докопаться до истины самому. Ведь что происходит? Великая религия при смерти или уже умерла. А ей на смену нарождается нечто новое. И последствия этой глобальной смены вероучения, причем в такой бурный период нашей истории, могут оказаться весьма непредсказуемыми. Я начал склоняться к тому, что мой долг как ученого и просто как человека состоит в том, чтобы по возможности ближе подобраться к сути происходящего, к эпицентру этого эволюционного взрыва, ощутить его, если можно так выразиться, на собственной шкуре. Я алкал высшего наслаждения, доступного ученому, – быть одновременно и участником эксперимента, и его сторонним наблюдателем. Послушайте, Аманда, можно подумать, я не понимаю, что в ваших глазах я всего лишь богоискатель в обличье ученого. Уверяю вас, это не так. Наука – это активная реакция на свершения окружающего мира. Мистицизм же просто принимает мир каким он есть. Мистики только и делают, что говорят, будто ищут гармонии с природой. Ученые же разлагают природу на отрасли знания и дают им определение. Наука – это сопротивление, а не принятие. Вот почему, уверяю вас, исполненный духа этого ответственного сопротивления, я и отправился на встречу с новым Мессией.
– Мой дорогой Маркс Марвеллос, – негромко произнесла Аманда. – Поборник сопротивления. Неужели вы уже успели забыть, как научились не втягивать голову и принимать дождь? Ну хорошо. Все равно пока что я от вас не услышала, почему вы приехали именно сюда. Нет-нет, если не хотите, можете не говорить. Я не обижусь.
– Почему же, скажу. Мне не хотелось скитаться от смысла к смыслу, вечно хватая какие-то веши за хвост. У меня не было времени заниматься разными там повальными увлечениями, сектами и лжепророками. Откровенно говоря, вся та деятельность, которая обычно сопровождает смену религий, почему-то кажется мне малопривлекательной. Нет, решил я, поскольку четкое и неопровержимое свидетельство новой религии должно появиться где-то на передовых рубежах психических явлений, то мои действия в принципе сводятся к следующему – найти человека или группу людей, которые обитают на этих рубежах, и попытать счастья с ними. Может, тогда мой план и сработает. От Почти Нормального Джимми и от других людей я услышал о Зиллерах. В некотором смысле о вашем муже в Нью-Йорке ходят легенды. Я решил, что вы идеально мне подходите. Мои последние сомнения развеяло ваше фото – его показал мне Джимми. Как видите, хоть я и предан науке, все равно порой изменяю ей.
– Маркс Марвеллос! Вы спятили. Ведь это всего лишь крошечный придорожный аттракцион. И где? В дождливой глуши Северо-Запада. Мы зазываем к себе посетителей улыбающимися сосисками. Предлагаем заплесневелым желудкам напоенные солнцем соки и экзотические экспонаты – притуплённым взорам. Но мы не имеем никакого отношения ни к религии, ни к науке. Нам ничего не известно о ваших передовых рубежах. Вы уверены, что оказались действительно там, где нужно? Что вам такого наговорил Джимми, что вы вообразили, будто в ваших руках ключ к… некоему эволюционно-религиозному пробуждению?
– Не знаю, смогу ли я вам дать исчерпывающий ответ. В принципе моя интуиция подсказывает мне, что это есть то самое место.
– Интуиция? – Аманда даже взвизгнула и хлопнула в ладоши. – Ага, интуиция! То есть вы хотите сказать, что действовали по наитию? Что я вам говорила! Вы признались мне,
что порой полагаетесь на случай, гораздо раньше, чем я предполагала. Вы приехали сюда по наитию и готовы это признать. Я вас правильно поняла?
– В принципе да, – выдавил из себя Маркс и залился краской. – Но лишь частично. Вам может показаться, будто вы здесь занимаетесь придорожным зверинцем, но я-то знаю, что существуют и иные уровни вашей деятельности. У меня даже есть все основания предполагать, что ваш прилавок для продажи горячих сосисок – лишь фасад, за которым скрываются боле возвышенные веши.
– Ну хорошо, – произнесла Аманда. – Вас не обманешь. Вы слишком для нас проницательны. Еще немного – и вы нас окончательно разоблачите, так что лучше признаться во всем сразу. Мой муж и я – агенты вселенского исландского заговора.
– Можете шутить сколько угодно, – заметил Марвеллос. – Но уверяю вас, мне известно, что здесь происходит нечто ранее невиданное. Пусть вы этого не знаете. Зато знаю я.
Аманда хихикнула и поднялась. Шелковая юбка подобно ночному мраку опустилась на предательский завиток, скрыв его от взора обладателя вожделенного боевого знамени.
– Нет, вы какой-то прикольный, – произнесла она. – К счастью для вас, я люблю приколы. И вообще вы очень даже симпатичный. – С этими словами она провела серебристыми ногтями по шву его брюк.
Маркс побледнел и еще нескладнее привалился к тотемному шесту.
– Что-то не так? – спросила Аманда.
– Боюсь, я слишком увлекся. Это еще один мой недостаток как ученого. Меня занесло. Черт. Я не собирался говорить вам всего того, что наговорил. Мне хотелось тихонько пожить тут у вас, вроде шпиона. И кто только тянул меня за язык? И вообще у меня кружится голова.
Маркс жадно хватал ртом воздух.
Аманда вытащила откуда-то из-за пазухи черный шелковый платок с золотой каймой.
– Подержите под носом, – сказала она, передавая его Марвеллосу.
Маркс никак не ожидал, что такая здоровая женщина, как Аманда, носит с собой нюхательную соль, однако последовал ее совету. От платка исходил легкий аромат, нежный и сладкий. Но пока Маркс принюхивался, запах заметно усилился, сначала сделавшись мускусным, а затем и вообще защипал ноздри. Маркс едва не отшвырнул платок прочь, но в этот момент запах поменялся вновь. Теперь от ткани потянуло пряностями. Затем и этот аромат испарился, а на его место пришел запах ланолина и кожи, насыщенный животный дух, к которому примешивался другой, чем-то похожий на золу.
Заметив недоуменное выражение на лице Маркса, Аманда улыбнулась:
– Этот платок когда-то обмакнули в сосуд, в котором были собраны запахи двенадцатилетнего пребывания в Тибете. Я собиралась послать его Почти Нормальному Джимми. Но, возможно, ему он не нужен.
Совершенно сбитый с толку Марвеллос ничего не сказал, зато продолжал принюхиваться. Его нос уловил запахи солода и жира, душистые очертания гор и порывы холодного ветра с колючим снегом. А тем временем, словно выполняя пророчество Аманды, к заведению подъехали несколько машин, из которых вышла стайка пассажиров и выстроилась в очередь к ресторанчику.
– На сегодня хватит. – Аманда потянула к себе черный шелковый квадрат. – В зверинец прибыли посетители, и вам надо кое-чему поучиться. Идите за мной и внимательно смотрите, что я делаю. Завтра мы не работаем, потому что едем в горы за сморчками. А вот в пятницу вам, возможно, придется управляться со всем заведением в одиночку.
Маркс Марвеллос недоуменно заморгал, но платок вернул законной владелице. Весь день он помогал Аманде – вытирал столы и прилавок, разливал по стаканам сок, выучил небольшую лекцию про сан-францисских подвязочных змей и даже научился направлять блох во время бегов колесниц или балетного представления. И все это время его нос ощущал слабый аромат цветов лотоса, сбитого в масло молока яков, молитвенных барабанов. И главное – еще один непонятный, но ужасно приятный запах. Аманда наверняка бы определила, что это аромат мамочкиного тибетского персикового пирога.
– Существуют три состояния сознания, которые мне интересны, – произнесла Аманда, поворачивая дверную ручку в виде ящерицы. – Это, во-первых, амнезия, во-вторых, эйфория, и в-третьих, экстаз.








