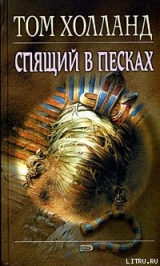
Текст книги "Спящий в песках"
Автор книги: Том Холланд
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
С другой стороны... Я собственными глазами видел в лавке старика камень с символом Атона, и он был подлинным. Таким же неподдельным, как и явный страх торговца. Уже одно это...
Толкнув дверь, – она распахнулась легко – я всмотрелся в темноту и, сумев разглядеть ступеньки, начал осторожно подниматься. Вскоре стало ясно, что лестница вьется спиралью вокруг центра минарета и ведет, видимо, на самый его верх. Подъем затрудняла кромешная тьма, но через некоторое время впереди блеснул тонкий серебристый луч. Выглянув в узкое оконце, сквозь которое в башню проникал лунный свет, я понял, что поднялся выше, чем ожидал. Задержавшись ненадолго, чтобы обозреть хорошо различимые сверху развалины мечети, я продолжил восхождение. Мне встретилось еще одно окно, потом другое, и наконец, после четвертого взору предстала массивная дверь. В отличие от нижней, ветхой, ее, казалось, навесили сравнительно недавно, а бледный свет луны позволял отчетливо видеть вокруг дверной рамы следы укрепления каменной кладки. Я взялся за ручку, но, как ни старался, попытки отворить дверь успехом не увенчались. Прекратив тщетные потуги, я сделал шаг назад и задумался. Что могло скрываться по ту сторону двери и кому потребовалось с таким очевидным старанием перекрывать туда доступ? Поскольку ничего другого мне не оставалось, я решил осмотреть преграду более тщательно. Возможно, угол падения лунного света к тому времени изменился, ибо на сей раз внимание мое привлекла деталь, несколько мгновений назад оставшаяся незамеченной.
Сердце мое едва не остановилось.
Прямо над дверью было высечено изображение Атона.
Боясь, что неверный свет вызывает обман зрения и увиденное мною есть не более чем игра воображения, я для верности провел по камню пальцем, тщательно следуя линиям рельефа. Ошибки не было: передо мной действительно был солнечный диск и поклоняющиеся его благословенным лучам люди.
Неожиданно снизу донесся скрип петель, как будто кто-то отворил ведущую внутрь башни минарета дверь. Меня пробрала дрожь, но никаких других звуков не последовало. Придя к заключению, что, если скрип мне не почудился, дверь мог распахнуть ветер, я успокоился и вернулся к изучению рельефа.
Теперь мне удалось различить и надпись: пары строк по обе стороны от солнца.
– "О Лилат помыслил ли ты? – произнес я вслух. – Помыслил ли об иной, великой? Воистину надобно трепетать пред ликом ее, ибо велика Лилат среди богов".
Надпись была та же самая, что и у портрета царицы в усыпальнице Эхнатона.
Присмотревшись ко второй надписи, я понял, что тоже видел ее раньше – в карьере, который исследовал вместе с Ньюберри. Едва я начал вновь ее копировать, как душу охватил страх, как будто начертанный в давние времена стих призван был служить предупреждением именно мне.
И не успела эта мысль промелькнуть в моей голове, как со ступеней позади меня донесся холодный, словно серебрящий барханы ночной пустыни лунный свет, голос:
– Уходи навсегда. Ты обречен. На тебя пало проклятие. Уходи навсегда!
Обернувшись, я увидел стоявшего несколькими ступенями ниже человека в длинных струящихся одеждах, таких же белых, как его волосы и борода. Обычно такое облачение носили арабские ученые. Плечи незнакомца поникли под грузом лет, лицо избороздили морщины, однако при всех внешних признаках глубокой старости он не производил впечатления человека дряхлого и немощного. Напротив, под его пронизывающим взглядом я почувствовал себя неуютно. Отрешенное и вместе с тем суровое выражение на худощавом лице и горящие глаза делали его похожим скорее на змею, чем на человека. При этой мысли я невольно поежился. Кроме того, мне казалось совершенно непостижимым, как мог старик оказаться практически рядом со мной, не выдав своего приближения звуком шагов.
– Что ты здесь делаешь? – спросил я, стараясь за решительным тоном скрыть охватившее меня беспокойство.
– С моей стороны такой вопрос прозвучал бы более уместно, – со слабой улыбкой заметил старик.
– Я являюсь... – Мне пришлось на миг умолкнуть, чтобы собраться с духом. – Я являюсь главным инспектором Службы древностей и нахожусь здесь потому, что того требует род моих занятий.
Глаза старика коротко сверкнули.
– Вот как? Но разве в твои обязанности входит и надзор за религиозными святынями? Разве ты властен над святилищами богов?
– Смотри... – Я указал на изображение солнца над дверью. – Это тоже бог. Когда-то этому богу поклонялся один из фараонов.
– Один из фараонов? – Старец шагнул ко мне. – Но в Священном Коране сказано, что фараоны приписывали божественную сущность только себе и не признавали иных богов. А если так, то разве могут твои слова быть правдивыми? Какова же истина?
– Именно это я и пытаюсь выяснить.
Старик едва слышно рассмеялся.
– Кто дал тебе право выяснять такие вещи?
– Сказано же тебе: я главный инспектор древностей!
– Прежде всего, ты чужестранец. Уходи отсюда, почтеннейший, уходи и никогда не возвращайся.
Старик сделал широкий жест, и я, как ни странно, действительно почувствовал желание покинуть пределы мечети, тем паче что в голосе араба в тот момент слышалась не угроза, а почти мольба.
Однако я не ушел, ибо почувствовал, что нахожусь на пороге какого-то замечательного открытия: во мне теплилась надежда на то, что старец раскроет мне какую-то мрачную, древнюю тайну.
Но он, холодно глядя на меня, покачал головой и шепотом произнес:
– Что можешь ты знать о Египте? Погребенные в веках страхи пробуждаются в наших ночных кошмарах, так не пробуждай же и тайны, погребенные под вечными песками нашей земли. Не тревожь их, господин Картер! Не тревожь! Ты получил предупреждение!
Услышав из уст старого араба собственное имя, я был так потрясен, что лишился дара речи и некоторое время лишь молча смотрел широко раскрытыми глазами в немигающие, по-змеиному поблескивающие очи странного ночного собеседника.
Попытки вымолвить хоть слово ни к чему не приводили, словно магнетический взор старца овладел моим сознанием. Казалось, будто в глубине этих удивительных глаз виднеются бескрайние пески, барханы и разбросанные среди них древние сокровища: золото, украшения, а кое-где и частично засыпанные песком свитки хрупкого папируса, наводящие на размышления о манящих, но недоступных познанию тайнах. Жгучие ветры, подхватив мое "я", несли меня сквозь разворачивавшийся передо мной бескрайний, как сами египетские пустыни, сон странного араба. Впереди из-за горизонта появилась тень. Удлинясь, она дотянулась до меня, обдав холодом. Я поднял глаза и увидел наполовину заметенный песками, но тем не менее исполинский, схожий по архитектуре с Карнаком храм. Он высился надо мной как гора, холод, по мере углубления в его тень, становился все сильнее. Я миновал внешнюю линию капителей: тень, казалось, затягивала меня, в то время как храмовый комплекс уходил в бесконечность. Впереди, в сердце святилища, находилось нечто странное и страшное, чье завуалированное присутствие нельзя было не ощутить. Нечто приближалось, словно считая, что бесконечность для него не преграда, и это приближение внушало ужас, подобного которому мне не случалось прежде испытывать. Из моего горла рвался крик. Казалось, будто еще миг – и ужас явится мне во всей своей полноте, ибо скрывающая тайну завеса вот-вот поднимется. Страх заставил меня содрогнуться... Я открыл глаза и замотал головой. Видение исчезло. Я стоял в одиночестве на верхней ступени лестницы.
Арабский ученый бесследно пропал.
Вспоминая позднее это приключение, я пришел к выводу, что, скорее всего, в нем не было ничего сверхъестественного. Меня просто-напросто загипнотизировали. Мне доводилось не только слышать о таких трюках, но и наблюдать их на практике, сидя у костров фиванских шейхов. Однако до сих пор я считал себя человеком в достаточной мере рациональным и не подвластным такому воздействию, и потому – мне отнюдь не стыдно в этом сознаться – гипнотическое наваждение совершенно выбило меня из колеи.
Так или иначе, я счел за благо поскорее покинуть мечеть, убеждал себя в том, что делаю это лишь потому, что открыть дверь и узнать, что за ней находится, без инструментов или посторонней помощи все равно не удастся. Если же быть до конца откровенным, то, благополучно вернувшись домой, я испытал немалое облегчение. Однако впечатления того вечера были слишком сильны: сон не шел, и я ворочался на диване, вновь и вновь мысленно воспроизводя недавно посетившие меня образы. На выручку мне, как ни странно, пришли привезенные с собой птицы. Сам вид беззаботных пернатых, их яркое оперение и грациозное порхание, не говоря уже о мелодичном пении, действовали на меня успокаивающе. И тем не менее печальные мысли еще много часов продолжали будоражить мое сознание. Сумею ли я, оставшись практически без единомышленников и помощников, достичь цели и не заведут ли меня слишком далеко честолюбивые амбиции?
В конце концов под музыку голосов моих крылатых питомцев я все-таки смог забыться сном.
* * *
Не удивительно, что всю ночь меня донимали беспокойные видения, а рассвет застал совершенно разбитым. Несмотря на массу ожидавших впереди неотложных дел, мне никак не удавалось отвлечься от мыслей о мечети. Казалось несомненным, что я натолкнулся на след чего-то по-настоящему необычного и оказался на пороге раскрытия секрета, которому, быть может, насчитывается более трех тысяч лет. Куда этот след может меня завести, в ту пору было невозможно даже представить, тем более что в глубине души я продолжал сомневаться в существовании самого секрета. Что в действительности я видел? Лишь изображение солнца над так и оставшейся запертой дверью. А туманные, невразумительные намеки старца на какие-то тайны, которые не следует тревожить, и вовсе едва ли заслуживали большого доверия.
Уже не первый раз, обнаружив что-то стоящее, я лишь сталкивался с новыми загадками. Казалось, будто любой успех в конечном счете бесплоден, ибо поиск мой, похоже, приобрел весьма нервирующее свойство: он становился бесконечным.
Все утро, занимаясь текущими делами, я то и дело мысленно возвращался к этому парадоксу, еще не зная, что в самом скором времени названный парадокс проявит себя со всей возможной отчетливостью. Случилось так, что, когда я руководил работами в пустыне неподалеку от Саккары, мне сообщили о скандале.
Как оказалось, осматривавшие ближние границы французы напились и стали задирать моих рабочих из числа местных жителей. Естественно, я поспешил разобраться в этом деле и по прибытии на место обнаружил, что ссора вышла и вправду нешуточная. Все мои призывы к спокойствию оставались не более чем бесплодным сотрясением воздуха. На моих рабочих наседали не только французы, но и их слуги, судя по физиономиям – самые настоящие головорезы. Судя по всему, слуги-то и явились настоящими зачинщиками.
Поняв, что увещеваниями ничего не добиться, я вызвал караул и пригрозил взять всех буянов под стражу. Это несколько охладило горячие головы: французы пообещали немедленно удалиться – с тем условием, что я отпущу и их прислужников. Чтобы не усугублять раздоры, я согласился, однако, когда мои люди расступились, чтобы дать скандалистам уйти, мое внимание привлек один из сопровождавших французов арабов – кажется, главный заводила. Мы встретились взглядами, и меня передернуло.
Ошибиться было невозможно. Хотя негодяя, напавшего на меня из темноты в Долине царей, я видел всего лишь долю секунды, его хищная ухмылка и горящий взгляд запомнились на всю жизнь. Указав на преступника своим людям, я приказал взять его, чему, однако, категорически воспротивились французы. Началась перепалка, за ней стычка, но, поскольку я удерживал своих людей от слишком решительных действий, негодяю и его приспешникам удалось скрыться. Я остался ни с чем, точнее, с избитыми людьми, шестью разозленными французами и серьезной угрозой для своей будущей карьеры.
Французы со свойственной их нации бесцеремонностью нажаловались на меня начальнику, который, как им, естественно, было известно, являлся их соотечественником. Однако возглавлявший в ту пору Службу древностей мсье Гастон Масперо – человек редкостной порядочности и проницательности – вовсе не намеревался на основе одного лишь голословного навета уволить того, кого сам пригласил на должность главного инспектора Зная меня достаточно хорошо, мсье Масперо не верил в мою виновность, однако, не желая конфликтовать с влиятельными представителями французской колонии, предложил мне ради соблюдения формы принести им извинения. Возможно, с точки зрения француза, такого рода компромисс представлялся самым разумным выходом из создавшегося положения, однако я почувствовал себя до крайней степени униженным и оскорбленным. Согласитесь, не очень приятно просить прощения у виновников конфликта, сознавая собственную к нему непричастность, – ведь я всего лишь добросовестно выполнял свои обязанности. Помимо столь прискорбного попрания моей чести и гордости, меня тревожило и другое – причем, возможно, даже сильнее, чем моральное унижение. Кем был тот араб, напавший на меня в Долине царей, а потом учинивший столь вредоносный для моей репутации скандал? Почему он на меня ополчился? Был ли тот факт, что он причинил мне серьезные неприятности сразу после ночного посещения мечети аль-Хакима, простой случайностью или же за этим инцидентом таилось нечто большее? Мне невольно вспомнились последние слова старого араба; «Ты получил предупреждение!» Ну что ж, теперь я действительно осознавал себя предупрежденным, хотя, возможно, не в том смысле, какой имели в виду мои недруги. Мне пришло в голову, что, коль скоро кто-то счел нужным предпринять против меня активные действия, причина тому может быть лишь одна: я подошел слишком близко к раскрытию какого-то важного секрета Возможно, даже ближе, чем смел надеяться. Иначе кому бы потребовалось предпринимать скоропалительную попытку лишить меня должности?
Подтверждением обоснованности такого предположения стало полученное через несколько дней после скандала с французами письмо от Теодора Дэвиса Он, похоже, пребывал в крайнем возбуждении. Речь в послании шла о находке, сделанной Дэвисом в Долине царей, – о неразграбленной гробнице, полной сокровищ. Не могу не признать, что при этом известии я испытал смешанные чувства. С одной стороны – живой интерес к столь редкостной находке, а с другой – острую зависть: ведь по справедливости честь такого открытия должна была принадлежать мне. Поначалу я решил было, что Дэвис наткнулся на то самое место, где в последний вечер пребывания в Долине царей работал я сам, но, торопливо прочитав письмо до конца, я убедился в безосновательности своих опасений. Из текста явно следовало, что он проводил раскопки на другом склоне. Тем не менее находка Дэвиса представляла для меня немалый интерес, ибо, по его мнению, захоронение принадлежало родителям царицы Тии.
" В этом не может быть ни малейших сомнений, – сообщал Дэвис. – До сих пор мне не доводилось слышать о погребении в Долине царей тех, кто не принадлежал к царствовавшим династиям, однако на крышках саркофагов сохранились имена усопших: Юаа, отец царицы, и Туа, его супруга. Уцелели и мумии, причем мужская в отличном состоянии.
Знаю, что вы склонны были считать его нубийцем, – писал далее Дэвис, – однако должен заверить вас, что этот Юаа ни капельки не похож ни на одного чернокожего африканца из тех, кого мне до сих пор доводилось встречать. По существу, он просто копия одного моего знакомого политика, еврея с Род-Айленда тот же крючковатый нос и такая же чертовски длинная шея. Скажу по правде, мне несколько обидно за вас. Вы копали здесь столько лет, просеяли сквозь сито чуть ли не всю пустыню, а стоило вам уехать, и какие-то новички совершили столь замечательное открытие".
На самом деле, конечно, обидно было не ему, а мне. Хотя Дэвис и не упустил случая позлорадствовать, оказалось, что наше прежнее сотрудничество еще кое-что для него значит. Находкам, о которых он сообщал – сначала сокровищам, а через несколько месяцев и мумиям, – предстояло отправиться в Каирский музей, и Дэвис, вознамерившийся выпустить о них книгу, решил заказать мне иллюстрации.
"Мне доподлинно известно, – писал он, – что лучшего рисовальщика среди специалистов по Древнему Египту мне не найти. Я собственными глазами видел выполненные вами акварели. Так не сочтите за труд по прибытии артефактов из гробницы в Каир сделать необходимые для публикации рисунки.
Разумеется, – добавлял Дэвис в постскриптуме, – за соответствующее вознаграждение".
Я тут же ответил согласием, печально подумав, что, возможно, довольно скоро копирование древностей снова станет для меня источником средств к существованию. Правда, в отставку меня пока не спровадили, но в силу того, что я не мог заставить себя просить прощения, не будучи виноватым, ситуация оставалась напряженной. Я знал, что Масперо, искавший выход из тупика, планирует на время, пока все не уляжется само собой, удалить меня из Каира, направив в какое-нибудь захолустье, и такое несправедливое решение заставляло меня со всей остротой чувствовать унизительность своего положения.
Смириться с мыслью о необходимости оставить Каир – особенно после того, как удалось напасть на столь многообещающий след, – было непросто, однако ради сохранения должности стоило согласиться даже на такой шаг. С величайшей неохотой я подчинился необходимости и отправился в Танту, захолустную дыру, назначенную мне новой резиденцией. В жизни не видел я более жалкого городишка: к жаре и скуке там добавлялось еще и ужасающее состояние канализационных систем. Зловоние удручающе действовало даже на моих бедных птичек, так что с каждым новым вдохом искушение плюнуть на все и подать в отставку становилось сильнее и сильнее. Правда, решиться на столь судьбоносный шаг означало лишить себя не только заработка, но и – что было для меня важнее – полномочий главного инспектора, которые, как хотелось надеяться, еще могли мне когда-нибудь пригодиться. Оставалось лишь раз за разом напоминать себе об усвоенных ранее уроках: главные добродетели археолога суть терпение, терпение и еще раз терпение.
* * *
Наконец в самый разгар невыносимо знойного лета я получил известие о том, что артефакты, извлеченные из гробницы Юаа, прибыли, и, испросив при первой возможности двухнедельный отпуск, отправился в Каирский музей. Радость была двойной: во-первых, я получил временное избавление от кошмарного времяпрепровождения в Танте, а во-вторых, предвкушение встречи с сокровищами наполняло меня радужными надеждами. Как и утверждал Дэвис, сохранность артефактов можно было назвать превосходной, а их ценность свидетельствовала о том, что покойный являлся важной персоной. Надписи характеризовали его как человека, «служившего тенью фараона», а его супругу – как «превосходящую всех в гареме». Правда, это мало что объясняло и уж во всяком случае не проливало свет на причины, позволившие людям, пусть и богатым, но не принадлежавшим к царскому роду, удостоиться чести погребения в Долине царей. К сожалению, находки Дэвиса не способствовали раскрытию этой загадки: надписи и изображения на саркофагах – обычно главный источник сведений о погребенных – на сей раз почему-то были на редкость скупы. Обидно, но мне не удалось обнаружить какие-либо указания относительно происхождения самого погребенного и того, каким образом его дочь вопреки веками освященной традиции и законам религии стала супругой фараона и законной царицей. Мне уже давно казалось, что разгадка этих головоломок может иметь решающее значение, – и тем досаднее было признавать факт неудачи.
Надежды, однако, я не лишился. Сокровища были выставлены на всеобщее обозрение в галерее, вокруг них постоянно толпились зеваки, и в таких условиях не было ни малейшей возможности уделить ценнейшим артефактам то внимание, которого они, вне всякого сомнения, заслуживали. Благодаря письменному обращению Дэвиса к руководству музея мне предоставили возможность рисовать после закрытия музея, а работа ночью – в тишине, сумраке и одиночестве – весьма способствовала обретению внутренней готовности к постижению неведомого. Однако завеса тайны оставалась опущенной, и я, делая свои рисунки, все больше и больше утверждался во мнении, что взгляд мой лишь скользит по поверхности, не проникая в суть. Что же именно проходило мимо моего внимания?
Я всерьез задумался над этой проблемой после того, как однажды вечером пришел в галерею за полчаса до ее закрытия и потолкался среди последних немногочисленных посетителей, стараясь взглянуть на выставленные сокровища с их точки зрения, как если бы был не профессионалом, а любопытствующим обывателем. Ничего особенного такой подход не дал, и я, оставив рисовальные принадлежности в галерее, отправился бродить по другим залам в ожидании того часа, когда музей закроется, галерея опустеет и можно будет спокойно продолжить работу. Назад, к сокровищам гробницы Юаа, возвращаться пришлось уже через погрузившиеся во мрак залы, но мое рабочее место оставалось освещенным, что и позволило мне сразу заметить амулет.
Для всех остальных амулет, скорее всего, остался незамеченным, ибо, положенный сбоку от саркофага, не бросался в глаза Я же – во многом благодаря опыту, приобретенному в Долине царей, – почти ожидал его появления. Мне оставалось лишь подойти и взять амулет в руки – в изображение можно было и не всматриваться: все тот же солнечный диск и две согбенные человеческие фигуры. Вокруг не было ни души и не слышалось ни малейшего звука. Я торопливо обошел галерею, а потом осмотрел и весь музей, однако никого не нашел. А ведь амулет не мог появиться сам по себе. Кто-то принес его сюда, оставил возле саркофага и поспешил потом скрыться. Если бы только мне удалось найти этого человека! Не исключено, что, потянув за кончик нити, я смог бы размотать весь клубок тайн и древних легенд, связанных с вековым ужасом перед древним проклятием. Увы, отпуск мой подходил к концу, а в Танте выискивать и выслеживать было нечего и некого.
Скрепя сердце я снова отправился в постылую ссылку. У меня еще теплилась надежда вернуться на прежнее место службы, а пока такая перспектива существовала, портить отношения с руководством было бы неразумно. Однако эти соображения ни в малейшей степени не ослабляли мое раздражение, равно как и пропитавшее все и вся в Танте нестерпимое зловоние. Эта проклятая дыра осточертела мне до невозможности, и можете себе представить, каким счастьем стало для меня известие о доставке в Каирский музей мумий. Мне даже не хватило терпения, чтобы дождаться официального разрешения начальства на отъезд. Отбыв в Каир самым ранним утренним поездом, я уже тем же вечером явился в музей. Рабочий день закончился, но сонный охранник узнал меня и, помахав рукой, беспрепятственно пропустил на территорию музея. Необходимости проходить через главный вход не было, ибо ключи лежали у меня кармане, и поэтому я проник в помещение через боковую дверь. Оттуда лестница вела прямо на второй этаж, где размещались мумии царей Египта и куда, по моим предположениям, должны были доставить новоприбывшие экспонаты.
Не желая привлекать к себе внимание, я не стал зажигать верхний свет и воспользовался карманным фонариком. Ряды мумий тянулись, уходя в темноту: цари и вельможи обрели наконец вечный покой, но не под бдительным взором Осириса, а в стеклянных витринах, снабженные наклейками с инвентарными номерами. Тишину музейного зала нарушали лишь мои отдававшиеся эхом шаги. Всматриваясь в лица давно умерших владык, я наконец увидел в конце ряда два обернутых пеленами тела, переступил через веревку, отделявшую их дорожки, и направил луч на табличку, рядом с ближайшим из них.
«Туа, мать великой царицы Тии» – гласила надпись.
Оглядевшись и удостоверившись в том, что в зале никого нет, я склонился над мумией и приподнял край пелены.
Взору моему предстало лицо женщины, умершей много столетий тому назад. Увы, к величайшему разочарованию, сохранность мумии оказалась куда хуже, чем можно было надеяться, основываясь на письмах Дэвиса, По существу, под покрывалом оказался всего лишь обтянутый иссохшей за века кожей череп. От всего облика усопшей царицы веяло чем-то мрачным и страшным. По спине моей пробежал холодок. И вдруг из темного угла зала донесся шорох. Резко вздрогнув, я принялся лихорадочно оглядываться по сторонам, опасаясь увидеть среди теней нечто кошмарное. Звук, однако, не повторился и ничего страшного я не увидел. Скорее всего, виновником шума был какой-нибудь мелкий ночной грызун. На всякий случай внимательно осмотревшись еще раз, я перешел к следующей мумии и, взявшись за край покрывала, приподнял его над лицом Юаа.
На сей раз у меня не едва не вырвалось изумленное восклицание. В то время как лицо Туа практически утратило человеческие черты, облик ее супруга просто поражал. Оказалось, что Дэвис не преувеличивал: я никогда в жизни не видел мумии, сохранившейся лучше. Прав был Дэвис и относительно узнаваемых расовых признаков: покойный вельможа вполне мог принадлежать к семитскому племени. Седые волосы на высоком челе, крючковатый нос и волевая челюсть придавали умершему властный, величественный вид, словно даже смерть не могла лишить этого человека высокого сана Глядя на его горделивое, исполненное достоинства лицо, я невольно задумался о том, не вижу ли перед собой подлинного автора той великой, основанной на поклонении единому Богу религиозной реформы, практическое претворение которой в жизнь выпало на долю ставшего владыкой Египта внука этого старца. Однако сразу за этим вопросом нахлынули и другие. Каким вообще был этот Юаа? Как ему удалось выдать дочь за царя? И как вышло, что он, не будучи не только фараоном, но и вообще египтянином, оказался погребенным в Долине царей?
Мои размышления о древних тайнах оказались, однако, прерванными повторившимся шумом. На сей раз моя реакция оказалась мгновенной: повернувшись, я направил луч фонарика туда, откуда донесся звук, и увидел отнюдь не грызуна, а человеческую фигуру. Всего на миг человек замер в дверном проеме, но чтобы узнать его, мне хватило бы и меньшего промежутка времени. Блеск этих глаз я запомнил еще с Саккары и Долины царей.
– Стой! – крикнул я.
Но араб уже оправился от секундной растерянности и метнулся вниз по лестнице.
– Стой! – снова приказал я, устремляясь за ним и надеясь, что мой крик будет услышан кем-нибудь из музейных сторожей.
Увы, беглец затерялся в темноте, и мне стало ясно, что искать его в огромном здании с множеством заставленных экспонатами помещений дело безнадежное: любой человек мог с легкостью здесь укрыться. К тому же я был почти уверен, что мой обидчик поспешил покинуть музейные лабиринты. Гадая о том, где находится тайное убежище этого негодяя и куда он, скорее всего, направился, я, разумеется, не мог не вспомнить про мечеть аль-Хакима.
Выбежав из музея и поймав на улице экипаж, я приказал вознице ехать к Северным воротам. Поначалу мы мчались быстро, ибо в столь поздний час движение на улицах уже не было чрезмерно оживленным. Однако по мере приближения к мечети возница начал ощутимо нервничать, а когда до цели оставалось несколько кварталов, остановил лошадь и категорически отказался ехать дальше. Ни брань, ни посулы на него не действовали, и в конце концов, отчаявшись уломать упрямца, я плюнул и решил продолжить путь пешком – благо до цели было не так уж и далеко. Увы, меня угораздило заблудиться – а ведь казалось, что дорогу я помню хорошо. Улицы петляли и кружили, словно проходы какого-то нескончаемого кошмарного лабиринта, и когда мне удалось-таки добраться до мечети, прошло уже так много времени, что едва ли стоило рассчитывать застигнуть беглеца врасплох. Впрочем, данное соображение не помешало мне подняться по лестнице к знакомой двери и забарабанить в нее с требованием немедленно открыть. Ответом было лишь гробовое молчание. Дверь, разумеется, так и осталась запертой.
Торопливо спустившись, я выбежал во двор, освещенный, как и в первое мое посещение этого унылого места, мертвенно-бледным светом луны. Нигде не угадывалось никаких следов человеческого присутствия. Раздосадованный, я принялся кричать, призывая то беглеца из музея, то старого арабского ученого, то хоть кого-нибудь. Само собой, никто не откликнулся. Мечеть окутывала тишина.
Мне не оставалось ничего другого, кроме как вернуться в свой каирский дом, подремать несколько оставшихся до утра часов и утренним поездом отбыть в Танту.
К месту ссылки я прибыл поздним вечером, обескураженный, усталый и не желавший уже ничего другого, кроме возможности спокойно отдохнуть. Однако едва экипаж, доставивший меня со станции, отъехал от дома, навстречу выбежал перепуганный, взволнованный слуга. Он бормотал что-то невнятное, беспрерывно стенал и размахивал руками. Отчаявшись добиться от него толку, я взбежал на крыльцо. Поначалу мне показалось, будто все осталось в том же виде, что и до моего отъезда. Я уже было собрался повернуться к слуге и потребовать объяснений и вдруг увидел, что дверь моего кабинета выломана самым варварским образом.
– Будь они прокляты! – прошептал я, остановившись в проеме и заглядывая в комнату. – Чтоб им в ад провалиться!
Неожиданно на глаза мои навернулись слезы, и, чтобы слуга не стал свидетелем мимолетной слабости господина, пришлось отвернуться и утереть их рукавом. Только после этого я вошел в кабинет и подобрал мертвых птичек – невесомые комочки перьев, все, что осталось от моих славных, красивых, голосистых пернатых друзей. Они были не просто убиты, а зверски растерзаны, а их кровью на стене кабинета начертали уже знакомые мне слова:
«Уходи навсегда. Ты обречен. На тебя пало проклятие».
В другом месте, над столом, неведомые враги намалевали не менее памятные мне фразы:
«О Лилат помыслил ли ты? Помыслил ли об иной, великой? Воистину надобно трепетать пред ликом ее, ибо велика Лилат среди богов».
Не приходилось сомневаться в том, что недруги надеялись напугать меня колдовством. Однако они просчитались, нарвавшись не на того человека. Меня всегда отличали стойкость и упорство в достижении цели, черты, которые кто-то мог бы счесть проявлениями простого упрямства, но которые сам я расценивал как свидетельства последовательности и целеустремленности. Стало ясно, что время предупреждений прошло: мне объявили войну.
В тот же вечер я сел за стол и написал на имя мсье Масперо заявление о немедленной отставке.
* * *
Определенного плана действий у меня не имелось, но стремление осмыслить случившееся привело к тому, что я вернулся в Фивы. В Долине царей можно было надеяться обнаружить что-нибудь важное, ознакомиться со свежими находками или узнать о чем-то таком, что не показалось Дэвису заслуживающим упоминания. Кроме того, мне следовало позаботиться об источнике средств к существованию, а в Фивах, где моя репутация была хорошо известна, я всегда мог рассчитывать на заработки в качестве художника или гида, сопровождающего богатых туристов. Но самое главное, после потрясения, пережитого в кабинете моего дома в Танте, я настоятельно нуждался хотя бы в иллюзии безопасности, и Фивы казались мне местом, более любого другого способным стать моим домом.







