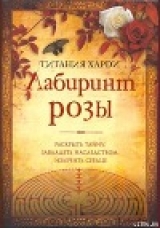
Текст книги "Лабиринт розы"
Автор книги: Титания Харди
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц)
Титания Харди
Лабиринт розы
Моему мужу, Гаврику Лоузи, дающему мне покой, когда бушует буря.
В серьезных стычках каждая из сторон утверждает, что действует по воле Божьей. Обе они, вполне вероятно, ошибаются, но одна – наверняка. Бог не может одновременно выступать «за» и «против».
Авраам Линкольн
«Vexilla regis prodeunt inferni
verso di noi; pero dinanza mira»,
disse '1 maestro mio «se tu '1 discerni».
«Vexilla regis prodeunt inferni
Навстречу нам, – сказал учитель. – Вот,
Смотри, уже он виден в этой черни».
Ад, песнь XXXIV (перевод М. Лозинского)Данте Алигьери. Божественная комедия.
ПРОЛОГ
День святого Георгия, апрель 1600 года
Постоялый двор по дороге в Лондон
Во главе трапезного стола, у самого камина, понурив голову восседает седобородый старик. В тонких пальцах правой руки он теребит что-то темное и блестящее. Стол перед ним усыпан лепестками «Розы мира» – белыми, с ярко-розовыми прожилками. Те, кто делит с ним компанию, знают: перед их глазами разворачивается таинство, единение Духа с душой каждого из них, рождение долгожданного чуда – алхимического гомункула. Не в пример бубнящим в соседних комнатах обитателям гостиницы, присутствующие сохраняют молчание, не сводя глаз со старика.
Дверь тихо открывается и так же тихо затворяется, и тишину нарушает шарканье подошв. Слуга, которого никто не удостаивает вниманием, вкладывает в сухонькие руки старика записку. Тот неторопливо читает, и на его высоком лбу – удивительно гладком для человека таких преклонных лет – залегает глубокая складка. Он долго медлит, затем оглядывает лица людей, собравшихся за длинным столом, и наконец обращается к ним голосом тихим, как вечерняя молитва:
– Всего какой-то месяц назад синьора Бруно сожгли на костре на Кампо де Фиори. Перед этим ему дали сорок дней, чтобы он мог отречься от своих ересей, будто Земля вовсе не средоточие мира, кроме нее есть еще много солнц и планет, и будто божественность Спасителя нельзя принимать за буквальную истину. Монахи предложили ему для целования распятие, чтобы он мог покаяться в грехах, но он лишь отвернул голову. В доказательство милосердия к нему церковники перед тем, как разжечь костер, надели ему на голову венец, начиненный порохом, чтобы ускорить смерть. Они также пришпилили ему во рту язык, чтобы помешать ему произносить крамольные речи.
Старик снова оглядывает сотрапезников и немного погодя продолжает:
– И вот некоторые из нас уже держат в руках нить, уводящую далеко отсюда…
Его глаза задерживаются на человеке на другой стороне стола, по левую руку от него. Тот сидит сгорбившись, уткнувшись в пивную кружку, и соседу приходится подтолкнуть его локтем и шепотом обратить его внимание на главу собрания, вперившего в него взгляд. Оба некоторое время смотрят друг на друга, будто в поединке, пока более молодой не уступает. Улыбка смягчает его застывшие черты, и тогда старик спокойно спрашивает, еще больше понизив голос:
– Возможно ли, используя самые неистовые ухищрения ума, сохранить росную свежесть его идей о любви и всеобщей гармонии? Сумеют ли «бесплодные усилия любви» все преодолеть?
1
Черный дрозд нарушил его беспокойный сон песенкой, проникшей сквозь плотно закрытые ставни дома.
Накануне Уилл приехал поздно, когда тусклые сентябрьские сумерки уже сгустились в ночь, но лунного света хватило, чтобы отыскать спрятанный среди гераней ключ от входной двери. Теперь он очнулся в темноте – перепуганный, странно смятенный, хотя тонкая полоска света, пробивающаяся в щель меж ставен, ясно говорила, что он не заметил, как наступило утро.
Он выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Со щеколдами пришлось повозиться: деревянные засовы разбухли от дождей, и ставни никак не хотели открываться. Наконец нащупав правильное положение, он неожиданно окунулся в яркий свет. За окном стояло прекрасное утро ранней осени, и стелющийся туман уже прорезали первые солнечные лучи. Вместе со светом и сыростью в комнату вплыло благоухание роз, в котором безошибочно угадывалась лавандовая нотка, вероятно долетавшая с чьей-то живой изгороди. Запахи исподволь принесли с собой сладостно-горькие воспоминания, но одновременно и восстановили душевный покой, развеяв навязчивые образы тех, кто так долго населял его сны.
Вчера он забыл, что захватил с собой кипятильник, но ему до смерти захотелось ополоснуться в душе после долгой и пыльной дороги из Лукки. Прохладная вода показалась вполне бодрящей, хотя жаль было охлаждать тело: в дороге мышцы и так онемели. Его «Дукати-998» не какой-то прогулочный мотоцикл, это настоящая супермодель, и с каким норовом! Стремительный, фантастически капризный, зато всегда рвущийся вперед, «дукати» превосходно отвечал веселому и эксцентричному характеру Уилла. Однако нельзя не признать, что долгие безостановочные переезды на нем не очень комфортны – вчера вечером Уилл чувствовал, что колени в крагах уже сводит, словно в судороге, но предпочел не обращать на это внимания. Если ты рохля, то нечего и заморачиваться ездой на таком мотоцикле.
Отражение в зеркале в очередной раз подтвердило правоту слов матери, называвшей его «слегка падшим ангелом». Уилл подумал, что с такой щетиной на подбородке он вполне годится в статисты для какого-нибудь фильма Дзефирелли. Пораженный этой мыслью, он расхохотался. Да, пожалуй, его нынешний вид огорчил бы даже мать. В чертах скалящегося в зеркале отражения проступило нечто маниакальное, и Уилл подумал, что во время поездки не слишком ревностно отгонял демонов от своей души.
Он соскреб с лица поросль нескольких дней – едва ли это можно было назвать бритьем – и, очищая лезвие от мыльной пены, неожиданно заметил засохшую и поблекшую, но превосходно сохранившуюся розу, стоящую в старой бутылке из-под чернил рядом с умывальником. Наверное, в эти две недели братец Алекс привозил сюда какую-нибудь девчонку… В последнее время Уилл был так поглощен своими собственными мыслями, что едва ли мог следить за чужими перемещениями. Но сама идея его заинтриговала, и он улыбнулся.
– Позвоню ему сегодня, ближе к вечеру, как только доберусь до Канна, – произнес он вслух, удивленный непривычным звучанием собственного голоса.
Отправления парома придется ждать едва ли не до полуночи, а сейчас у Уилла найдутся другие дела. В светлой утренней безмятежности кухни он впервые за этот месяц начал отходить от напряжения, от тревожных и мимолетных ощущений, неотступно преследовавших его все последние дни. В открытую дверь из сада прокрался аромат яблок, принося умиротворение осени – уже в тридцать второй раз за его жизнь. Он сбежал от всего и от всех, но домой возвращаться было приятно.
Уилл смыл с бокала вчерашний красноватый винный налет и закинул в микроволновку остатки французской булки – пусть немного подогреется. Он решил проверить мотоцикл и понял, что даже не помнит, как его поставил: мысль о пристанище не отпускала его, когда он мчался сюда из Лиона, с трудом преодолевая последние оставшиеся до дома мили, когда потом доставал из рюкзачка пикантный сыр бри и отламывал куски от багета, запивая отцовским «Сент-Эмильон», когда ложился спать…
Снаружи был завораживающий покой. По фасаду расползлись поздние побеги глициний. Если не замечать легких признаков запустения вроде неподстриженной лужайки или неподметенных дорожек, то ничто в доме не выдавало семейной трагедии, из-за которой это жилище опустело на долгие месяцы. После внезапной кончины матери Уилла, ставшей для всех ужасной утратой, никто больше не изъявлял желания наведываться в коттедж, хотя, если выдавались трехдневные выходные, из их дома в Гемпшире добраться сюда ничего не стоило. Здесь было ее царство, ее убежище, где она с радостью предавалась живописи и садоводству, и ее призрак все еще обитал в каждом уголке жилища, даже при солнечном свете. Отец страдал молчаливо, почти не разговаривал и все время пропадал на работе, чтобы не изводить себя лишними мыслями. Алекс вроде бы принимал все как есть, но никого не впускал в свои сокровенные переживания. А Уилл был воистину мамин сын: живо откликался на все, что происходило вокруг, а отношения с людьми наполнял свойственной ей пылкостью. И здесь, в ее волшебном уголке, он очень скучал по ней.
Он пробежался взглядом по короткой, посыпанной гравием тропинке, ведущей от дороги к входным дверям, но не заметил там ничего необычного. Пустота, граничащая с разочарованием, – но так даже лучше. Кажется, никто толком не знает – или не хочет знать, – куда он запропастился, по крайней мере пока. Уилл стал непроизвольно поигрывать серебряным украшением, подвешенным у него на шее на короткой цепочке, потирая вещицу между пальцами. Затем он отправился в розарий.
Мать потратила более двадцати лет на создание коллекции старых сортов в знак уважения к знаменитым садоводам; от такого разнообразия не отказался бы и Мальмезон. [1]1
Мальмезон – бывшая резиденция Наполеона I и Жозефины, расположенная в двадцати километрах от Парижа.
[Закрыть]Она рисовала свои розы, вышивала их, добавляла в пищу; но если они и заметили ее отсутствие, то никому не шепнули об этом ни словечка.
Среди клумб красовался фонтан с выложенной на дне разноцветной мозаикой из фарфоровых осколков – Уилл был еще ребенком, когда мама собственноручно сложила ее. Черепки образовывали спираль, а в самый центр она поместила изображение Венеры – покровительницы роз. На Уилла эта мозаика оказывала прямо-таки магнетическое действие.
Мельком удостоверившись, что его жизнерадостно-желтый, но чрезвычайно замызганный после множества пройденных миль мотоцикл мирно стоит в тени дома, он вернулся на кухню. Аромат хорошего кофе вернул его к действительности. Уилл запустил пальцы в нечесаную шевелюру. Вымытые волосы уже просохли на теплом ветерке, но срочно нуждались в стрижке. Лучше заняться этим до воскресенья, когда состоится их семейный обед по случаю дня рождения Алекса: в его отношениях с отцом и без того пробежал холодок, и имидж бродяги может только ухудшить дело. Его более благопристойный братец всегда причесан как следует, одет опрятно, а вот Уилла, проведшего в Риме больше месяца, в конце его пребывания там уже принимали за местного. Это его вполне устраивало: везде, куда бы Уилл ни приехал, он стремился раствориться в толпе.
Масла не нашлось, но Уилл с удовольствием сжевал подогретый хлеб, щедро намазав его оставшимся в маминой кладовой вареньем. Облизывая пальцы, он вдруг заметил на кухонном столе открытку, начинавшуюся словами: «Уилл и Шан». Почерк был, несомненно, ее. Он взял записку, недоумевая, когда мама могла это написать.
Уилл и Шан, отдохните хоть несколько деньков. В морозилке есть оленина – может, пригодится? Не забудьте про мои клумбочки. Жду вас домой на Рождество.
Д.
Скорее всего, она оставила открытку в прошлом ноябре. Почти весь истекший год Уилл безостановочно ссорился с Шан, а в конце весны они расстались окончательно. Размолвки, участившиеся с прошлого августа, сильно измотали их обоих; Шан неустанно требовала от него каких-то уступок и в конце концов утвердила его в мысли, что им следует распроститься с мечтой провести неделю вдвоем в нормандском доме. На тот момент у Шан не было в округе других знакомых, а со скудными познаниями во французском ей волей-неволей пришлось бы довольствоваться только его обществом, что стало бы, думал Уилл, непосильным испытанием для их отношений. Итак, они никуда не поехали и записку не видели, в целительном мамином саду не погуляли и не причастились на Господней вечере в земле Ож.
Теперь, вспомнив Шан, Уилл даже улыбнулся: три месяца скитаний утихомирили его злость. Она была поразительна в своей неповторимости – явно на любителя и, во всяком случае, совершенно не во вкусе Уилла. Он вдруг ощутил тоску по физической близости с ней, словно впервые заметив пустоту рядом с собой или в своем сердце. Но страсть, которая всегда была ядром их отношений, вела в никуда, и он знал, что правильно сделал, расставшись с ней. Их любовь так и осталась юной, но ветер переменился. Уилл не был таким же снисходительным и трезвомыслящим, как Алекс, и далеко не всегда завершал однажды начатое. Нет, он не смог бы стать ей таким мужем, какого ей хотелось, – карьеристом, компаньоном для воскресных походов в магазин «Конран», возлюбленным, готовым продать свой «дукати» ради покупки «вольво». Объявив необузданность Уилла страстью, она с самого начала искала способа приручить его. Уиллу доставляло удовольствие стряпать для нее, забавлять ее, петь для нее, заниматься с ней любовью так, как никто до него; но он понимал, что ему никогда не удастся раствориться в ней настолько, чтобы заглушить голос собственных четких политических взглядов, которые то и дело выливались в ожесточенные дискуссии с ее безмозглыми подружками и их бесхребетными приятелями. Короче говоря, он никогда не смог бы поселиться в ее надежном и, с его точки зрения, убаюкивающем мирке.
Уилл перевернул открытку – там оказалось изображение большого окна-розетки в Шартре. Мама часто рисовала его – вид изнутри и вид снаружи. Ей нравился свет, льющийся через стекло, рассекая полумрак, такой яркий, что больно глазам.
Уилл поиграл мобильником – тот был теперь полностью заряжен – и, продолжая любоваться открыткой, набрал сообщение брату:
Наконец-то вторгся в Нормандию! Ты был здесь до 18-го? Паром сегодня в 23.15 из Канна. Позвоню перед отплытием. Много вопросов к тебе. У.
Привычным движением он влез в кожаную куртку, сунул мобильник в карман, а открытку пристроил на груди, рядом с драгоценным документом, побудившим его начать захватывающие поиски, ради которых и пришлось все лето колесить по Италии. Теперь концы понемногу начали сходиться с концами, но перед Уиллом по-прежнему простирался континуум из множества вопросов, а ощущение тайны еще более обострилось. Он обулся в запыленные ботинки, поспешно запер дом и спрятал ключ в условленное место. Даже не обтерев мотоцикл, Уилл надел шлем, достал из бардачка перчатки и прыгнул в седло. До Шартра приблизительно семьдесят километров – горючего должно хватить.
2
19 сентября 2003 года, Челси, Лондон
Люси зажмурилась от неумолимых солнечных лучей осеннего равноденствия, пробивавшихся сквозь листву. Она сидела под безукоризненно подстриженным тутовым деревом в ботаническом саду Челси, наслаждаясь самим своим пребыванием в нем. Дерево было усыпано ягодами, их густой аромат пропитывал воздух. Этим утром ей стало получше, и врачи не без опаски разрешили ей «неспешно прогуляться», чтобы дать ей возможность хоть как-то убить время, которое теперь, когда она вынуждена была то и дело отдыхать, словно застыло для нее. Пожалуй, она забрела даже слишком далеко, но им она об этом не скажет. К тому же было так приятно выбраться из больничного здания, где твои чувства и переживания становятся всеобщим достоянием, и наедине с собой предаться кое-каким размышлениям. Такие дни стали для нее чудом, и она намеревалась продлить их, насколько возможно.
Терпеливо ожидая операции на сердце – слишком серьезной и потенциально опасной, так что не хотелось даже задумываться о ней, – готовая к переводу в Хэрфилд в любой момент, как только представится для этого возможность, Люси, потрясенная красотой осенней природы, чувствовала себя сегодня заново рожденной. Китс был прав: среди времен года осень удается Англии лучше всего. Ее убаюкивало жужжание шмелей и газонокосилок, гуление младенца неподалеку и, главное, отсутствие уличного грохота.
Созерцая округу в это погожее сентябрьское утро и вчитываясь в строчки «Прощания, возбраняющего печаль» из потрепанного томика Джона Донна, Люси проникалась нежданной надеждой:
28 марта 1609 года, на излучине реки близ Лондона
В уединенном особняке на берегу Темзы умирает старик. Он был другом и единомышленником синьора Бруно – философ и ученый, книжник и мудрец. Возможно, теперь он один и остался из тех, кто был посвящен в удивительные тайны Бруно. Великая королева Елизавета была ему вместо крестницы и долгие годы держала в поверенных, называя своими «глазами», но не так давно и сама сошла в могилу. Ее преемник, угрюмый шотландский король, помешан на призраках и демонах и опасается, как бы кто-нибудь не нашел способа оспорить его власть. Последние несколько лет старик коротает дни здесь, в бывшем доме своей матери.
Ночь для мартовского равноденствия выдалась слишком туманной. Фонари словно выскакивают из мглистой завесы по мере того, как лодка, влекомая приливом, мерно движется вверх по реке от Челси до Мортлейка. На скудно освещенный причал неловко спрыгивает закутанная фигура и тут же направляется к дверям. Низенькая чопорная женщина неопределенных лет проводит молодого человека во внутренние покои, в комнату его старого учителя. Он входит так стремительно, что пламя свечей колеблется и едва не гаснет.
– А, мастер Сондерс, – тихо говорит старик. – Я знал, что ты не откажешься прийти, хотя я долго колебался, прежде чем просить тебя об услуге. Увы, всем остальным я не доверяю.
– Ваша милость, прискорбно видеть вас в таком состоянии. Вы, вероятно, ждете от меня помощи в приготовлении к последнему долгому путешествию, о котором говорили вам ангелы?
Старик улыбается натужно, но не без иронии:
– Путешествию, говоришь? Да, я достаточно пожил. По правде сказать, мне давно туда пора. Послушай же меня внимательно, Патрик. Я и вправду умираю, мне уже немного осталось. Нет времени отвечать на вопросы, которые ты наверняка желал бы мне задать, – я буду говорить сам, а ты слушай.
Старика все сильнее мучает одышка. Он с трудом выдавливает из себя слова, но собеседнику невдомек, каких усилий они ему стоят. Тот между тем продолжает:
– Ты видишь у моей постели три ларца, а рядом с ними – послание, написанное мною собственноручно. Оно должно разъяснить все, что ты пока не способен понять. С минуты на минуту сюда придут три человека; они проделают надо мной операцию по моему же настоянию. Прошу, не страшись за меня и дождись завершения. Когда все закончится, они передадут тебе эти три шкатулки. В точности следуй моим указаниям, ничего не меняй, умоляю тебя. Это моя последняя воля, а моей дорогой дочери Кейт не под силу ее исполнить. Все накопленные за целую жизнь размышления я изложил в своем завещании…
В комнате появляются три молчаливых человека, закутанные в плащи. Они обступают старика, один из них открывает круглый кожаный футляр – там оказываются хирургические инструменты. Затянутая в перчатку рука берет старика за запястье, считает пульс… Все ждут. Наконец одна из фигур кивает.
«Безропотно сейчас простимся…»
Изящная рука в окровавленной перчатке кладет еще не остывшее сердце доктора Джона Ди в ларец со свинцовой крышкой. Его товарищи вручают две другие шкатулки – одну золотую, а другую серебряную – недоумевающему Патрику Сондерсу. Тот забирает их вместе с письмом и завещанными ему редкими книгами и, ошеломленный, уходит восвояси.
19 сентября 2003 года, Челси, Лондон
Люси слышит вверху гул самолета и, оторвавшись от грез, со слабой улыбкой смотрит в небо. Погода внезапно переменилась, и редкие дождевые капли быстро превращаются в ливень. Она выбегает из-под дерева под ненадежным прикрытием книжной обложки. Что ж, пусть хоть музы ее защитят. Во влажном воздухе текучие движения ее тела, облаченного в жемчужного цвета шелковую юбку и кремовую кружевную блузку, производят впечатление ожившего импрессионистского полотна, в которое попала Люси и вот-вот в нем растворится.
Пейджер подает сигналы: ее уже хватились в больнице Бромптона. Надо срочно возвращаться.
3
Я волен быть таким, как есть, и тем лишь я и буду.
Согласно письму, приложенному к материнскому завещанию, загадочная рукопись вместе с ничем не примечательным серебряным ключиком досталась младшему брату. По семейной традиции наследование происходило по женской линии, но за неимением дочерей умирающая все последние недели мучилась вопросом, как поступить с этими вроде бы не имеющими особой ценности предметами, пережившими тем не менее не одно поколение. Вероятно, принять их вместо несуществующей дочери должен был ее старший сын Алекс, но Диана больше склонялась к тому, чтобы отдать их Уиллу, и, хотя одинаково любила обоих, все же не могла побороть ощущения, что у младшего эти вещи будут сохраннее. Так она и объяснила в своем послании.
Когда Алекс женился, Диана стала надеяться на появление внучки: это решило бы все проблемы. Но непосильная напряженная работа, из-за которой он редко появлялся дома, в конце концов привела его брак к печальному исходу, и долгожданной дочери так и не суждено было родиться. Зато Уилл… Что ж, от него никакой семьи она и не ждала. Ее младший сын был талантлив, добр, отзывчив, но в то же время и вспыльчив. Женщины не могли устоять перед ним, внешне таким небрежным, но безумно привлекательным и обладающим неотразимым шармом. Оба брата дружили со спортом и в юности играли в крикет в деревенской команде, но Уилл, если бы захотел, мог бы защищать даже честь графства. Он был опасен на позиции отбивающего мяч: зарабатывал четверки и добывал шестерки неуклюжими, но очень действенными приемами, а делая подачу более слабым соперникам, демонстрировал искусство противоположной подкрутки и хохотал, наблюдая, как они кидаются в одну сторону, когда мяч летит в другую. Его несколько раз приглашали заезжие охотники за талантами, но Уилл всякий раз отказывался: ему жаль было тратить время на тренировки и жертвовать летним отдыхом. Если выдавался свободный день, он мог поиграть просто так, в свое удовольствие, но никогда – ради выгоды. Уилл не хотел ощущать на себе чье-то влияние – в этом была вся его натура.
Диана надеялась, что Шан – такая дерзко-привлекательная, решительная и уже подумывающая о браке – в конце концов добьется своего и приведет Уилла к алтарю. Шан недавно исполнилось тридцать – чего еще ждать? Может быть, хоть у младшего сына родилась бы девочка; Диана, зная о его чувствительности, скрытой под внешней мужественностью, представляла, как бы он лелеял дочурку. Неважно, к чему впоследствии подошел бы этот ключик, в любом случае он предназначался для дочери Уилла. Да, Диана полагалась лишь на время и на напористость Шан, поэтому и оставила вещицу младшему сыну. Она написала для него записку и вложила ее вместе с ключом и со старинным листом пергамента в большой конверт. Записка была короткой:
Уиллу, когда он станет не таким, какой он сейчас.
Больше она не проронила об этом ни слова – даже на смертном одре, когда навсегда прощалась с ним.
Уилл изучил талисман с дотошностью ювелира, рассматривая ключик на свет, любуясь им в разнообразных душевных состояниях: поздно вечером в порту, в потусторонних лучах лампы в фотолаборатории, на пронизывающем январском ветру сразу после маминых похорон, в Долине Храмов в Агридженто. Снова и снова он вглядывался в него, сидя в читальном зале архивов Ватикана, где пытался вникнуть в мрачное прошлое Кампо де Фиори. Ключ – ведь это так символично! Какой же замок он некогда открывал? Вероятно, череда лет уже давно поглотила его. Уилл подумал, что даже толком не знает, кому этот ключ впервые принадлежал. О материнской родне ему ничего не было известно: обычно уступчивый отец наотрез отказался обсуждать эту тему.
Я тот, кто есть, а кто я, ты увидишь.
До Шартра оставалось всего несколько миль. Уилл катил по автостраде, снова и снова прокручивая в уме заключительные слова рукописи. Он давно выучил ее наизусть и теперь являл чудеса ловкости, успевая следить за дорожными знаками, тогда как все его внимание было сосредоточено на строках старинного пергамента, ксерокопия которого все лето хранилась у него в кармане кожаной куртки. Даже сицилийская жара не заставила его расстаться с драгоценным наследством, и Уилл везде таскал куртку с собой. Ключик же обрел приют на цепочке у него на шее, где ему предстояло храниться, как решил сам владелец, если понадобится, до самой его смерти.
Уилл пытался объяснить всем, почему для него так важно уяснить суть завещанного ему достояния, но вскоре он понял, что даже Алекс считает его потуги пустым наваждением. Разумеется, его старший брат подошел бы ко всей ситуации совершенно иначе, втискивая свои догадки в промежутки между работой, написанием диссертации и частым общением с малолетним сынишкой. И конечно же, Алекс не мог пропадать в Европе все лето, потому что имел некие обязательства.
Но Уилл-то был совсем другим человеком! Его снедало желание узнать, что же все это значило, и он был не способен заниматься посторонними делами, пока не найдет решение загадки сфинкса и не отыщет замок, к которому подойдет его таинственный ключ. Казалось, сама его личность включена в общую головоломку, и вовсе не толки о том, что ключ охраняет «драгоценные фамильные сокровища», придавали ему силы в поисках. Уилла не интересовали ни золото, ни ювелирные изделия, зато не давали покоя вопросы, что же его предки могли счесть таким важным, если бережно передавали эту вещицу из поколения в поколение, и с какой эпохи следует вести отсчет.
Уилл был внештатным фотожурналистом, и потому у него имелись обширные знакомства. Однажды за кружкой пива его давний коллега, а теперь уже просто близкий друг заинтересовался этой историей и предложил свое содействие. Он отправил фрагмент рукописи своему кузену, работавшему в Оксфорде, для проведения радиоуглеродного анализа, чтобы установить хотя бы приблизительный возраст документа.
Уилл, изнывая от палящего июньского солнца, щелкал кадр за кадром в греческом театре Таормины, когда на мобильник вдруг пришло интригующее сообщение:
Образцы тестированы 2. Оба, вероятно, конец 16 в. Интересно? До сент. Саймон.
Еще бы не интересно! Что же случилось на Кампо де Фиори – пресловутой площади Цветов – в конце шестнадцатого века? О нем в первую очередь упоминалось в документе, но, невзирая на свою сообразительность по части кроссвордов и анаграмм, Уилл понятия не имел, какое отношение ко всему этому имеет его ключ. После нескольких недель разъездов и поисков у него в голове стала понемногу вырисовываться некая картина, хотя Уилл по-прежнему не знал, что делать с осаждавшими его бесчисленными фактами, которые могли – хотя и не обязательно – иметь отношение к делу.
Накануне он провел день в Риме, посылая на свой электронный адрес снимки предположительно значимых мест и целые страницы информации о местном политическом климате шестнадцатого столетия. На «Амазоне» Уилл заказал целый список книг, которые должны были дожидаться его у Алекса по приезде. Больше всего его интересовали Ченчи, [3]3
Ченчи Беатриче (1577–1599) – дочь римского дворянина Франческо, славилась редкой красотой. Не выдержав жестокого обращения со стороны отца, в 1598 г. с помощью мачехи и брата подослала к нему наемного убийцу. Все трое были казнены.
[Закрыть]Бруно и Галилео. Ему хотелось на досуге еще раз внимательно все пересмотреть, но порой размышления уводили его тайными тропами мимо смутных и мрачных образов, вовлекая в некое подобие манерно-куртуазного танца. Уиллу не раз казалось, что с ним словно кто-то забавляется: часто тропы оборачивались тупиками, оставляя в душе жутковатое и неуютное ощущение. Рим то и дело побуждает вас оборачиваться на ходу, хотя за спиной никого нет – кроме вашей паранойи.
Несмотря на ограниченный шлемом обзор, Уилл за много миль заметил волнующий воображение мираж – Шартрский собор, плывущий над плоской долиной. Стремительно приближаясь, громада подавляла невыразимым величием. Уилл представил, каким ничтожным чувствовал себя на его месте средневековый пилигрим, и пришел к мысли, что эта завораживающая картина – великолепный собор, вознесшийся над округой, – никогда не утратит над ним своей власти, как и все, что связано с этим образом.
Он свернул за угол и резко сбавил скорость. Мотоцикл сразу стал менее поворотливым, и Уилл сосредоточил все внимание на дороге, медленно пробираясь сквозь путаницу средневековых улочек. Ему пришлось дважды заглушать двигатель, вникая в городские хитросплетения: стоило ему лишь на минуту отвлечься, как машина начинала капризничать. Уверенно миновав участки с ограниченным движением, словно коренной житель этих мест, Уилл проигнорировал предупреждение парковаться только в установленных местах и покатил в сторону церковных шпилей. Промчавшись по площади Бийяр и затем по улице Менял, он грохотом двигателя «Тестастретта» разрушил монастырскую тишину Шартра.
Пристроившись у края тротуара с южной стороны собора, Уилл оставил мотоцикл на площадке со счетчиками автоматической оплаты. Судя по всему, приближался полдень: из бистро напротив доносился густой аромат moules marinieres [4]4
Мидии (фр.).
[Закрыть]и лукового супа, напомнив ему о том, что после посещения собора неплохо бы чем-нибудь подкрепиться. Нормально поесть удастся еще не скоро.
Он посмотрел вверх, на два хорошо знакомых всем шпиля, неравных по длине, и, сдернув шлем куртуазно-рыцарским жестом, прошел под сумрачный свод величественного западного портала. В соборе было темно, словно во чреве, и, пока его глаза немного пообвыкли к полумраку, уши успели уловить доносящиеся со всех сторон приглушенные разговоры. Группы разноязычных туристов с разинутыми от восхищения ртами неподвижно взирали на бесподобный цветной витраж, расположенный прямо над головой Уилла. И хотя сам он, как ему казалось, тоже приехал сюда именно за этим, его внимание тут же привлекло то, чего он ни разу не замечал в предыдущие посещения – а их за все годы набралось уже больше десятка.
Большинство сидений были убраны, и взгляд Уилла оказался прикован к черно-белому мозаичному узору в форме круга, выложенному из мраморных плит на мощеном полу просторного готического нефа, между колоннами. Лабиринт, подсвеченный яркими бликами драгоценного витража, охватывал собой все пространство огромного собора. В его центре с закрытыми глазами стояла девушка, но Уилл и так прекрасно разглядел цветок в самой середине рисунка. Вероятно, он не раз наступал на него, когда подходил к алтарю, ни разу не взглянув при этом себе под ноги.
Рядом юная француженка вела экскурсию, приглушенно объясняя что-то своей группе на приличном английском. Уилл улыбнулся: летняя подработка для студентов.
– Так вот, это знаменитый Шартрский лабиринт. Как мы с вами знаем, все лабиринты очень древние. Они встречаются в самых разных странах, но здесь, в средневековом соборе, этот языческий символ, несомненно, приобретает глубокий христианский смысл. Известно, что подобные лабиринты существовали и в соборе Осера, и в Амьене, точно так же, как в Реймсе, Сансе и Аррасе. Все они были разобраны, потому что люди в семнадцатом – да и в восемнадцатом – веке не понимали их назначения. Нам теперь ясно, что духовенство с подозрением относилось к тем людям, которые пытались пройти эти лабиринты! Здешний же сохранился наилучшим образом…








