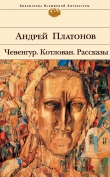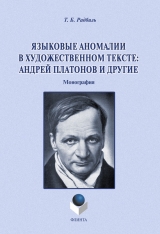
Текст книги "Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие"
Автор книги: Тимур Радбиль
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
2.4. Художественное повествование Андрея Платонова в свете языковой аномальности
«Художественный мир» и художественная речь встречаются в «событии художественного произведения» [Бахтин 1979]. По аналогии с «художественным миром» и художественной речью имеет смысл выделять и такую сферу, как «художественное повествование», понимаемую в качестве регулярной реализации в тексте неких общих для данного автора принципов наррации и текстопорождения в целом.
Напомним, что мы разграничиваем (1) текст (текстовую структуру) как явление языка, (2) дискурс как его субъектно ориентированную речевую реализацию и (3) наррацию как совокупность сюжетно-композиционных, пространственно-временных и других повествовательных принципов организации художественного произведения.
2.4.1. Понятия «текст» / «дискурс» / «наррация»: проблема выделенияТекст в лингвистической науке имеет широкий спектр толкований. Возможные дефиниции текста Т.М. Николаева обобщает в четыре основных значения термина: «Текст – один из базовых терминов лингвистики текста, употребляющийся, однако, в различных значениях. Основные из них следующие: 1) текст как связная последовательность, законченная и правильно оформленная; 2) некоторая общая модель для группы текстов; 3) последовательность высказываний, принадлежащих одному участнику коммуникации; 4) письменное по форме речевое произведение» [Николаева 1978: 471].
Существует предельно широкое понимание текста, принадлежащее X. Вайнриху: «Текст – это упорядоченная последовательность морфем, состоящая минимально из двух морфем, максимальный же ее состав не ограничен. Текст можно рассматривать… как регулярное чередование лексических и функциональных морфем» [Лингвистика текста 1978: 374].
Существует предельно узкое понимание текста: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа литературно-обработанное в соответствии с типом этого документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин 1981: 18]. Как видим, здесь термин текст сохраняется только за письменными речевыми произведениями, однако есть точка зрения, допускающая и устную форму для текста [Бахтин 1979; Сыров 2005].
В последнее время активизируется и общесемиотическое понимание текста, выводящее понятие текст вообще за пределы языка. С этой точки зрения любая организованная последовательность элементов, которым может быть приписан смысл (т. е. которые находятся в знаковом модусе существования), может рассматриваться как текст – в этом смысле симфония, архитектурное сооружение и даже балет суть тексты; более того, текстом можно считать и город, и даже явления природы; отдельный человек, общество, весь универсум, рассмотренные в определенном аспекте, также суть тексты [Руднев 1997: 308].
Однако представляется, что в таком понимании текст утрачивает свою культурную, литературную и языковую определенность. Поэтому в нашей работе для обозначения особого, семиотического модуса существования объектов действительности мы употребляем это слово в кавычках («текст», модус «текст»), оставив обычное, раскавыченное употребление для собственно речевого произведения.
Весьма релевантным для целей нашего исследования представляется понимание текста в рамках оппозиции язык /речь. Так, в последнее время в лингвистических исследованиях сложилась традиция противопоставлять текст и дискурс.
Исходя из группы определений термина дискурс, приводимой Т.М. Николаевой, понятия дискурс и текст частично пересекаются по объему: «Дискурс (франц. discours, англ, discourse) – многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный текст, 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – письменная или устная» [Николаева 1978: 467]. Понятно, что при таком разбросе дефиниций нет смысла оперировать термином дискурс, на чем и настаивает, например, А.И. Горшков [Горшков 2001].
Во французской традиции первоначально термин дискурс сближался с другим базовым лингвистически термином – речь [Серио 1991], затем – с речевой деятельностью (речевой практикой) [Фуко 1996]. На важности субъектной принадлежности в трактовке понятия дискурс указывал Э. Бенвенист [Бенвенист 1974].
Представляется, что все же есть возможность сохранить релевантное разграничение понятий текст / дискурс в поле оппозиции язык /речь. Тогда можно различать текст как связную, целостную и законченную последовательность высказываний с точки зрения структурной организации, взятую в отвлечении от ее субъектной принадлежности и коммуникативно-прагматического задания, – и дискурс как последовательность высказываний, вписанную в конкретную субъектную перспективу и в конкретный коммуникативный фон ее функционирования [Арутюнова 1990; Серио 2001 и др.].
Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как речь, «погруженную в жизнь» [Арутюнова 1990: 136–137], что позволяет включать в рассмотрение дискурса внеположные по отношению к тексту моменты – наличное непосредственное коммуникативно-прагматическое окружение, более широкую социокультурную среду и пр.
Итак, в плане оппозиции язык / речь текст представляется явлением языка, а дискурс – явлением речи. Это просто две стороны единого целого – речевого произведения. Ср. по этому поводу определение И.А. Сырова: «Текст – это определенная обобщенно-абстрактная модель, которая является матрицей для реализации в речи единичных, авторских устных и письменных текстов-дискурсов. <…> Таким образом, дискурс можно обозначить как воплощение языковой модели в речи, причем языковые модели могут иметь различные формы и степень освоения речи: в устном типе дискурса – это мимика, жест, индивидуально-авторские просодические факторы…; в письменном типе дискурса – проявление субъективной модальности [разрядка наша – Т.Р.]» [Сыров 2005: 27–28].
Оставляя в стороне всю дискуссионность термина дискурс, будем условно относить реализацию общекоммуникативных и конкретно-языковых моделей связности и других текстовых категорий к тексту, реализацию особенностей субъектной организации повествования, текстовой модальности и пр. – к дискурсу.
Применительно к специфике художественной литературы можно выделить еще одну сторону текста как многопланового феномена – собственно нарративную сторону его структурной организации как уникальную и неповторимую совокупность неких обобщенных повествовательных стратегий, реализованных в данном художественном произведении.
Термин нарративность (повествовательность) также является дискуссионным. Существует лингвостилистическое понимание повествования как функционального типа речи (наряду с описанием и рассуждением) [Кожин, Крылова, Одинцов 1982], возможно и нетерминологическое употребление этого слова как квазисинонима термина «художественная речь». Однако в последнее время складывается даже целая научная дисциплина под названием нарратология, что свидетельствует о постепенном вычленении понятия повествовательности (нарративности) в отдельный исследовательский объект.
Теоретические основы нарратологии складываются под явным влиянием русской «формальной школы» (В.Б. Шкловский, Б.В. Томашевский) и альтернативных ей исследовательских традиций, воплощенных в работах М.М. Бахтина. Современная нарратология формируется под знаком структуралистских и семиотически ориентированных идей Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского и других представителей Московско-Тартусской школы.
В. Шмид в книге «Нарратология» излагает структуралистское понимание нарративности следующим образом: «Термин «нарративный», противопоставляемый термину «дескриптивный», или «описательный», указывает… на определенную структуру излагаемого материала. Тексты, называемые нарративными в структуралистском смысле слова, излагают, обладая на уровне изображаемого мира темпоральной структурой, некую историю. Понятие же истории подразумевает событие. Событием является некое изменение исходной ситуации: или внешней ситуации в повествуемом мире {естественные, акциональные и штеракциональные [здесь и далее курсив автора – В.Ш.] события), или внутренней ситуации того или иного персонажа {ментальные события). Таким образом, нарративными… являются произведения, которые излагают историю, в которых изображается событие» [Шмид 2003: 12–13].
Е.И. Диброва также в качестве определяющей для художественного текста выделяет особую категорию событийности (со-бытийности – в авторской транслитерацаии): «Текстовая категория со-бытийности – это определенным образом организованная бытийность как со-причастность к бытию в виде мыслимого авторского мира. Специфика художественной событийности состоит в том, что объективный мир представлен в образах – персонажей, предметов, событий и др. в художественном отражении действительности в виде конкретных, индивидуальных явлений» [Диброва 1998: 252].
Лингвистическое понимание нарративности предлагает, опираясь на идеи Г.О. Винокура и В.В. Виноградова, Н.А. Кожевникова, говоря о «типах повествования»: «Типы повествования – при всем многообразии их реального осуществления – представляют собой композиционные единства, организованные определенной точкой зрения (автора, рассказчика, персонажа) имеющие свое содержание и функции и характеризующиеся относительно закрепленным набором конструктивных признаков и речевых средств (интонация, соотношение видо-временных форм, порядок слов, общий характер лексики и синтаксиса)» [Кожевникова 1994: 3]. Близкое к изложенному понимание нарративности в аспекте оппозиций художественная речь / обыденная речь и нарратив / лирика приводится в работе [Падучева 1996].
В целях нашего исследования мы считаем нужным оставить за термином наррация только событийную сторону организации художественного произведения, отнеся его субъектную организацию к сфере дискурса.
Естественно предположить, что наррация как совокупность приемов «рассказывания историй» имеет свои принципы и правила. Их удобно сформулировать в виде предельно общих постулатов, предполагающих как саму возможность наррации, так и ее нормальное осуществление без нарушений, осознаваемых адресатом наррации.
Одна из первых попыток сформулировать эти общие постулаты текста, видимо, принадлежит О.Г. Ревзиной и П.П. Ревзину (в работе [Ревзина, Ревзин 1971]). Постулаты текста являются, по сути, модификацией известных постулатов речевого общения Г.П. Грайса [Грайс 1985] применительно к тексту как к коммуникативно-прагматическому событию в поле взаимодействия «отправитель – адресат». Авторы различают «технические» и «содержательные» постулаты.
К «техническим» постулатам относятся следующие постулаты.
Постулат о составляющих. В каждом акте коммуникации имеются отправитель, получатель, действительность, текст и код-язык.
Постулат о контакте. Между отправителем и получателем должен быть контакт.
Постулат о коде. Отправитель и получатель должны пользоваться тем же самым кодом.
«Содержательными» являются такие постулаты.
Постулат о детерминизме. Действительность устроена таким образом, что для некоторых явлений существуют причины, т. е. не все события равновероятны (при «сильном» детерминизме для любого явления может быть установлена его причина).
Постулат об общей памяти. Отправитель и получатель, пользуясь одной и той же моделью мира, имеют некоторую общую память, т. е. некоторую общую сумму информации относительно прошлого.
Постулат об одинаковом прогнозировании будущего. Отправитель и получатель, пользуясь одной моделью мира (т. е. оценивая мир в одних и тех же категориях), более или менее одинаково прогнозируют будущее.
Постулат об информативности. Отправитель должен сообщать получателю некоторую новую информацию.
Постулат тождества. Отправитель и получатель имеют в виду одну и ту же действительность, т. е. тождество предмета не меняется, пока о нем говорят.
Постулат об истинности. Между текстом и действительностью должно существовать соответствие, т. е. текст должен содержать истинное высказывание о действительности.
Постулат о неполноте описания. Текст должен описывать действительность с определенной степенью редукции, основываясь на наличии общей памяти и способности более или менее одинаково прогнозировать будущее.
Постулат о семантической связности текста. Текст должен быть устроен таким образом, чтобы между двумя непосредственно следующими друг за другом высказываниями, а также в пределах высказывания и словосочетания, могла быть установлена содержательная связь [Ревзина, Ревзин 1971: 242–243].
Отметим, что «текст» понимается авторами предельно широко, как любое законченное речевое высказывание участника коммуникации в рамках коммуникативного акта. Примерно так же понимал «текст» и М.М. Бахтин в работе о речевых жанрах [Бахтин 1979].
М.Ю. Федосюк, анализируя рассказы Д. Хармса, адаптирует постулаты П. Грайса уже применительно к художественному монологическому тексту, т. е. к нарративу в нашем понимании. Это, например, постулат о наличии в нарративном тексте высказываний репродуктивного регистра [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998]; постулат о наличии сообщения о нескольких событиях, постулат о нетривиальное™ передаваемой информации, постулат об отсутствии лишних деталей, постулат об описании взаимосвязанных событиях, постулат об отсутствии необоснованных сообщений [Федосюк 1996: 25].
Ниже мы позволили себе обобщить и несколько развить тему постулатов текста, попытавшись структурировать наблюдения и выводы указанных исследователей в единую схему.
(1) Постулаты возможности нарратива (предварительные условия наррации).
Постулат детерминированности: автор текста и его получатель должны иметь примерно одинаковое представление о реальном мире и обладать примерно одинаковым знанием значений слов. С точки зрения философии, автор и получатель должны жить в одном «возможном мире», с одними законами.
Постулат общей памяти и общего опыта: в памяти автора и адресата должны существовать общая оперативная память (для художественного текста – общая культурная память) и общие экспериенциальные константы, которые позволяют прогнозировать ожидаемое развитие событий исходя из уже известных фактов.
Постулат автора: у текста должен единый быть субъект сознания [Падучева 1996], «образ автора», даже при отсутствии реального автора-творца, как в фольклорных текстах.
Постулат адресата: текст должен строиться с учетом позиции адресата, его языковой и культурной компетенции, его интересов и ожиданий, в рамках принципа Кооперации.
Постулат косвенного речевого акта / постулат идиоматичности: текст должен восприниматься адресатом в режиме косвенного речевого акта, где снимаются многие ограничения релевантные для обыденной, неидиоматичной коммуникации, в том числе «иллокутивное самоубийство» [Вендлер 1985]. Ср. у Дж. Р. Серля в работе «Косвенные речевые акты»: «Говори идиоматично, если только нет особой причины не говорить идиоматично» [Серль 1978: 215]. Именно для буквального, т. е. неидиоматичного понимания текста должны быть особые основания: идиоматичность предполагается «по умолчанию».
Постулат тематичности: у текста должен быть нетривиальный(-е) предмет(-ы) для повествования.
(2) Постулаты реализации нарратива (требования содержательности наррации).
Постулат информативности / нетавтологичности: каждый новый фрагмент текста должен нести новую информацию, а текст в целом должен быть нетривиален.
Постулат акциональности: в тексте должен (-ы) быть агенс(-ы) (источники акциональной деятельности), активно действующие лица или субстанции).
Постулат референциальной однозначности; в тексте должна быть определенная зона референции за каждым референтом – запрет на немотивированную смену референта.
Постулат семантической однозначности; рассказчик и адресат образуют некую конвенцию о том, что пользуются словами и выражениями в общих значениях (по умолчанию) – запрет на немотивированный ввод в дискурс рационально не осмысляемых значений и коннотаций.
Постулат интенциональности / мотивированности; каждый элемент текста должен быть психологически, структурно, прагматически или ассоциативно мотивирован внутренним «возможным миром» текста.
(3) Постулаты структуры нарратива (правила «рассказывания историй»)
Постулат инициальности: Если есть зачин, то, в соответствии с принципом Кооперации, он должен быть эксплицирован в нарративную структуру (сказав А – говори Б).
Постулат сюжета; каждый текст должен иметь начало, развернутое продолжение и конец; допускается значимое, т. е. мотивированное эстетически отсутствие компонента (значимый нуль в системе).
Постулат событийности (сказки про белого бычка): в тексте должны быть события, и они должны иметь динамическую структуру (т. е. текст должен развиваться).
Постулат неполноты описания / имплицитной связности: любой текст должен редуцировать бесконечную реальность, прибегая к определенной условности, чтобы не потонуть в подробностях – запрет на избыточную вербализацию пресуппозитивных смыслов.
Постулат метатекста; метатекстовые (дискурсивные) элементы не должны вступать в противоречие с текстовыми, т. к. это означает, по Ю.Д. Апресяну, что автор (субъект наррации) имеет противоречивые намерения.
Понятно, что нами описаны лишь некоторые постулаты (общие принципы наррации), интуитивно ясные каждому, кто рассказывает / пишет или слушает / читает истории. При известной доле интеллектуального напряжения любой из нас легко пополнит этот открытый ряд постулатов, например, за счет формально-логических законов, других постулатов Грайса или условий успешности речевого акта Дж. Р. Серля, а, может быть, включит сюда критерий наличия / отсутствия переживания эстетического удовольствия.
Опираясь на данные постулаты можно, например, доказать, почему телефонный справочник или словарь (если это не «Хазарский словарь» М. Павича) – не нарратив, почему не нарратив – картина или скульптура. Зато нарративны некоторые виды бытового (нехудожественного) общения – например, рассказ о том, как говорящий провел вчерашний вечер, бытовое фантазирование ребенка и пр.
Предполагается также, что можно быть нарративом в большей или меньшей степени, т. е. существует «шкала нарративности». Например, значительная доля «нарративности» присутствует в обряде, ритуале, в балете. Достаточно нарративны публицистические тексты, есть известная доля нарративности в научных текстах.
Разграничение текста, дискурса и наррации позволяет, на наш взгляд, развести три принципиально разных аспекта организации такого сложного и многомерного целого, как речевое (в нашем случае – художественное) произведение, по трем составляющим «семиотической триады» Ч.У. Морриса «семантика – синтактика – прагматика» [Моррис 2001].
Так, план событийной (объектной) организации произведения (его семантика) вербализован в (1) наррации, план его структурной организации (его синтактика) вербализован в (2) тексте и, наконец, план его субъектной организации (его прагматика) вербализован в (3) дискурсе.
2.4.2. Принципы наррации в художественной прозе А. ПлатоноваРеализация основных принципов и правил текстопорождения (наррации) в художественной прозе А. Платонова также подчинена его ведущим художественным принципам, связанным с «неостранением» и мифологизованным типом художественного сознания.
Тексты А. Платонова обладают особым, так сказать, «качеством событийности», при котором происходит нейтрализация оппозиции реальное / нереальное (реальность – игра воображения – сон [Михеев 2003]) и для которого характерно весьма вольное обращение с категориями художественного пространства и художественного времени.
Например, обычная для нарратива временная характеристика конкретного события обычно задается у А. Платонова укрупненно, помещаясь автором в сферу «большого», «эпического» времени: Была еще середина жаркого дня, шло жаркое лето и время пятилетки («Котлован»),
Н. Иванова называет этот способ временной локализации «многосферным» расширением проживаемого момента, характерным для фольклорного типа организации художественного повествования [Иванова 1988: 553], мифологизованного по своей сути.
В целом характеризуя временную организацию повествования, Ю.Г. Пастушенко пишет: «Для построения характерна композиция, в которой просматриваются одна и та же «хроникальная» схема внутри каждого эпизода и последовательное шествие (нанизывание) самих эпизодов, практически не связанных между собой ничем, кроме фигур главных героев» [Пастушенко 1999: 28].
Смысл подобного построения – в особой «философии человека и мира»: «Динамика сюжетов произведений Платонова определяется авторской установкой на преобразование неустроенного мира. Уже в раннем творчестве Платонова сложилась сюжетная ситуация, содержание которой обусловлено промежуточным положением человека «между небом и землей», «верхом» и «низом», раем и адом» [Малыгина 1995: 275].
Для повествования такого типа характерно условно-обобщенное начало, когда герои словно берутся ниоткуда, возникают из небытия: это, по мнению многих исследователей, есть традиционный мифологический сюжетный архетип «вхождения в новое пространство / время» [Пастушенко 1999], связанный со значимостью символа дороги /пути.
Так, повесть «Ювенильное море» начинается с прихода Николая Вермо в иную, неизвестную ему жизнь словно «ниоткуда»: День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Так же внезапно ощущает себя в незнакомом хронотопе и Вощев: Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра («Котлован»),
Н. Малыгина связывает эту особенность с особым типом платоновской сюжетики, где сопрягаются земной и «космический» сюжеты, причем логика развития «космического» сюжета вмешивается в земную сюжетную логику: «Значительным событием в движении сюжетов (космического и земного) является момент выделения человека «из природы». Выход человека из состояния сонного оцепенения, уравнивающего человека с почвой и травами, становится поворотным моментом сюжетов «Ямской слободы», «Чевенгура», «Джан». Этот элемент сюжета присутствует в «Котловане», рассказах «Фро», «На заре туманной юности», «Река Потудань». Вытолкнутый «из природы» или привычного «круга существования» герой отправляется в путь. Его передвижение в пространстве означает возможность обретения истины, в которой платоновский персонаж испытывает телесную нужду» [Малыгина 1995: 277–278].
Также и многие другие исследователи видят в текстах А. Платонова отказ от традиционного развития, динамики сюжета как принцип сюжето-строения [Маркштайн 1994; Полтавцева 1981 и др.]. В этом намеренном отказе наблюдается построение иной сюжетной логики, например, логики экзистенциальной, «глобальной», логики философского освоения мира, а не самого мира [Полтавцева 1981; Фоменко 1978 и др.].
Важную мысль по поводу организации нарратива у А. Платонова высказывает Е. Толстая-Сегал, установив «принцип изоморфизма», определяющий организацию художественного мира А. Платонова на всех уровнях [Толстая-Сегал 1994а] и позволяющий говорить о некоей общей, инвариантной модели сюжета, модели нарратива, которая по-разному реализуется в разных текстах А. Платонова.
Перспективными представляются попытки связать особенности наррации А. Платонова с архетипическими, мифопоэтическими по своей сути мотивными структурами, что осуществлено, например, в работе А.К. Жолковского о рассказе «Фро» [Жолковский 1989].
Этот подход реализует Н.А. Малыгина в работе «Модель сюжета в прозе А. Платонова», считая, что уже во многих ранних произведениях А. Платонова переплетаются архетипические модели архаичных сюжетов – например, в рассказе «Такыр» взаимодействуют сюжет тюркской сказки, библейский сюжет странствия через пустыню и сюжет «спасения» – возвращения на утраченную родину [Малыгина 1995: 283].
Н. Малыгина видит эту особенность и в характерных для А Платонова финалах многих его произведений, где в сжатом, сконцентрированном виде содержится архаичная мифологическая схема, согласно которой герой должен пережить умирание – воскресение [Малыгина 1995: 285]. Ср. также мысль Ю.Г. Пастушенко о мифоцентричности платоновского текста: «На наш взгляд, она реализуется в тяготении писателя к универсальным мировоззренческим схемам, запечатленным в мифах. Такие, по сути, архетипические схемы наделяются в тексте конкретным и индивидуальноавторским художественным содержанием» [Пастушенко 1999: 28].
Вслед за Н. Малыгиной можно говорить о том, что каждое произведение А. Платонова так или иначе воспроизводит инвариантный тип событийной структуры, «постоянные элементы универсальной сюжетной модели»:
– Изображение героя внутри природы, в состоянии нерасчлененного единства с нею, оцепенения и сонного прозябания.
– Странствие героя, пытающегося подняться со «дна» биологического существования, движение через «пустыню» в поисках универсального способа «возвышения» над «гибельной судьбой».
– Приобщение героя к средствам «спасения» человечества: разного рода «двигателям» (космические аппараты, паровозы, корабли, башни и «вечные» дома), исполняющим функции «кораблей спасения» или преобразования земли в «дом-сад».
– Погружение на «дно» жизни: в яму, могилу, «растворение» в космосе, воде, предполагающее будущее воскрешение. [Малыгина 1995: 285].
Помимо неточной «событийной» и «пространственно-временной определенности» для текстов А. Платонова характерна и неточная «субъектная определенность». Неточная «субъектная определенность» человека в мире находит свое выражение в аномальной референции, когда неясно, кто действует, кто вообще имеется в виду в том или ином фрагменте дискурса. Так, О. Меерсон обнаруживает, что текстовая референция собственных имен в повести «Котлован» намеренно неточна, в силу чего, например, не всегда ясно, какой референт именуется в разных фрагментах повествования Мишей медведь или его «начальник» – кузнец, которого, оказывается, тоже зовут Миша. Отметим, что при наличии мифологизованного ослабления границы субъектной «самости» неточная субъектная идентификация становится релевантным принципом художественного повествования [Меерсон 2991: 20].
В целом нарративная структура художественных произведений А. Платонова воплощает такие принципы событийного развертывания и пространственно-временной локализации, которые тяготеют к наррации мифологизованного типа, осложненной, разумеется, за счет релевантных для того времени литературных и культурных моделей, органично усвоенных и творчески преобразованных А. Платоновым.
Кстати, примерно в том же плане высказывается в цитированной выше работе и Н. Малыгина, приходя к такому обобщающему выводу: «Анализ модели сюжета платоновской прозы дает основание для вывода, что в основе ее лежит мифологическая структура. В прозе Платонова трансформированы сюжеты библейских легенд, сквозь которые просматриваются еще более древние фольклорные источники. На эти сюжетные структуры в произведениях Платонова наслаиваются их разнообразные литературные вариации, которые переосмысливаются, создавая сложный синтез взаимопроникающих сюжетов» [Малыгина 1995: 285].
В нашей работе, посвященной анализу языка А. Платонова с позиций «семантики возможных миров» [Радбиль 1999d], было высказано предположение, что эффект смещенного восприятия мира и искаженной перспективы возникает из-за постоянного присутствия, казалось бы, в столь «вещном», до грубой, почти осязаемой зримости, «художественном мире» писателя некой тени, некого отблеска мира инобытия, потусторонности: Свет луны робко озарил степь, и пространства предстали взору такими, словно они лежали на том сеете, где жизнь задумчива, бледна и бесчувственна, где от мерцающей тишины тень человека шелестит по траве («Чевенгур»),
Присутствие «того света» в мире реальном делает сам этот реальный мир лишь тенью чего-то запредельного: Над ними, как на том сеете, бесплотно влеклась луна, уже наклонившаяся к своему заходу; ее существование было бесполезно – от него не жили растения, под луною молча спал человек; свет солнца, озарявший издали ночную сестру земли, имел в себе мутное, горячее и живое вещество, но до луны этот свет доходил уже процеженным сквозь мертвую долготу пространства, – все мутное и живое рассеивалось из него в пути, и оставался один истинный мертвый свет («Чевенгур»),
Мир вещей исчезает, проявляя свою истинную трансцендентную сущность, обнажая истинное бытие явлений вне пространства и времени – в духе эйдосов Платона или «чистых субстанций» феноменологии Гуссерля: Он осмотрелся вокруг – всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную незримость; устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения («Котлован»),
В свете подобной интерпретации становится объяснимым постоянное читательское ощущение какой-то нереальности всего происходящего в целом на фоне господства сгущенных реальных, порою даже натуралистических подробностей в «художественном мире» А. Платонова.