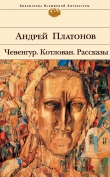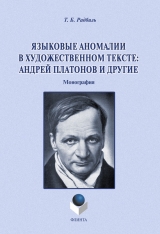
Текст книги "Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие"
Автор книги: Тимур Радбиль
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
1.3. Основные выводы
В общем виде под языковой аномалией в данной работе понимается любое нарушение нормы или правила употребления какой-то языковой или текстовой единицы, речевого стереотипа, принятого в узусе, общего принципа коммуникации или речевого поведения в целом, нарушение «обманутого ожидания» читателя и т. п.
В этом смысле в понятие языковые аномалии мы включаем не только разного рода отклонения в вербализации закономерностей системы языка, но и нарушения в сфере принципов ее речевой реализации и коммуникативно-прагматических условий ее применения, в сфере языковой концептуализации мира и актуализации общих правил построения текста. Поэтому релевантным для классификации аномалий будет разграничение аномалий на формальные и семантические, семантические и прагматические, семантические и логические (концептуальные) аномалии, а также на аномалии системы и аномалии текста.
При этом учитывается, что понятие языковые аномалии может получить разную интерпретацию в разных режимах существования языка (обыденного языка и художественной речи). Поскольку в художественном тексте «разрешены» многие отклонения от норм естественного языка в его нехудожественном режиме функционирования, многие противоречивые или тавтологические высказывания, применительно к художественному тексту понятие языковых аномалий имеет свою специфику.
Предполагается, что объем и содержание понятия языковые аномалии применительно к художественному тексту могут быть существенно уточнены с учетом теоретического разграничения двух модусов существования как естественных, так и семиотических объектов, в том числе объектов языковых – модус «реальность» и модус «текст». Так, последовательно рассматривая художественный текст в модусе «реальность» и в модусе «текст», можно прийти к выводу, что разного рода аномалии, фиксируемые в одном модусе, не являются аномалиями в другом модусе.
Во-первых, аномальным может быть сам мир, воспроизводимый в тексте. Для описания этого рода аномалий постулируется понятие «прототипический мир», который представляет собой некую совокупность коллективного опыта, определенных представлений о том, как бывает или могло бы быть при определенных, рационально осмысляемых условиях.
К аномальной концептуализации «прототипического мира» мы будем относить явления отклонений и нарушений на четырех уровнях (планах) этой концептуализации: это аномалии субстанциональные (нарушение связей и отношений между явлениями объективной реальности), логические, или собственно концептуальные (нарушение логических закономерностей при концептуализации мира), аксиологические (нарушение в актуализации «прототипической системы ценностей») и мотивационно-прагматические (нарушение условий коммуникации и принципов речевого поведения).
Однако практически любой литературный текст, рассмотренный на содержательном уровне, с точки зрения «прототипического мира», в каком-то смысле даже предполагает аномальность героев, фабулы, сюжета, и эта аномальность выступает важным фактором порождения данного текста как такового – жанровым, сюжетно-композиционным и др. Поэтому аномалия «прототипического мира» в модусе «реальность» будет нормой в модусе «текст».
Во-вторых, аномальным может быть язык, актуализованный в художественном тексте. При этом под «неправильным языком» мы должны понимать лишь такие явления в художественном тексте, которые однозначно воспринимаются как нарушения языковой конвенциональности в сфере фонетики, лексики, грамматики или стилистики, явно идущие в разрез с принципами и установками речевой практики носителей языка. Эти аномалии могут приводить или не приводить к семантическому преобразованию. В сфере нашего исследования остаются только аномалии, которые приводят к семантическому преобразованию. Их мы условно именуем семантические и делим их на пять видов, в зависимости от уровня аномальности: аномалии лексико-семантические, стилистические, фразеологические, словообразовательные и грамматические.
Однако, поскольку денотатом, т. е. «реальностью» по отношению к произведению выступает естественный язык, то нарушения норм естественного языка в художественном тексте могут считаться аномалиями тоже лишь при рассмотрении в модусе «реальность». Если их появление эстетически мотивировано, то аномалия системы языка в модусе «реальность» также будет нормой данного художественного текста в модусе «текст».
В-третьих, по аналогии с «прототипическим миром» и речевой практикой этноса («прототипическим языком»), мы можем постулировать и наличие «прототипического нарратива» – в плане существования некоторых общих принципов текстопорождения, наррации. Они в своих основах представлены в генерализованных видах наррации (в образцовых повествовательных текстах культуры), а главное – неявно присутствуют в коллективном языковом сознании, входят в культурную компетенцию и интуитивно ощущаются адресатом наррации (слушателем или читателем) как норма.
Естественно предположить, что возможны отклонения и от этой нормы. Мы разграничиваем три вида отклонений от «прототипического нарратива». Это аномалии наррации как нарушение общих принципов повествования (сюжет, фабула, композиция), это аномалии дискурса как нарушение в субъектной организации повествования, вербализации «точек зрения» и это аномалии текста как нарушение в области актуализации базовых текстовых категорий (когезия, когерентность и т. д.).
Трудно спорить, что и эти аномалии являются продуктом осознанной интенции художника и имеют значимый эстетический эффект в плане читательского восприятия. Поэтому аномалии «прототипического нарратива» в модусе «реальность» опять-таки будут нормой для данного художественного текста в модусе «текст».
Источником и носителем нормы и аномалии в модусе «текст» является постулируемый нами «прототипический читатель». «Прототипический читатель» также фиксирует аномальность «художественного мира» и художественной речи какого-либо автора исходя из устоявшихся культурных и литературных стандартов своего времени, на их фоне, т. е. в модусе «реальность», внеположном по отношению к тексту.
Однако «прототипический читатель» XX в. имеет свои особенности. В частности, для литературы нового времени характерна такая черта, как, согласно удачному определению Л.B. Зубовой, «поэтика языковой деформации» [Зубова 2000: 399], которая адекватно воспринята в поле читательских интерпретационных установок, сложившихся в XX в. Поэтому применительно к самому «художественному миру» текста – уже в модусе «текст» – «прототипический читатель» воспринимает как норму данного текста именно значимые отклонения от существующего в культурном коде стандарта.
В этом смысле подлинно «аномальным» (уже в модусе «текст»), видимо, нужно считать произведение, в коммуникативно-прагматическом плане не достигающее своей художественной задачи, не выполняющее адекватно своей апеллятивной, воздейственной функции: такие тексты мы и зовем «плохими», «скучными», «затянутыми» и даже – слишком «нормальными».
Глава II. Языковые аномалии в художественном тексте и язык Андрея Платонова
В отличие от Кафки, Джойса или, скажем, Беккета, повествующих о вполне естественных трагедиях своих alter ego, Платонов говорит о нации, ставшей в некотором смысле жертвой своего языка, а точнее – о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость.
Иосиф Бродский. «Катастрофы в воздухе»
2.1. Обоснование концепции работы
В принципе возможны две альтернативные исследовательские стратегии анализа языковых аномалий в художественном тексте. Первая из них предполагает путь «от вида аномальности» или «от языкового уровня аномальности», т. е. имеет в перспективе задание некоего каталога аномальных явлений и иллюстрацию его примерами из произведений разных писателей. Такой путь, например, избрал В.З. Санников в монографии «Русский язык в зеркале языковой игры» [Санников 2002].
Как представляется, подобная стратегия, безусловно, является релевантной и может иметь несомненный научный эффект, но она оставляет в стороне вопрос о системной организации языковых аномалий и об их функциональной характеристике применительно именно к художественной специфике текстов – источников аномалий.
В этом случае будет нелегко увидеть принципиальное отличие аномалий языка в режиме эстетического употребления от аномалий языка в режиме обыденной коммуникации. Думается, что как раз с точки зрения внутриязыкового механизма аномальности эти два вида особенно не различаются: в художественной речи А. Платонова, Д. Хармса, А. Введенского и др. представлен максимально полный свод образцов, своего рода «тезаурус» всех возможных речевых, стилистических и грамматических недочетов и ошибок, которые знакомы любому школьному педагогу.
Вторая стратегия предполагает путь «от субъекта аномальности», т. е. целостный анализ в свете языковой аномальности – конкретного автора, конкретной художественной речи, в которой языковая аномальность принципиально и последовательно используется на всех уровнях как основное средство моделирования особого «художественного мира» и, в соответствии с этим, как основной прием текстопорождения. На этом пути мы уже можем трактовать разные виды аномальности с точки зрения их интенциональной природы и функциональной нагруженности.
2.1.1. Языковые аномалии как мирообразующий и текстообразующий фактор в художественном текстеНа пути применения стратегии анализа «от субъекта аномальности» становится возможным различать аномалию как объект художественной интенции автора (языковые аномалии в речевой сфере героя или рассказчика в сказовом повествовании) и аномалию как основной способ ее воплощения в тексте, когда языковая аномальность последовательно используется автором как средство моделирования особой художественной реальности. Также на пути анализа «от субъекта аномальности» становится возможным поставить вопрос о разграничении аномалий на системные и асистемные.
Аномалии как объект художественной интенции представляются асистемными с точки зрения их внутренней текстовой организации, т. к. само их отличие от нормально актуализованной системы языка в речи Повествователя выступает как эстетически и стилистически значимое, т. е. осознаваемое в качестве художественного приема.
Аномалии как способ организации «художественного мира», напротив, представляют собой целую систему, со своими принципами и законами «аномализации», релевантными только для данного текста данного автора. Это системные аномалии, которые последовательно и закономерно участвуют в языковой концептуализации мира. Можно сказать, что сама аномальность выступает для такого типа художественной речи как мирообразующий и текстообразующий фактор.
Причем системность подобной аномальности возможна как внутриуровневая, когда мы имеем дело с наличием повторяющихся и взаимосвязанных лексических, грамматических, прагматических и пр. моделей аномальности, и как межуровневая, когда аномальная концептуализация мира органически сочетается с аномальным языком и аномальными принципами художественного повествования.
Однако для применения стратегии существуют особые требования к анализируемому автору – его художественная речь должна быть, так сказать, «комплексно аномальной», «образцово аномальной», т. е. «аномальной прототипически». Ярким примером органичной интеграции аномальной концептуализации мира, аномального языка и аномального типа повествования являются, на наш взгляд, произведения Андрея Платонова.
Феномен «странного языка» А. Платонова, несмотря на наличие уже достаточно почтенной исследовательской традиции, еще пребывает в стадии неразгаданности. При всем разнообразии разного рода аномалий и отклонений, заботливо диагностируемых практически всеми исследователями, «художественный мир» А. Платонова в целом поражает какой-то удивительной цельностью и гармоничностью, вопреки отталкивающей и даже эпатирующей дисгармоничности отдельных его атрибутов. При этом очевидно, что язык А. Платонова – своего рода эзотерический язык, требующий расшифровки.
Представляется, что выбор художественной речи А. Платонова в качестве объекта исследования аномалий поможет выявить и многие типологические закономерности аномальности в сфере языковой концептуализации мира. Несмотря на его неоспоримую уникальность, его, так сказать, «вызывающую» индивидуальность, «аномальный язык» А. Платонова в своих «референционных точках» [Степанов Ю. 1975] соотнесен с какими-то общими принципами «аномализации» «картины мира», естественного языка и привычного для «прототипического читателя» типа повествования, которые релевантны для определенного типа художественного сознания в культуре XX в.
В этом плане полезно комплексное сопоставление художественной речи А. Платонова с другим (на наш взгляд, во многом альтернативным платоновскому) способом «тотальной аномализации» мира, который представлен в своем концентрированном выражении в художественной речи обериутов – Д. Хармса и особенно А. Введенского. Сопоставление интересует нас в аспекте оппозиции «полного неостранения» (А. Платонов) и «полного остранения» (Д. Хармс, А. Введенский) как двух полярных принципов художественной организации произведения.
Художественный текст представляет собой сложное и многомерное образования, интегрирующее в единое, художественно осмысленное целое принципиально разноуровневые явления. В этой связи, например, Е.И. Диброва говорит об особых «категориях художественного текста», которые описывают разные стороны его содержательного конципирования и структурного и семантического оформления: «Категории текста являются универсальными понятиями связей, свойств и отношений предметов и явлений художественного мира. К ним относятся: онтологическая (субстантивная) категория со-бытийности; атрибутивные (характеризующие) категории со-бытийности: категории движения, пространства и времени; релятивные парные категории со-бытийности: категория автора и категория читателя; категория структуры (формы) и категория содержания; категория системы и категория компонента и т. д. Каждая из категорий структурирована и обладает внутренними субкатегориями разных уровней анализа» [Диброва 1998: 251].
Нетрудно видеть, что указанные категории распадаются, условно говоря, на группу категорий содержательного характера, релевантные для «художественного мира», включая сюда оппозицию автор / читатель, и группу категорий формального характера, релевантные для структуры текста и способа повествования.
Таким образом, основные вехи предполагаемого анализа выстраиваются по осям художественный мир – язык – текст. В научной литературе широко представлены разные траектории подобного анализа. Так, например, путь «в мир Платонова через его язык» реализован в одноименной книге М.Ю. Михеева [Михеев 2003], аналогичного подхода придерживается польский исследователь Мая Шимонюк в монографии «Деструкция языка и новаторство художественного стиля (по текстам Андрея Платонова)» [Шимонюк 1997] и др.
В этой книге принято иное направление анализа, близкое к воплощенному в книге О. Меерсон «Свободная вещь». Поэтика неостранения у Андрея Платонова» [Меерсон 2001], где от базового для «художественного мира» А. Платонова понятия «неостранения» автор идет уже к анализу языкового своеобразия писателя.
Наш вариант: от «художественного мира» А. Платонова – через его язык – к тексту, к воплощенным в нем принципам художественного повествования.
2.1.2. «Художественный мир»: объем и содержание понятияПрактически общим местом в современном «платоноведении» является положение о том, что «странный» язык писателя, который, по выражению Иосифа Бродского, пишет «на языке повышенной близости к Новому Иерусалиму» [Бродский 2001: 201], есть воплощение не менее странного «художественного мира», стоящего за текстами его произведений.
Именно к случаю языка А. Платонова как нельзя лучше подходят слова Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева: «Еще более интересны случаи, когда говорящий стремится высказать столь глубокую мысль, что язык не дает возможности выразить ее непротиворечивым образом. Здесь мы сталкиваемся с абсурдом, источником которого является сама жизнь и который с древнейших времен интересовал философов, логиков, теологов, математиков. Здесь бессмыслица выступает как прием познания жизни, парадоксальное высказывание претендует на выражение глубочайшей истины» [Булыгина, Шмелев 1997: 450].
Понятие «художественный мир» есть интегрирующее понятие, отражающее тотальную установку автора-творца на творческое моделирование реальности, на ее, так сказать, «эстетическое пересоздание». Ср, например, высказывание Е.И. Дибровой: «Художественный мир – особый способ и форма освоения бытия, это явление художественной со-бытийности, т. е. со-причастности к бытию, воспроизводящей в художественных образах мир авторского духа. Будучи образотворческим явлением, текст выступает в непрестанном именовании и переименовании всего, что дух художника слова находит вокруг и внутри себя. Его диалог со своим духовным миром создает личную Вселенную» [Диброва 1998: 250–251].
Понятие «художественный мир» (или близкое к нему по объему и содержанию понятие «поэтический мир») может быть употреблено как по отношению к отдельному произведению, так и по отношению ко всей совокупности произведений данного автора.
Понятие «художественный мир» по отношению к отдельному произведению очень часто употребляется нетерминированно – просто как квазисиноним для выражения «художественный текст». Попытки формализовать это понятие для метаязыка филологической науки применительно к отдельно взятому художественному тексту восходят еще к теории хронотопа М.М. Бахтина [Бахтин 1975], теории архетипических сюжетных структур В.Я. Проппа [Пропп 1986] и др.
Эти попытки обрели обобщающий вид в известной статье Д.С. Лихачева «Внутренний мир художественного произведения» [Лихачев 1968], где мир художественного произведения, в полном соответствии с миром реальности, предполагает свою, особую пространственно-временную размерность, свою, особым образом организованную совокупность людей (герои), свою, особую событийность, свои параметры соотношения человека и среды и пр.
Разграничение «художественного мира» и «текста» проводится и Ю.М. Лотманом: «Художественный мир (или, по выражению Б.М. Эйхенбаума, «онтология поэтического мира») – не текст… Художественный мир относится к тексту так, как музыкальный инструмент к сыгранной на нем пьесе. Структура музыкального инструмента не является объектом непосредственного эстетического переживания, но она потенциально содержит в себе то множество возможностей, выбор и комбинация которых образуют пьесу. <…> «Поэтический мир» не принадлежит области того, о чем Тютчев говорит в своих стихах, а относится к гораздо более глубокому пласту: к тому, как он видит и ощущает мир. Это как бы лексика и грамматика его поэтической личности» [Лотман 1996: 593–594].
Понятие «художественный мир» для обозначения всей совокупности произведений того или иного писателя также часто используется в нетерминологическом употреблении – просто с целью подчеркнуть эффект определенной целостности для системы идей и образов, наличия сквозных тем и мотивов и пр. в разных произведениях писателя [Бочаров 1985 и др.].
В рамках Московско-Тартусской семиотической школы понятие «художественный мир» (в терминологии данной школы – «поэтический мир») приобретает отчетливую структурно-поэтическую трактовку. А.К. Жолковский и Ю.К. Щеглов связывают понятие «поэтический мир» с гипотетическим «смысловым инвариантом» всего творчества писателя, который по-разному варьируется и комбинируется в разных произведениях автора: «понятие поэтического мира рассматривается как экстраполяция понятия темы на семантическую структуру всей совокупности произведений одного автора <…> Поэтический мир автора есть прежде всего смысловой инвариант его произведений» [Жолковский, Щеглов 1975: 160–161].
В другой работе авторы интерпретируют термин «художественный» / «поэтический мир» как продукт аналитической деятельности исследователя, т. е. помещают его в план метаязыка описания по отношению к тексту: «Описанием художественного текста считается его вывод из темы, выполняемый на основе ПВ [приемов выразительности – Т.Р.] – стандартных единиц, в которых формулируются соответствия между художественными текстами и их темами <… > Описываться в виде вывода может не только отдельный текст, но и целая группа текстов (например, текстов одного автора), имеющих инвариантную тематико-выразительную структуру. Этот инвариантный вывод будет называться поэтическим миром автора» [Жолковский, Щеглов 1996: 10–11]. Примерно так же понимает «поэтический мир» Ю.Д. Апресян [Апресян 1995а: 652].
«Художественный мир» в общем виде понимается в настоящем исследовании, в духе работ [Ингарден 1962; Женетт 1998; Руднев 2000; Шмид 2003 и др.], как фиктивный (фикциональный) мир, мир вымышленный, по природе своей не принадлежащий внетекстовой реальности. «Референциальные обозначающие в фикциональном тексте не указывают на определенные внетекстовые референты, а относятся только к внутритекстовым референтам изображаемого мира» [Шмид 2003: 31].
Причем в зону референции так понимаемого терминосочетания «художественный мир» может входить как отдельное произведение отдельного автора, так и вся совокупность произведений отдельного автора (и даже разных авторов, конгениальных и биографически, культурно или стилистически близких). Ведь, будучи организованной в единое целое как единством авторского сознания, его эстетических принципов и жизненных установок, так и относительной однородностью («узнаваемостью») его творческой манеры, стиля и языка, совокупность текстов может рассматриваться как своего рода «макротекст».
При этом «художественный мир» сохраняет определенный изоморфизм по отношение к реальному миру, т. е. его основные конститутивные элементы в принципе те же самые: пространство и время, человек, природа, религия и философия, идеалы и ценности, жизненные установки, поведенческие реакции и пр. Однако, сохраняя внешнее, миметическое подобие «реальному миру», «художественный мир» по природе своей – объект, принадлежащий «другому плану бытия», виртуальному режиму его существования.
К понятию фикциональность, описывающему базовое сущностное свойство «художественного мира», близко понятие мыслимости, развиваемое в работах Е.И. Дибровой: «Мыслимость (мысленность) есть результат работы духа, а мыслимый мир – субъективно-объективированный мир, познающий реальный мир и отражающий его через внутренний мир своего сознания» [Диброва 1998: 251].
Причем художественная трансформация содержания действительности при переводе из плана реальности в план фикциональности имеет тотальный характер: «Что же именно является фиктивным в фикциональном произведении? Ответ гласит: воображаемый мир целиком и все его части – ситуации, персонажи, действия» [Шмид 2003].
Именно это дает нам теоретическое основание разграничивать понятия «реальный автор» как субъект реального мира, «образ автора» как субъект «художественного мира» и «повествователь (нарратор)» как субъект конкретного текста. Тогда в качестве общей «формулы литературоведения» (Ю.Д. Апресян) можно принять следующую схему Ю.Д.Апресяна: «Однако мы будем исходить из того, что сам по себе этот [поэтический – Т.Р.] мир – всего лишь промежуточное звено между текстом и экзистенциальным опытом художника. Поэтому в качестве подлинной формулы литературоведения рассматриваются не диада «жизненный и исторический опыт —» текст» (социологическое литературоведение) или «поэтический мир —» текст» (структурная поэтика), а триада «экзистенциальный опыт —» поэтический мир —» текст»…» [Апресян 1995а: 652].
Однако представляется, что эту триаду следует расширить за счет еще одного промежуточного члена. «Художественный мир» задействует в принципе иное отношение к основным функциям языка в вербализации реальности: слова в нем, по выражению Ж. Женетта, выполняют парадоксальную «псевдореферентную функцию», своего рода «денотацию без денотата» [Женетт 1998]. При этом именно язык произведения непосредственно участвует в художественной трансформации содержания действительности при переводе из плана реальности в план фикциональности.
Поэтому путь от экзистенциального опыта к «художественному миру», а главное – от «художественного мира» к тексту – опосредуется системой естественного языка в той ее части, которая преломляется творческой интенцией художника, – т. е., попросту говоря, «языком писателя»: «Творческое сознание автора-художника никогда не совпадает с языковым сознанием, языковое сознание только момент, материал, сплошь управляемый чисто художественным заданием» [Бахтин 1979: 168].
Подобную лингвистическую определенность понятию «художественный мир» придает, например, и M.Л. Гаспаров: «Частотный тезаурус языка писателя – вот что такое «художественный мир» в переводе на язык филологической науки» [Гаспаров М. 1988: 125].
Следовательно, мы имеем дело с четырехчленной конструкцией: экзистенциальный опыт автора – художественный мир – язык – текст. Именно эта схема и будет лежать в основе нашего анализа языковых аномалий в текстах А. Платонова.
Поскольку первый член этой формулы не есть, собственно, предмет лингвистического анализа и достаточно хорошо изучен в литературоведческом блоке «платоноведения», предметом нашего основного внимания является второй, третий и четвертый члены формулы. Это, кстати, согласуется и с нашим глубоким убеждением, что как личность (т. е. как носитель «экзистенциального опыта художника») Андрей Платонов был абсолютно «нормален» в том смысле, что не относился к стереотипу «безумного гения», релевантному в мировой культуре (как, например, В. Хлебников). Собственно «аномализация» (как релевантный объект нашего исследования) начинается только с такого этапа этой четырехступенчатой схемы, как «художественный мир».
Итак, «художественный мир» писателя – это интегрирующий «фикциональный мир» как некий концептуальный инвариант конкретных «художественных миров», актуализованных в конкретном тексте.