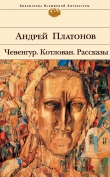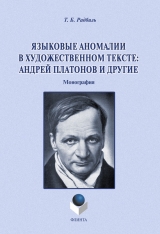
Текст книги "Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие"
Автор книги: Тимур Радбиль
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Под мотивационно-прагматической сферой понимается акциональный, деятельностный компонент «художественного мира» А. Платонова, который находит свое выражение в особенностях интенциональности и жизненных установок, в принципах речевого поведения и коммуникации. Все это создает некий особый, неповторимый «узус» в текстах писателя.
«Неостранение» как принципиальное признание «нормальности», даже обыденности всех отклонений, нарушений от обычного хода событий проявляется и в мотивационно-прагматической сфере: «Иногда герои или рассказчик (-и) просто ведут себя в экстремальных ситуациях так, как будто ничего особенного не происходит. Иногда же они изумляются, но не по адресу, не тому, что действительно странно, необъяснимо или невыносимо. Иногда перечисляют наряду с нормальными явлениями нечто не лезущее ни в какие ворота и по сути не имеющее отношения к изначальной мотивировке перечисления (это как раз один из случаев синтаксического неостранения). Такого рода «речево-поведенческое» неостранение часто применимо к мотивам фактических странностей или совершенно невероятной фантастики. (Главный предшественник Платонова в русской литературе здесь Гоголь…)» [Меерсон 2001: 37].
Как нам кажется, и в этой сфере можно указать на некоторые особенности девиантного речевого поведения, связанные с чертами мифологизма. Общей направленностью аномального мифологического речевого поведения является преобладание слова, словесного акта, акта называния, в которых усматривается магическое значение, над реальным объектом или реальным действием. Слово в мифологическом сознании обладает таинственной властью над миром вещей, а имя вещи – есть не просто знак вещи, но ее сущность [см. Лосев 1982; Маковский 1995].
Так, акт мифологического наименования меняет свойства самого объекта, – по сути, превращает его в другой объект (придает ему новый онтологический статус): Раз сказано: земля – социализм, то пусть так и будет («Чевенгур»), Отсюда вытекают следующие особенности мифологизованного речевого поведения в «художественном мире» А. Платонова.
Прежде всего это ритуализация речевого поведения, при которой произнесение словесной формулы есть самодостаточный акт, не требующий соответствия реальному положению дел, реального, несловесного действия. Слово при этом теряет свою коммуникативную направленность и информативность, превращаясь в некую магическую формулу.
Ритуализация может выражаться в диктате слова, когда под формулировку подгоняется любое (соответствующее или несоответствующее) содержание реальности или поведения, в формализации или даже абсурдизации речевого акта (см. раздел 3.1.4 главы III настоящей работы).
Еще одной особенностью мифологизованного речевого поведения является аномальный коммуникативный акт, при котором его участники ставят своей целью не сообщение или воздействие на адресата, но объяснение содержания мира для самого себя.
Так, в «Чевенгуре» постоянно разворачиваются вовне факты внутренней жизни, размышлений, чаяний и надежд героев – «мысли вслух». Собеседник в таком коммуникативном акте является лишь стимулом для «включения» познавательной словесной активности героя, направленной внутрь. Отсюда – обилие дефиниций слов, не вызванных необходимостью, непосредственной целью коммуникативного акта.
Все это позволяет М. Шимонюк сделать вывод о «немиметичности» диалогов и вообще – речевой коммуникации в произведениях А. Платонова: «В «Чевенгуре» доминируют только эмфатическая и объяснительная обусловленность, каузирующая начало диалога, отсутствует психологический контекст. Уже одно это свидетельствует о немиметичности диалогов романа. Нет в репликах персонажей правдоподобия коммуникативных ситуаций, которое так легко укладывается в косвенные вопросы, воспринимаемые и интерлокуторами, и читателями как интенциональные просьбы. И в тексте Чевенгура, и в тексте Котлована коммуниканты ставят друг другу чрезвычайно прямолинейные вопросы. Отсутствие имплицитных, но сигнализируемых читателю коммуникативных намерений персонажей, превращает многие реплики и суждения в сентенции» [Шимонюк 1997: 69–70].
Обратной стороной этого явления, видимо, следует считать мифологизованную мотивацию коммуникативного акта, когда нормой считается намеренный алогизм, неинформативность, трудность апперцепции:… Копенкин… подумал: «Какое хорошее и неясное слово: усложнение, как – текущий момент. Момент, а течет: представить нельзя («Чевенгур»),
С одной стороны, героями А. Платонова признаки непонятной «ученой» и «идеологизированной» речи воспринимаются как выразители некоего авторитетного речевого стандарта, даже как знаки некоего сакрального, эзотерического по сути языка. С другой стороны, как к «чужому языку», по отношению к ним испытывается и определенное недоверие, устанавливается дистанция: – Как такие слова называются, которые непонятны? – скромно спросил Копенкин – Тернии иль нет? / – Термины, – кратко ответил Дванов. Он в душе любил неведение больше культуры… («Чевенгур»),
Ср. замечание М. Шимонюк: «Все это предопределяет огромную идеологическую ангажированность персонажей романа Чевенгур: Копенкина, Дванова, Чепурного. Так, с одной стороны, сама ограниченная выборность типа литературного диалога, которая доминирует в «Чевенгуре»
– аксиологического, с другой – эмфатичность побуждения и формы самой реплики, и объяснительность как мотивация разговора, показывают безразличие автора к психологическому контексту. Таким образом, ограниченный характер житейски слабо мотивированного диалога не придает его субъектам правдоподобия бытового плана, зато, слова персонажей приобретают очень яркую объективную характеристику, а в репликах появляются просторечные элементы» [Шимонюк 1997: 70].
В целом, видимо, можно в указанных нарушениях коммуникации увидеть такие признаки мифологизма, как отражение ослабленного личностного начала, тяготение к растворению личности в коллективе, к деперсонализации. Именно это приводит в конечном счете к тому, что диалог превращается, по мысли М. Шимонюк, в «квазидиалог»: «Таким образом, диалогическое объективное слово персонажа не локализирует его в повседневности и не отвечает обычным условиям, которые сопутствуют речевому общению в жизни.
Используя диалогическую форму – деление на реплики, каждая из которых соотносится со своим субъектом речи, автор преследует лишь художественные цели, совершенно не заботясь о правдоподобии диалогической ситуации. И с этой точки зрения их можно назвать квазидиалогами» [Шимонюк 1997: 72].
Коммуникация в «художественном мире» А. Платонова принципиально аномальна при том, что субъективно каждый герой прямо-таки одержим жаждой общения, раскрытия себя другому. В этом есть свой смысл: это псевдодиалогическая репрезентация («разложение по партитурам») коллективного бессознательного, где грани между личностями стерты, где личности слагаются в некий единый субъект, вступающий в невнятный диалог с миром.
2.3. Художественная речь Андрея Платонова в свете языковой аномальности
Особенности художественной речи А. Платонова также достаточно широко описаны в научной литературе [Дмитровская 1990 и 1992; Кожевникова 1989 и 1990; Левин Ю. 1991 и 1998; Михеев 2003; Стернин 1999; Шимонюк 1997 и др.]. Понятие «художественная речь» выступает коррелятом терминов «художественный язык», «поэтический язык» и т. д.
Понятие «художественный» / «поэтический язык» еще Г.О. Винокур рассматривал в оппозиции с обыденным языком в плане его специфических функций [Винокур Г. 1990]. В.В. Виноградов также обнаруживает в «поэтическом языке» иные, в сравнении с повседневным языком, связи и отношения системных элементов: «Поэтическая функция языка опирается на коммуникативную, исходит из нее, но воздвигает над ней подчиненный эстетическим, а также социально-историческим закономерностям искусства новый мир речевых смыслов и отношений» [Виноградов 1963: 155].
Именно наличие эстетического приращения смысла в словах отличает «художественный язык» от языка обыденной коммуникации в трудах Б.А.Ларина [Ларин 1974]. Также и В.П. Григорьев видит специфику «художественного языка» в его эстетической направленности: «ПЯ [поэтический язык – Т.Р.] определяется как язык с установкой на творчество, а поскольку всякое творчество подлежит и эстетической оценке, это – язык с установкой на эстетически значимое творчество, хотя бы самое минимальное, ограниченное рамками одного только слова. <… > ЯХЛ [язык художественной литературы – Т.Р.] – сфера действия ПЯ по преимуществу» [Григорьев 1979: 76–78].
Тогда, оставаясь в рамках традиционного противопоставления язык / речь, можно утверждать, что «художественная речь» является конкретной речевой реализацией «художественного языка» в произведения писателей.
2.3.1. Особенности художественного языка А. ПлатоноваИстоки «языкового экстремизма» А. Платонова едва ли следует упрощенно трактовать как отображение языковой ситуации эпохи революции. Исследователь языка А. Платонова М. Шимонюк написала книгу, чье название весьма показательно – «Деструкция языка и новаторство художественного стиля (по текстам Андрея Платонова)». Не исключено, что одной из ведущих интенций А. Платонова (не вполне, вероятно, осознаваемой) и была тотальная деструкция стандартного языка с целью обнажить его бессилие в интерпретации мироздания и с целью довести до предела, порою до «разрыва» возможности, предоставляемые его системой, в поиске новых средств выразительности. Это явление М. Шимонюк именует «тотальной языковой девиацией» [Шимонюк 1997: 32].
При этом в художественной речи А. Платонова явно отсутствует сознательная установка на остранение, «обнажение приема», что мы наблюдаем, например, в художественной речи Д. Хармса и А. Введенского. «Странный язык» героев А. Платонова есть отображение мифологизованного языкового сознания специфического типа личности – стихийного народного «философа-самоучки». Некоторые особенности слова и фразы А. Платонова, лексики и синтаксиса платоновского языка соотносятся также с мифологическим типом представления реальности в словесном знаке.
Известные любому художественному тексту неустойчивость объёма и размытость границ семантики слова (лексическая парадигматика) у А. Платонова приобретают характер одного из основных эстетических принципов. Ср.: «Смысловой объем слова в прозе А. Платонова неустойчив, подвижен и зависит от контекста. Одно и то же слово в разных сочетаниях имеет разные соответствия в литературном языке» [Кожевникова 1990: с. 172].
Так, коммунизм для героев А. Платонова – это и вещество между телами, и плоть существования, и живой, теплый поток, разливающийся по телу, и технологический шаблон, и библейский конец света. При этом нарушается существенная для «нормальной» полисемии закономерность – связь между значениями, мотивированность одного другим.
О. Меерсон, со ссылкой на А.П. Цветкова, выделяет такую генеральную черту языка А. Платонова, как «семантическую несовместимость разных уровней текста Платонова – уровня слова, идиомы и фразы. <.. > Для того чтобы как-то усвоить смысл фразы, читателю приходится пренебрегать смысловыми отклонениями, то есть заниматься автоматической коррекцией, каждый раз списывая подстановку/оговорку на случайность» [Меерсон 2001: 34–35]. Это и приводит к наличию системной аномальности художественной речи А. Платонова в целом, при которой: «сообщение, информация, закодированная в платоновском тексте, не есть то, чем кажется. Подобно Сафронову из «Котлована», и сам Платонов даёт словам «для прочности два смысла – основной и запасной, как всякому материалу» («Котлован»)» [Меерсон 2001: с. 29].
Помещение слова в необычный контекст, ненормативная сочетаемость (лексическая синтагматика) приводят к «разрушению иерархической связи между словами – понятиями и установление новой иерархии» [Кожевникова 1990: 173]. Так, например, в высказывании: Чепурный, наблюдая заросшую степь, всегда говорил, что она тоже теперь есть интернационал злаков и цветов… (Чевенгур), – в подобном контексте явления разных уровней бытия (природное и социальное) совмещаются в одном плане чувственного восприятия.
Как следствие процессов, происходящих в отдельном слове, отметим и перестройку в языке А. Платонова общеязыковой лексической системы. аномальная синонимия, аномальная антонимия, аномальные родо-видовые отношения и т. д. [Кожевникова 1990]. На уровне грамматики в художественной речи А. Платонова можно отметить вольное обращение с категориями вида, залога и переходности, тяготение к номинализации развернутых синтаксических структур в именное словосочетание, разного рода контаминации в реализации синтаксических моделей и т. д.
Указанные семантические явления в языке А. Платонова, конечно, не обязательно свидетельствуют только о мифологическом типе вербализации реальности, – безусловно, «художественный мир» А. Платонова шире и многограннее. Но, тем не менее, с мифологизмом их объединяют такие черты, как неадекватное отображение объективно существующих в реальности связей и отношений, их иерархии, как создание своей, новой иерархии, подменяющей «нормальную» («творение новой действительности», по М.М. Маковскому [Маковский 1995]).
2.3.2. Особенности художественного стиля А. ПлатоноваХудожественная речь А. Платонова особым образом трансформирует и черты языковой ситуации эпохи, в основном в области стилей, создавая свой неповторимый «платоновский стиль». При кажущейся эклектике в смешении разнородных стилевых элементов, как нам кажется, существует своя особая логика, свои закономерности в использовании писателем единиц из разных сфер функционирования языка.
К примеру, Ю.И. Левин считает, что особая стилистика А. Платонова обусловлена: «1) недоверием к «официальному», нормированному языку (включая всю русскую литературную традицию) как неточному и ложному; 2) отказом от «официальной» позиции писателя в пользу простого «естественного» человека, своего рода Адама, впервые называющего вещи и явления; 3) отказом от принятых мировоззренческих установок – будь то позитивистский гуманизм XIX века или формирующийся сталинизм» [Левин Ю. 1991: 172].
Абстрактная, книжная лексика и фразеология (главным образом – общественно-политическая лексика) в стиле А. Платонова приобретают несвойственную им в системе языка образность, метафоричность, т. е. становятся эстетически значимыми единицами. Ср. следующий вывод: «А.
Платонов эстетизирует в речевом обиходе эпохи пласты, подвергшиеся небывалому вторжению обобщенных понятий и представлений, митинговой, агитационной фразы, газетного и канцелярского стереотипа» [Свительский 1970: 11].
В стиле А. Платонова слова, требующие предметно-вещественного распространения, помещаются в контекст употребления отвлеченной лексемы публицистического или канцелярско-делового стиля. Столкновение стилевых пластов в художественном повествовании А. Платонова художественно оправданно: автор изыскивает в публицистических штампах образно-метафорический потенциал, но при этом они неизбежно утрачивают свое обиходное содержание, общеязыковую семантику. Так, например, оживляется стершаяся экспрессия имен собственных из революционного пантеона (типа дело Ленина) за счет буквального «овеществления» семантически пустого символа: …он считал революцию последним остатком тела Розы Люксембург («Чевенгур»),
В языке А. Платонова своеобразно сочетаются элементы научного, «метафизического» (Ю.И. Левин) и поэтического, «лирического» стиля. Научный стиль возникает как тенденция подводить любой эмпирический факт под общий закон: содержательно он проявляется не столько в научной терминологии, сколько в самой структуре фразы – с нагромождением поясняющих придаточных или их эквивалентов. Лирический стиль проявляется в «сукцессивности» (существенен сам характер развертывания речи, а не только ее результирующий «интеграл») и «суггестивности» (проза А. Платонова воздействует не столько своим информационным содержанием, сколько способом высказывания), – при этом смешиваются «фабульное, психологическое, метафизическое», органично дополняя друг друга в единстве авторского субъективного переживания [Левин Ю. 1991: 171].
В индивидуальном стиле А. Платонова обнаруживается явление, которое можно назвать сакрализацией идеологической и деловой лексики – это сближение слов, несущих «новую идеологию» коммунизма, и «идеологем» традиционной религиозно-христианской сферы. Подобное сближение – примета реального языка революционной эпохи [Селищев 2003].
Сближение выглядит парадоксальным лишь на первый взгляд, если учесть провозглашенный идеологический антагонизм атеистического коммунистического учения и традиционного христианства. На более глубинном, порою даже подсознательном уровне вхождения слов – маркеров новой идеологии в массовое сознание обнаруживается глубокое типологическое родство самого способа представления реальности коммунистической и религиозной лексикой.
В художественной речи А. Платонова представлена целая система использования общественно-политической лексики в контекстном окружении религиозной лексики и фразеологии, переосмысления христианских формул, аллюзий на литургическую литературу и обрядность: —Хоть они и большевики и великомученики своей идеи… («Чевенгур»);… ты теперь как передовой ангел от рабочего состава («Котлован»),
Процесс замещения слов религиозной сферы словами общественно-политической лексики может даже осознаваться личностью; это демонстрирует, например, «аналитик» Пухов в «Сокровенном человеке»:… ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит! («Сокровенный человек»).
Естественным образом в языке героев соединяется религиозная и коммунистическая обрядность: Звонарь заиграл на колоколах чевенгурской церкви пасхальную заутреню, – «Интернационала» он сыграть не мог, хоть и был по роду пролетарием, а звонарем – лишь по одной из прошлых профессий («Чевенгур»),
Указанные свойства стиля А. Платонова, проявляющиеся в речи персонажей и в тех фрагментах авторского повествования, когда сближены позиции героя и Повествователя, на наш взгляд, также можно соотнести с особенностями мифологизованного взгляда на мир, которому чужда стилистическая дифференциация языка. Ведь дифференциация языка на стили есть результат работы достаточно развитого формально-логического аппарата, способного различать разные сферы общения по набору абстрактных признаков – поэтому для носителей сознания мифологизованного типа столкновение разнородных стилевых пластов не ощущается аномальным, в силу отсутствия «нормальной» языковой и стилистической компетенции.
2.3.3. Языковые и стилевые истоки художественной речи А. ПлатоноваГоворя об особенностях языка и стиля А. Платонова, нельзя оставить в стороне вопрос об истоках и параллелях неповторимой платоновской «художественной речи».
Одним из самых показательных соответствий языка А. Платонова должно считаться наличие параллелей с древнерусскими (частично отраженными и в современной диалектной речи) речевыми структурами и моделями. Причем, как справедливо отмечает Н.А. Кожевникова, собственно лексических архаизмов и историзмов в языке А. Платонова почти нет – кроме нескольких слов типа забвенный [Кожевникова 1990].
Регенерация древних способов вербализации происходит у А. Платонова на более глубинных – морфологическом и синтаксическом – уровнях. Отметим синкретизм в выражении значений грамматических категорий, недифференцированность синтаксических отношений между частями сложных предложений, ненормативное использование в роли связок полнознаменательных глаголов, активность безличных конструкций, собирательность в роли множественного числа и пр.
Так, например, М.А. Дмитровская отмечает сходство способов синтаксического выражения пространственных отношений в языке А. Платонова и в древнерусском / старорусском языке: «В древнерусском и старо-русском языке, как и в языке А. Платонова, употребление пространственных показателей, связанных с представлением о пространственной границе, зачастую носит, с точки зрения носителя современного языка, избыточный характер… Древний язык перенасыщен координатами, фиксирующими пространственную границу. По этому же пути идет А. Платонов» [Дмитровская 1999: 123].
Как представляется, своеобразная, зачастую неосознанная «гальванизация» языковых форм и моделей предшествующих периодов развития языка есть вообще одно из базовых свойств художественного слова. См. по этому поводу – замечание Л.B. Зубовой: «Деструкция языка в художественном тексте прямым образом связана с переживанием утраты бытия. Кроме того, она связана с потребностью поэта обратиться к предшествующим этапам развития языка, к его исходным элементам, пройти исторический путь языка заново, воссоздавая утраченное. То, что, на первый взгляд, может показаться регрессом, на самом деле оказывается ревизией забытого и нередко его окказиональной реставрацией» [Зубова 2000: 399].
Также для художественной речи А. Платонова можно отметить и роль народно-поэтического, фольклорного языкового пласта, который, правда, проявляется не столько на уровне формальных соответствий традиционным культурно-ассоциативным моделям, сколько опять-таки на уровне самих способов языкового представления реальности – антропологическая персонифицированная образность, «натурфилософское» переосмысление абстракций, приоритет «чувствования» над «думанием» и т. д.
Другая, во многом противоположная отмеченной выше, параллель связана с книжной, религиозной церковнославянской традицией, что находит свое отражение в сакрализации общественно-политической лексики, в доминировании отвлеченных существительных на – ость, – ие, в генитивных конструкциях, метафорах и в явлениях отвлечения эпитета, в многочисленных аллюзиях на литургическую литературу и обрядность.
С другой стороны, широко представлено в языке А. Платонова и просторечие. Просторечные формы выступают и как средства речевой характеризации персонажа, и как источник особой, нередко сниженной образности или экспрессии в речи повествователя.
Удивительно органичное сочетание «высокого» и «низкого» как характерную черту стиля А. Платонова отмечает и М.Ю. Михеев: «Этот стиль одновременно сочетает в себе, с одной стороны, элементы тавтологии и вычурности, некого суконного, «советского», или по-канцелярски испорченного языка, а с другой стороны, языка образно-поэтического. В нем свободно соприкасаются высокие церковнославянские обороты речи и неграмотная, самодельная [курсив автора – М.М.] речь разных «чудиков и умников» из народа» [Михеев 2003: 19].
Отметим также и черты так называемого «культового языка», языка мифологической ритуальности – заговоров, заклинаний (см., например, работу H.Л. Мусхелишвили и Ю.А. Шрейдера «Семантика и ритм молитвы» об особенностях семантической и формальной организации подобного типа речи [Мусхелишвили, Шрейдер 1993: 45–51]).
При этом в языке А. Платонова в причудливых конфигурациях и «странных» контекстах присутствуют и приметы современного ему «официального языка» эпохи – газетного и канцелярско-делового строя речи, лозунгов и идеологизованных клише. Но в результате художественного освоения этого речевого пласта происходит как бы «взлом изнутри» речевого стандарта и штампа эпохи.
Т. Сейфрид назвал смешение книжных и разговорных элементов в языке А. Платонова «причудливой амальгамой, широким спектром жанров письменной и устной русской речи в диапазоне, включающем и ненормативные рабоче-крестьянские диалекты, и книжный и несколько архаический стиль, и высокопарную марксистско-ленинскую риторику, и библеизмы» [Сейфрид 1994: 311].
Кстати, еще одну любопытную параллель отмечал С.Г. Бочаров, говоря о «детских сдвигах в речи» А. Платонова: ребенок, который впервые познает мир и открывает для себя связи вещей, нащупывает соответствующие этому средства выражения за счет уподобления уже известному в опыте [Бочаров 1971: 349 и далее]. См., например, чисто «платоновские» фразы, отмеченные Н.Е. Сулименко в речи детей «от трех до пяти»: А можно я тоже буду народ?; А кто произносит этот треск; Трудиться надо до вспотения [Сулименко 1994: 6—14].
Все же основным языковым пластом в платоновском языке должна быть признана книжная речь [Кожевникова 1990] как результат творческого преобразования культурной и литературной традиции. Это прежде всего традиции литературного сказа и орнаментальной прозы начала XX века, и особенно – поэтической речи конца XIX – начала XX века (символизм и др.). Исследователи отмечают и черты романтизма [Стюфляева 1970: 27–36], проявляющиеся в условно-обобщенной символике, патетике и субъективной окрашенности словоупотреблений.
Расхожие представления о «косноязычии» языка и стиля А. Платонова должны учитывать художественно обусловленный характер этого «косноязычия», которое аккумулировало в себе значительный арсенал языковой изощренности и изысканности самых разных литературных традиций.