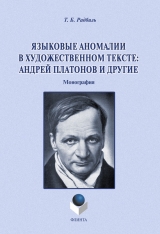
Текст книги "Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие"
Автор книги: Тимур Радбиль
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Текст, рассмотренный в плане его структурной организации, понимается нами, вслед за Т.М. Николаевой, как «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются цельность и связность» [Николаева 1990: 507]. Цельность и связность выступают в качестве основных категорий текста, причем категорий взаимосвязанных, как это доказывается, например, в работе В.А. Лукина в том плане, что само понятие цельности предполагает наличие частей и связей между ними, то есть связность: если бы не было частей, то было бы бессмысленным говорить о целом, которое больше суммы своих частей [Лукин 1999: 22–24 и далее].
В этом отношении связность есть предпосылка цельности. Во многом ведущую роль связности в организации именно структурного начал текста видит и И.А. Сыров [Сыров 2005]. Реализация категорий текста в повествовании А. Платонова связана со спецификой актуализации в его текстах эксплицитной и имплицитной связности, которую, вслед за Н.А. Николиной, мы разграничиваем на связность линейную (когезия) и нелинейную (когерентность) [Николина 2003b].
В плане линейной эксплицитной связности для текстов А. Платонова характерно особое отношение к средствам анафорической связи – личным и указательным местоимениям и наречиям, существительным и наречиям категориальной семантики (типа человек), именам собственным, а также к разного рода фразовым (перифрастическим) средствам.
Очень часто для анафорических связей А. Платонов предпочитает использовать обобщенные лексемы типа человек, дело, вещь, вместо местоимения или конкретного существительного (его мать, прохожий и пр.). Ср. по этому поводу наблюдение В.А. Свительского: «Когда писателю надо сделать особый акцент, внести в происходящее патетический оттенок или вывести отдельный миг из прозаически приземленного течения событий, то опять-таки делается нажим на родовое обозначение. Умирает старший машинист-наставник («Происхождение мастера»), он так и называется на протяжении почти всего эпизода – наставник, машинист-наставник. Но вот совершилось, тьма окончательно опустилась на прощавшегося с жизнью, и тогда мастеровые говорят врачу: «Несите человека домой». <…> То же в повести «Джан»: И мне пришлось долго жить без человека; внутри ее шевелился и мучился другой, еще более любимый и беспомощный человек; Чагатаев… лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека [Свительский 1998: 108]. Это вполне согласуется с общей установкой А. Платонова на обобщенно-символический тип художественной категоризации человека и явлений действительности.
То же мы наблюдаем при фразовой реализации имплицитной связности, когда происходящее событие подвергается последующему комментарию героя. Это выражается, например, в постоянном порождении по поводу и без повода обобщенных генерализованных суждений со значением «вечной истины». Так, во фрагменте, непосредственно следующем после смерти жены, Фома Пухов изрекает афоризм – Все совершается по законам природы, – удостоверил он самому себе и немного успокоился («Сокровенный человек»); аналогично – после фрагмента, где герой ощутил «неприличное» чувство голода, читаем – Естество свое берет! («Сокровенный человек»),
В прозе А. Платонова вообще активна тенденция в обобщенно-символической форме характеризовать самые простые житейские явления. Так, обычный выход рабочих с завода утром, после ночной смены комментируется следующим образом: Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова («Сокровенный человек»), – а обычный день человеческой жизни рассматривается, так сказать, sub specie aetemitatis: В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него – сотворение мира («Сокровенный человек»). Это – проявление все той же платоновской установки на философское осмысление всего сущего, своего рода «глобализация мышления».
Аномальная нелинейная связность (когерентность) проявляется в смещенных «дальних» сюжетно-композиционных связях, в несоблюдении определенных принципов «общей логики» фабульного развития и пр. Ср. замечание М.Ю. Михеева: «Действительно, сюжет «Чевенгура»… как-то досадно невразумителен, неотчетлив, запутан» [Михеев 2003: 261].
М.Ю. Михеев обнаруживает в текстах А. Платонова многие немотивированные и непонятные разрывы в повествовании, связанные, по мысли исследователя, с воспроизведением в «Чевенгуре» особой логики – логики сна: «Итак, разрывы повествования в «Чевенгуре» происходят на четырех ключевых фигурах романа. В этих провалах, пустотах, промежутках, зияниях, на которых останавливается, застревает или виснет повествование (а вслед за этим как бы замирает и наше читательское понимание) должны были бы быть выраженные связи – с ответами на вопрос: чьему сознанию (кого из героев) принадлежит и подчинена та или иная часть романа? В хронологии событий оставлены очевидные провалы. Эти провалы, на мой взгляд, заполнены снами, восстанавливающими действительный порядок происходящего, но заведомо многозначным образом» [Михеев 2003: 293].
В этой связи и многие другие исследователи отмечают ослабленность сюжетных связей в повествовании А. Платонова, немотивированные отступления и вообще – свободное обращение писателя с законами сюжетного построения произведения [Иванова 1988; Малыгина 1985; Чалмаев 1989; Шубин 1987 и др.].
Известно, что каждый из трех «пластов» романа «Чевенгур»: история Захара Павловича («Происхождение мастера»), путешествие («странствие») Дванова и Копенкина по южнороссийской степи и собственно «чевенгурское» бытие – является относительно самостоятельным, сюжетно и хронотопически завершенным художественным целым; связь между ними представляется чисто внешней, в значительной мере условной. Обычно это объясняют внетекстовыми (биографическими и пр.) факторами творческой истории произведения [Михеев 2003 и др.].
Не оспаривая важность этих наблюдений, думается, что можно приписать факту глобальной «несвязанности» этих «пластов» и внутритекстовое объяснение – жизнь, текущая «по законам мифа», не требует рациональной мотивированности и причинно-следственной детерминированности явлений, событий, судеб. Разные истории и сюжеты, так же, как и люди, просто возникают из «ниоткуда» и шествуют параллельно, подсвечивая друг друга отраженным светом (временное соположение вместо причинной связи есть один из элементов мифологического сознания [Лосев 1982]).
В целом нетрудно заметить, что все указанные выше сюжетные вольности» так или иначе снова отсылают нас к принципам мифопоэтического эпического повествования, особо релевантного для архаичных жанровых форм народного эпоса – таких, как песнь, былина, сказание и т. п.
2.4.4. Субъектная организация повествования (дискурс) в художественной прозе А. ПлатоноваХудожественный дискурс А. Платонова характеризуется прежде всего сложным взаимоотношением разных «точек зрения» [Успенский Б. 2000] в субъектной организации платоновского повествования.
На первый взгляд, особенности платоновского повествования вполне укладываются в рамки так называемой сказовой манеры повествования, характерной для многих писателей – современников А. Платонова (Вс. Иванов, Б. Пильняк, И. Бабель, М. Зощенко и др.).
Основа сказа, по М. М. Бахтину, не изображенная «объектная» речь, а слово с установкой на чужое слово, внутрь которого проникают диалогические отношения. Степень объектности может меняться, изменяя и дистанцию между словом героя и словом автора [Бахтин 1979]. В сказе герой и автор являют себя не внешними, формальными признаками, а глубинными речевыми характеристиками. Но при этом всегда должна сохраняться дистанция между автором и его героями, а также – между автором-творцом и Повествователем, который в сказе воспринимается в качестве «маски». Классическим сказом подобного типа является сказ М. Зощенко.
В этом смысле манера повествования А. Платонова отличается от сказа 20-х (подробнее об этом – см. в работе [Бочаров 1971]): «Принцип платоновского повествования лишь внешне напоминает «сказ», в сущности будучи ему противоположным» [Толстая-Сегал 1995: 101]. В соответствии с принципом «неостранения» А. Платонов изображает не чужое слово, не чужую мысль: «Для уникальной языковой структуры платоновского повествования становятся нерелевантными понятия «чужого» и «своего» слова…» [Вознесенская 1995b: 3].
Авторское слово включено в слово героя, и, напротив, в слове героя присутствует слово автора. Е.П. Корчагина в таких случаях говорит о редуцированном сказе, чтобы отграничить манеру А. Платонова от традиционного сказа: «Таким образом, в собственно авторском повествовании мы встречаем слова, явно ориентированные на восприятие героев, с большей или меньшей силой этой ориентации» [Корчагина 1970: 109].
Так, в художественней речи А. Платонова вполне возможны случаи, когда авторской речи принадлежит главное, а речи героя – придаточное предложение в едином сложноподчиненном предложении: Поэтому Дванов был доволен, что в России [революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура…] («Чевенгур»),
То же самое – в бессоюзной конструкции: Теперь ему стало хорошо: [класс остаточной сволочи будет выведен за черту уезда, а в Чевенгуре наступит коммунизм, потому что больше нечему быть]… («Чевенгур»),
Прямая речь может также быть «расписана» как обычное придаточное предложение (несобственно-прямая речь): Копенкин говорил с тремя мужиками о том, что [социализм – это вода на высокой степи, где пропадают отличные земли] («Чевенгур»),
Встречаются и более сложные случаи условной интериоризации речи [Караулов 1987: 84]: по формальным признакам фрагмент речи принадлежит автору, но отдельные ключевые слова вводят позицию персонажа, отражают его языковую картину мира: За ту же молодость… он [с уважением полюбил] Александра Дванова, [своего спутника по ходу революции] («Чевенгур»); Они [дети – Т.Р] не знали, что происходит революция, и считали картофельные шкурки [вечной едой] («Чевенгур»),
Но даже во всех этих случаях нельзя с достоверностью утверждать, что передаются именно приметы речи героев: по сути, язык самого автора соотносителен с языком его героев. Ср. «Необычно и отношение автора-повествователя к тому языку, создателем которого он является, а вернее, к тому сознанию, которое получает выражение через язык, автор не отделяет себя полностью от этого сознания, его точка зрения «внутренняя», <…> между ними нет той дистанции, которая, например, характеризует соотношение между автором и изображаемым им сознанием в поэзии Н. Заболоцкого, прозе М. Зощенко» [Вознесенская 1995b: 3].
Даже в тех немногочисленных случаях, когда фрагмент точно может быть квалифицирован как принадлежащий автору (поскольку установлена дистанция, взгляд со стороны): В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала («Чевенгур»), – налицо своеобразное взаимопроникновение голосов, точек зрения: выделенный фрагмент в равной степени мог бы быть приписан как «точке зрения» героя (скажем, Дванова, чьё путешествие описывает этот фрагмент), так и «точке зрения» автора.
Об этом пишет и Е. Толстая-Сегал: «… для стиля А. Платонова характерно преодоление неоднородности повествования [присущей традиционному сказу – Т.Р.]. Сохраняя сам принцип неоднородности – принцип стилистического сбоя – в качестве основного стилистического ключа, платоновское повествование является монотонным в своей неоднородности» [Толстая-Сегал 1995: 100].
Нам кажется, что, возможно, и здесь именно особенности мифологизма трансформируют традиционный сказ в редуцированный. Так, можно отметить характерное для мифа ослабление субъектного, личностного начала, отсутствие в мифологическом пространстве строго очерченных границ между позициями личности в мире, т. е. взаимопроникновение «точек зрения», «голосов», невыраженность принципиальной для дискурсивнологического мышления оппозиции субъект / объект. Согласно Е. Толстой-Сегал, вместо выделения конкретных точек зрения, появляется «плавающая» точка зрения, перекрывающая различные воспринимающие сознания [Толстая-Сегал 1995: 100].
Тяготение художественного повествования А. Платонова к коллективному субъекту речи отмечают и другие исследователи – см., например: «Таким образом, сознание автора включает в себя сознание героев; сознание же героев редуцирует в себе сознание автора. У А. Платонова сообщество в множественности сознаний, взаимовключения сознаний» [Корчагина 1970: 113]. Ср. мнение об этом еще одного исследователя: «Говоря о повествующем лице, можно отметить, что оно всегда находится в непосредственной близости с героями – ни пространственной, ни временной дистанции между ними нет» [Зюбина 1970: 34].
К подобным выводам о «совмещении» точек зрения Повествователя и героя приходит при анализе рассказа «Усомнившийся Макар» и М.М. Вознесенская, обосновывая художественную функцию подобного совмещения: «Таким образом, на протяжении почти всего рассказа точка зрения повествователя совмещена с точкой зрения главного героя. На все происходящее Макар смотрит как иностранец, инопланетянин, давая незнакомым вещам и явлениям свои собственные названия, устанавливая новые связи и отношения, исходя из своего наивно-крестьянского, хозяйственно-практичного взгляда на мир» [Вознесенская 1995а: 293].
Мы называем это явление диффузностью точек зрения («диффузностью дискурсов») [Радбиль 1998], при которой зачастую нельзя с достоверностью сказать, кому принадлежит слово – автору или его герою. К сходному выводу приходит Ю.И Левин в работе «От синтаксиса к смыслу и дальше» (о «Котловане» А. Платонова): «Имплицитный автор растворен в мире персонажей» [Левин Ю. 1991: 171].
Особое отношение к «чужому слову» обусловливает и особый характер интертекстуальности А. Платонова. Для художественной речи А. Платонова характерна аномальная «апелляция к прецедентным текстам» (Ю.Н. Караулов) эпохи, которая выражается в так называемом «отраженном» употреблении расхожих газетно-публицистических формулировок.
При этом знаки «чужого авторитетного языка» употребляются в чисто самодостаточной функции, для обозначения принадлежности к новой, прогрессивной идеологии: «Газетная, деловая фразеология были насаждаемы как авторитетное слово, и приобщение к ним – осознается как приобщение к культуре» [Кожевникова 1990: 170].
Аномальность использования прецедентных текстов эпохи заключается не столько в непреднамеренном искажении логической и формальной структуры исходного «пратекста», сколько в отсутствии внеязыковой, прагматической мотивации их включения в речевой акт. Произнесение такого «отраженного» выражения общественно-политической лексики имеет все признаки семиотизированного, ритуализованного (т. е. мифологизованного) речевого поведения. Ср., например, следующие немотивированные употребления отголосков «отраженных» фраз или лозунгов:… Революция – это букварь для народа («Чевенгур»); Пора, товарищи, социализм сделать не суетой, а заботой миллионов («Ювенильное море») и др.
В целом представляется, что все же нельзя говорить о полном слиянии точек зрения автора и персонажа в произведениях А. Платонова; скорее, речь идёт о тенденции сближения позиции Повествователя то с одним, то с другим героем на протяжении всего произведения.
Это, на наш взгляд, также говорит о попытке художественно воссоздать коллективное мифологическое сознание в условном художественном пространстве-времени «Чевенгура», «Котлована», «Ювенильного моря», «Сокровенного человека» и др.
2.5. Основные выводы
В этой книге предлагается комплексное исследование феномена языковой аномальности в художественном тексте через анализ особенностей «художественного мира», стиля и языка, реализованных в художественной речи отдельно взятого, «прототипически аномального» автора – Андрея Платонова. Именно такой подход, по нашему убеждению, позволяет действительно увидеть целостную картину функционирования аномалий разного типа в качестве основного средства моделирования особой художественной реальности и адекватного ей особого «поэтического языка».
Представляется, что выбор художественной речи А. Платонова в качестве объекта исследования аномалий поможет выявить и многие типологические закономерности аномальности в сфере языковой концептуализации мира. Несмотря на его неоспоримую уникальность, его, так сказать, «вызывающую» индивидуальность, «аномальный язык» А. Платонова соотнесен с какими-то общими принципами «аномализации» «картины мира», естественного языка и привычного для «прототипического читателя» способа повествования, которые релевантны для определенного типа художественного сознания в культуре XX в.
В основе нашего анализа языковых аномалий в художественном тексте будет лежать схема: художественный мир – язык – текст. В целях нашего исследования целесообразно расширительное понимание понятия языковые аномалии в качестве родового термина для любого нарушения или отклонения на уровне любого их трех членов указанной триады.
Теоретическим основанием для включения в область применимости понятия языковые аномалии элементов «мира», на наш взгляд, является развивающаяся в последнее время теория о том, что язык (его лексическая и грамматическая семантика) воплощает в себе наивную философию [Апресян 1986], определенную «картину мира», которая представляет собой «взятое в своей совокупности все концептуальное содержание данного языка» [Laroshette 1979: 177–178].
Теоретическим основанием для включения в область применимости понятия языковые аномалии элементов не только системы языка, но и ее речевой реализации в тексте может стать восходящее еще к Л.B. Щербе триединое понимание языка как триады «речевая деятельность», «языковая система», «языковой материал», где наиболее общей категорией является речевая деятельность, включающая процессы говорения и понимания, а «языковая система» объективно реализована в «языковом материале» (под которым Л.B. Щерба понимает устные и письменные тексты), или в индивидуальных языковых системах [Щерба 1974: 24–39].
Особенно эти соображения релевантны применительно к художественному тексту, где «момент языка» вообще является доминирующим в силу тотальной роли именно языкового способа репрезентации любого содержательного или структурного уровня текста [Винокур Г. 1990; Ларин 1974 и др.].
Тогда языковые аномалии, в соответствии с логикой трехчленной структуры художественный мир – язык – текст, делятся на аномалии языковой концептуализации мира, аномалии языка и аномалии текста.
Аномалии языковой концептуализации мира являются так называемым «мирообразующим» фактором по отношению к «художественному миру» писателя, который понимается нами как интегрирующий «фикциональный мир» как некий концептуальный инвариант конкретных «художественных миров», актуализованных в конкретном тексте.
В свою очередь среди аномалий языковой концептуализации мира мы выделяем четыре разновидности аномалий, соответствующих четырем плана (уровням) «художественного мира»: (1) аномалии субстанциональной сферы (субстанциональные аномалии); (2) аномалии концептуальной (логической) сферы (концептуальные аномалии); (3) аномалии аксиологической (ценностной) сферы (аксиологические аномалии); (4) аномалии мотивационно-прагматической сферы (мотивационно-прагматические аномалии). Исследованию указанных аномалий посвящена III глава этой книги.
Аномалии языка являются стилеобразующим фактором по отношению к «художественной речи» писателя. Поскольку в сфере нашего исследовательского интереса находятся только аномалии, релевантные по отношению к смысловым преобразованиям, мы позволили себе дать аномалиям «художественной речи» общее обозначение – семантические аномалии.
В свою очередь среди семантических аномалий мы выделяем пять разновидностей аномалий в зависимости от уровня языковой системы, который участвует в порождении данной аномалии: (1) лексикосемантические аномалии; (2) стилистические аномалии; (3) фразеологические аномалии; (4) словообразовательные аномалии; (5) грамматические аномалии. Исследованию указанных аномалий посвящена IV глава этой книги.
Аномалии текста являются текстообразующим фактором для художественного повествования писателя. В тексте как в многоаспектном явлении можно выделить три принципиально разные стороны его организации
– наррация, дискурс и текстовая структура. При этом мы условно относим аспект актуализации в данном тексте «прототипического нарратива» как совокупности неких обобщенных повествовательных стратегий, реализованных в художественном произведении, к плану нарративности / наррации, аспект реализации общекоммуникативных и конкретно-языковых моделей линейной и нелинейной связности и других текстовых категорий к плану структурно-текстовому / структуры текста, а аспект особенностей субъектной организации повествования, текстовой модальности и пр. – к плану дискурсивности / дискурса..
Соответственно среди аномалий текста мы будем выделять: (1) аномалии наррации; (2) аномалии структуры текста; (3) аномалии дискурса. Исследованию указанных аномалий посвящена V глава этой книги.
Так понимаемые языковые аномалии рассматриваются как аномалии исключительно в модусе «реальность». Поскольку пафос всего нашего исследования как раз и состоит в утверждении необходимости интенциональной и функциональной интерпретации этих аномалий как эффективного художественного средства, мы считаем, что в модусе «текст» рассматриваемые аномалии выступают в качестве нормы для анализируемого художественного повествования.






