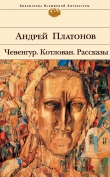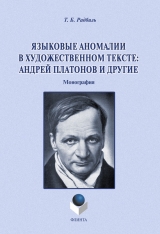
Текст книги "Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие"
Автор книги: Тимур Радбиль
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
(2d) Словообразовательные аномалии. Это также разного рода структурные, семантические, структурно-семантические и прагматические преобразования словообразовательной структуры отдельного слова или в целом – словообразовательных моделей. Это, например, образование в художественной речи А. Платонова окказионализмов типа приорганизуюсь («Котлован») или подкоммунивать («Чевенгур») и др.
(2е). Грамматические аномалии. Это разного рода отклонения, связанные с аномальной вербализацией грамматических категорий, аномальным заполнением синтаксических позиций или нарушением синтаксических моделей и пр. Например, противоречие между лексическим и категориальным значением: Я долго заплакала [вместо плакала] (А. Платонов, «Чевенгур»); аномальная вербализация категории переходности: Овечье спит он сам движенье (А. Введенский, «Минин и Пожарский»); контаминация двух разных синтаксических моделей: Он богоподобен сычу [= богоподобен + подобен кому-л.] (А. Введенский, «Приглашение меня подумать») и т. д.
Подводя предварительные итоги, отметим, что, поскольку естественный язык выступает как «реальность» по отношению к художественной речи произведения, разобранные нами случаи (2а – 2е) аномальной языковой концептуализации системы национального языка на разных ее уровнях также могут быть безусловно признаны аномалиями, но только при рассмотрении языка данного художественного текста в модусе «реальность» (соответствие / несоответствие его языка нормам системы языка и конвенциям речевой практики этноса). Интегрирующая модальная рамка для всех пяти разновидностей этих аномалий: ‘Люди считают, что так не говорят / не принято говорить по-русски
Будучи же рассмотренными в модусе «текст» (органичность, т. е. адекватность данного дискурса возможному «художественному миру» произведения, актуализованному посредством таких языковых аномалий), все эти случаи являются «нормой» для художественной речи подобных художественных произведений.
Это подтверждается как самим существованием в пространстве культуры таких вполне верифицируемых феноменов, как «странный язык» А. Платонова, «заумь» В. Хлебникова, «язык бессмыслицы» А. Введенского, так и «культурной апроприацией» этих феноменов в качестве культовых, т. е. в качестве образцов для стилизации или подражания, релевантных объектов для теоретических и критических исследований.
(3) Аномальная языковая концептуализация принципов тексто-порождения. Если аномальная концептуализация мира выступает как содержательная сторона текста, а аномалии языка – как его материал, внешний по отношению к законам его порождения и организации, то аномалии собственно текстовые характеризуют структурный аспект феномена «текст».
Имеет смысл разграничивать наррацию как совокупность структурно-композиционных, пространственно-временных и других собственно повествовательных принципов организации именно художественного произведения [Шмид 2003 и др.], текст вообще как явление языка в плане его основных категорий и дискурс как субъектно ориентированную речевую реализацию общих принципов организации текста (см., например [Николаева 1978а; Арутюнова 1990а; Сыров 2005 и др.]). Соответственно можно говорить об аномалиях наррации, аномалиях текста и аномалиях дискурса.
(За) Аномалии наррации. К таковым аномалиям мы относим аномальную реализацию событийной (фабульной) структуры, сюжетно-композиционной структуры, пространственно-временной структуры и т. д., а также некоторые аномалии в организации диалога в повествовании.
Прообразом аномалии событийной (фабульной) структуры является ситуация с ненаписанным рассказом Повествователя в повести Д. Хармса «Старуха», который так и остановился на уровне инициального предложения: Чудотворец был высокого роста.
Аномальная реализация композиции выражается и в аномальном зачине, когда им, собственно, и исчерпывается текст – в рассказе Д. Хармса «О Пушкине» читаем: Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И Александр I и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь./ А потому вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нем и писать-то ничего нельзя, поэтому я буду все-таки писать о Пушкине. / Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу.
К аномалиям в области наррации относятся также аномалии хронотопа (видо-временного плана повествования), рассмотренные нами в работе [Радбиль 1999d].
Аномалиями наррации, на наш взгляд, можно считать и нарушения в области реализации коммуникативных регистров [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998]. Так, аномально смешиваются репродуктивный и информативный регистры в отрывке Д. Хармса «Когда жена уезжает куда-нибудь одна…»: Когда жена уезжает куда-нибудь одна, муж бегает по комнате и не находит себе места. / Ногти у мужа страшно отрастают, голова трясется, а лицо покрывается мелкими черными точками.
Начальным предложением задается информативный (повествовательный) регистр с использованием настоящего обычного, повторяющегося действия. Содержание дальнейшего текста приходит в противоречие с этим типом настоящего времени – эксклюзивные, даже экзотические события (для описания которых естественен репродуктивный регистр – модальная рамка ‘Я вдруг вижу, что… ’) подаются как повторяющиеся, обычные, присущие данной ситуации: В это время его жена купается в озере и случайно задевает ногой подводную корягу. Из-под коряги выплывает щука и кусает жену за пятку. Жена с криком выскакивает из воды и бежит к дому. Навстречу жене бежит хозяйская дочка. Жена показывает хозяйской дочке пораненную ногу и просит ее забинтовать. / Вечером жена пишет мужу письмо и подробно описывает свое злоключение. /Муж читает письмо и волнуется до такой степени, что роняет из рук стакан с водой, который падает на пол и разбивается. Муж собирает осколки стакана и ранит ими себе руку. / Забинтовав пораненный палец, муж садится и пишет жене письмо. Потом выходит на улицу, чтобы бросить письмо в почтовую кружку. / Но на улице муж находит папиросную коробку, а в коробке 30 ООО рублей. / Муж экстренно выписывает жену обратно, и они начинают счастливую жизнь.
В свете инициального предложения все дальнейшие высказывания прочитываются в рамках узуального (неактуального) действия, тогда как их реальный смысл – воспроизведение актуального происшествия в режиме «реального времени» говорящего.
Также сюда относится аномальная текстовая референция как неадекватная вербализация лица – источника акционального плана повествования. Так, например, в рассказе Д. Хармса «Приключение Катерпиллера»: Мишурин был Катерпиллером. Поэтому, а может быть и не поэтому он любил лежать под диваном или за шкапом и сосать пыль. Так как он был человек не особенно аккуратный, то иногда целый день его рожа была в пыли, как в пуху. / Однажды его пригласили в гости, и Мишурин решил слегка пополоскать свою физиономию. Он налил в таз теплой воды, пустил туда немного уксусу и погрузил в эту воду свое лицо. Как видно, уксусу в воде было слишком много, и потому Мишурин ослеп. До глубокой старости он ходил ощупью и поэтому, а может быть и не поэтому стал еще больше походить на Катерпиллера.
Здесь аномально предицируется референция лица катерпиллер, полагаемого общеизвестным (потому его имя и подается со строчной буквы), и приписываемых ему само собой разумеющихся свойств. К этой группе аномалий примыкает и аномальный дейксис, описанный нами в работе [Радбиль 2005а].
(ЗЬ) Аномалии текста. Аномалии текста предполагают нарушения в актуализации базовых текстовых категорий (связность, последовательность, цельность, законченность и пр.). Интегрирующей все указанные категории, по общему мнению, выступает категория связности (когезия как связность линейная и когерентность как связность нелинейная [Николина 2003b]).
В сфере нарушений связности и других категорий можно отметить аномалии имплицитной связности, например, аномальную имплицитную предикацию, понимаемую «как способ неявной передачи текстовой информации, выводимой из наличного сообщения» [Федосюк 1988: 3].
Так, рассказ Д. Хармса «Происшествие на улице» описывает события вокруг случая, когда один человек попал под трамвай. А финальная фраза звучит: Ну, а потом опять все стало хорошо, и даже Иван Семенович Карпов завернул в столовую. Имплицитная предикация ‘Иван Семенович завернул в столовую ’ аномальна, так как герой не введен в предыдущем тексте. Имплицитная предикация ‘даже Иван Семенович ’ аномальна, т. к. не мотивируется выделение этого факта из ряда остальных.
К этой же группе отнесем и аномальное включение метатекстовых элементов [Вежбицкая 1978] в текст как эксплицитное средство реализации категории связности. Например, для отрывка «Шел трамвай…» Д. Хармса характерно аномальное включение метатекстового элемента дело в том, что…: Шёл трамвай, скрывая под видом двух фонарей жабу. В нем всё приспособлено для сидения и стояния. Пусть безупречен будет его хвост и люди, сидящие в нем, и люди, идущие к выходу. Среди них попадаются звери иного содержания. Так же и те самцы, которым не хватило места в вагоне, лезут в другой вагон. Да ну их, впрочем, всех! Дело е том, что шёл дождик, но не понять сразу: не то дождик, не то странник – этот элемент реально не вводит в дискурс ожидаемую дальнейшую вербализацию заключения.
А далее видим аналогичное аномальное использование дискурсных показателей судя по всему и скорее: Но, судя по тому, что если крикнуть: кто идет?– открывалось окно в первом этаже, оттуда высовывалась голова, принадлежащая кому угодно, только не человеку, постигшему истину, что вода освежает и облагораживает черты лица,– и свирепо отвечала: вот я тебя этим (с этими словами в окне показывалось что-то похожее одновременно на кавалерийский сапог и на топор) дважды двину, так живо всё поймёшь! Судя по этому, шел скорей странник, если не бродяга, во всяком случае такой где-то находился поблизости, может быть за окном.
(Зс) Аномалии дискурса. Эти аномалии связаны прежде всего с аномальной субъектной организацией повествования, с реализацией «своего» и «чужого слова», о чем писали еще В.В. Виноградов [Виноградов 1980] и М.М. Бахтин [Бахтин 1979]. Для «свободного косвенного дискурса» [Падучева 1996], широко представленного в текстах XX в., неразграничение слова Повествователя и слова героя. – это самый, так сказать, «популярный» в современной литературе вид аномалий дискурса.
Так, для повествования А. Платонова характерно «растворение имплицитного автора в своих персонажах» [Левин Ю. 1991]: Когда он ложился обратно спать, он подумал, что дождь – и тот действует, а я сплю [вместо нормального для косвенной речи он спит и прячусь в лесу напрасно: умер же бобыль, умрешь и ты… («Чевенгур»),
Аномалии субъектной организации повествования применительно к литературе XX в. обстоятельно рассмотрены в работах Е.В. Падучевой о семантике нарратива [Падучева 1996]. Это аномальная вербализация «эгоцентрических элементов», нарушения, связанные с «явлением нецитируемости», с вербализацией модальных показателей с внутренне противоречивой прагматической семантикой и пр.
К этой же группе аномалий дискурса отнесем аномалии интертекста, описанные нами в работах [Радбиль 1999b и 1999с]. В частности аномалии интертекста заключаются в немотивированном вводе «прецедентного текста» [Караулов 1987] в дискурс или в противоречии между содержанием наличного текста и вводимого прецедентного текста. Например, в произведении А. Платонова «Котлован», в речи бюрократа Пашкина немотивированно используется идеологизованное речевое клише эпохи «высокой» идеологической маркированности для номинации рядовой, вполне приземленной ситуации: Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства.
Подводя предварительные итоги, отметим, что все случаи (За – Зс) опять же представляются безусловно аномальными только в модусе «реальность» – в плане их сопоставления с «прототипическим нарративом», который выступает как «реальность» (т. е. как норма) в отношении к конкретной реализации общих принципов текстопорождения в данном художественном тексте. Интегрирующая модальная рамка для всех трех разновидностей этих аномалий: ‘Люди считают, что так не принято рассказывать истории ’.
Будучи рассмотренными в модусе «текст», эти явления не являются аномалиями с точки зрения «законов порождения» данного художественного текста. Осознанная установка на остраняющую деструкцию стереотипов построения «нормального» повествования у обериутов или неспособность косноязычного, «нарративно» некомпетентного героя-рассказчика справиться с повествованием о сложном и непроницаемом для его сознания мироздании у А. Платонова представляются единственно возможными нарративными средствами концептуализации столь «странного» и «бессмысленного» художественного мира, – т. е. «нормой» данного художественного дискурса.
Итак, не только «содержательные», но и «собственно текстовые» аномалии (вроде бы нарушающие законы наррации) на деле приводят к порождению произведения, не только не аномального, но, могущего служить эталоном, «нормой» для определенных стилей и направлений в литературе.
1.2.3. Норма и аномалия в модусе «текст»: понятие «прототипического читателя»Когда мы говорим об аномальной концептуализации мира, аномальном языке и аномалиях текста в модусе «текст», мы признаем отсутствие аномальности (т. е. «норму») исходя из успешности в плане читательского восприятия. Именно читатель выносит окончательный вердикт, признавая предложенный писателем странный «художественный мир» эстетически убедительным.
Следовательно, необходимо ввести точку отсчета, устанавливающую и эту норму. Наряду с понятиями «прототипический мир», «прототипические ценности», «прототипический нарратив» можно постулировать и понятие «прототипический адресат», релевантный для данной культуры.
По аналогии с разграничением автор как реальное лицо, создатель текста – образ автора как конструктивный элемент повествовательной структуры текста, т. е. «внешний автор» и «внутренний автор», многие исследователи говорят также о разграничении внешнего и внутреннего адресата: «Позиция автора слагается из двух перспектив: образа читателя, который введен в произведение как собеседник автора, и читателя, который извне оценивает созданный автором образ читателя. Разница между этими двумя позициями зависит от времени создания произведения и от индивидуальных творческих задач» [Солоухина 1989: 223].
В. Шмид в этом смысле говорит об «абстрактном читателе» и «фиктивном читателе» [Шмид 2003], это противопоставление также существует в виде оппозиции «экзегетического и диегетического адресата» [Падучева 1996], «эксплицитного и имплицитного читателя» [Изер 1997] и т. д.
«Прототипический адресат» – это, безусловно, внешний, экзегетический читатель. Однако такой адресат, в отличие от автора, лишен пространственно-временной, биографической и культурной определенности: «Неполнота определенности образа адресата неизмеримо больше, чем неполнота определенности образа автора, при этом он (адресат) вовсе не является какой-то эфемерной категорией, поскольку входит в литературную коммуникацию (подобно слушателю в речевой акт) как конститутивный и конституирующий элемент художественного произведения» [Степанов Г. 1984: 33].
Точно так, же, как и «прототипический мир» – вовсе не реальный мир, «прототипический адресат» – это не реальный адресат: «В процессе творчества в сознании автора присутствует адресат, литературная среда, которая вовсе не обязательно совпадает с реальными адресатами. Более того, непосредственное свое окружение автор может сознательно игнорировать, выражая в произведении субъективное представление об общем (коллективном) облике своего читателя» [Солоухина 1989: 218].
Точка зрения о «виртуальности» такого читателя, восходит, по мнению В. Шмида, к польскому ученому М. Гловиньскому, предложившему понятие «виртуальный реципиент» [Шмид 2003: 58]. Также известный литературовед Б.О. Корман, противопоставляя автору как источнику концептуальной системы произведения некую идеальную инстанцию читателя как «постулируемого адресата, идеальное воспринимающее начало», утверждает: «Инобытием… автора является весь художественный феномен, который предполагает идеального, заданного, конципированного читателя. Процесс восприятия есть процесс превращения реального читателя в читателя конципированного» [Корман 1992: 127].
Это некая совокупность признаков «идеального» читателя исходя из норм и критериев данной эпохи, находящаяся, как и «прототипический мир», не в реальном, а в концептуальном пространстве – общем для автора и для читателя, опосредованном наличной культурной средой.
Поиск таких признаков осложняется отсутствием надежных критериев параметризации модели адресата, поэтому модель «прототипического читателя» по определению будет страдать схематичностью и предельной обобщенностью. Однако, несмотря на это, В. Шмид все же выделяет некоторые конститутивные признаки «абстрактного читателя»:
«Во-первых, абстрактный читатель – это предполагаемый, постулируемый адресат, к которому обращено произведение, языковые коды, идеологические нормы и эстетические представления которого учитываются для того, чтобы произведение было понято читателем. В этой функции абстрактный читатель является носителем предполагаемых у публики фактических кодов и норм.
Во-вторых, абстрактный читатель – это образ идеального реципиента, осмысляющего произведение идеальным образом с точки зрения его фактуры и принимающего ту смысловую позицию, которую произведение ему подсказывает. Таким образом, поведение идеального читателя, его отношение к нормам и ценностям фиктивных инстанций целиком предопределены произведением» [Шмид 2003: 61].
Очевидно, что «прототипический читатель» прежде всего специализирован на актуализации первого свойства – «быть предполагаемым, постулируемым адресатом». Причем это не надо понимать буквально в том смысле, что автор в обязательном порядке сознательно выбирает круг читателей и ориентируется на него. Это надо понимать так, что любое произведение задает некий комплекс идей, ценностей, норм, чья направленность на обязательную интерпретацию адресатом в надлежащем ракурсе входит в их интенциональную природу, в их семантику и прагматику, в специфику их функционирования в данном тексте.
Категория «абстрактного читателя» социально и культурно обусловлена, о чем пишет, например, Г.В. Степанов пишет: «Построение модели адресата определенной эпохи невозможно без выяснения способов восприятия мира в эту эпоху, без учета семантического инвентаря культуры, без понимания относительной автономности художественного познания действительности» [Степанов Г. 1984: 27].
Теоретической основой понятия «прототипический читатель» может стать понятие «читательской компетенции» (вводимое как аналог языковой, коммуникативной и культурной компетенции). Это совокупность неких типизированных навыков в восприятии, познании, понимании, осмыслении и истолковании художественного текста как явления, в котором многосмысленность и вариативность являются конститутивными моментами его устройства и функционирования.
Е.И. Диброва употребляет в этом смысле термин «социокультурная компетентность»: «Социокультурная компетенция [здесь и далее разрядка автора – Е.Д.] читателя определяет его как тип понимающего читателя и создает возможности вариантного истолкования. В связи с этим встает проблема актуального читателя, для которого текст и его автор – объекты разной глубины, имножественного читателя, или множественности читателя, создающих разновидности смысла» [Диброва 1998: 254].
В основе стратегии читательского восприятия текста как элемента его «читательской компетенции» лежит эффект «обманутого ожидания» читателя, о котором говорил еще P.O. Якобсон [Якобсон 1975 и 1985]. Читатель не просто воспринимает смысл читаемого фрагмента, но, исходя из него, одномоментно «предсказывает содержание последующего отрезка текста исходя из предыдущего», т. е. «ожидает реализации «обещанной» схемы» [Славиньский 1975: 269].
Нарушение ожидания P.O. Якобсон называет также «несбывшимся предсказанием», которое считает общим принципом всякого речевого изменения, производимого со стилистической целью и представляющего собой отклонение от нормы [Якобсон 1987: 84–85]. «Нарушение ожидания», или «несбывшееся предсказание», в общем и создает эстетический эффект.
Сам эффект обманутого ожидания описывается, например, в работах И.В. Арнольд в терминах предсказуемость / непредсказуемость, когда неожиданное отклонение создает сопротивление восприятию, а преодоление этого сопротивления требует усилия со стороны читателя, и потому сильнее на него воздействует [Арнольд 1981].
Основываясь на идеях P.O. Якобсона, Ю.М. Лотман говорит о «минус-приеме» как творческой установке автора на сознательный отказ от общепринятых норм стиля и жанра, предполагающей игру на упомянутом «обманутом ожидании» читателя. Можно постулировать в рамках родового понятия «читательское ожидание» такие его разновидности, как ритмическое ожидание, стилистическое ожидание, образное ожидание, жанровое ожидание и т. п., которые подтверждаются или не подтверждаются прочитанным текстом [Лотман 1972: 26–32].
Применительно к такой разновидности, как, например, стилистическое ожидание, Ю.М. Скребнев предполагает приписать наличие повышенной информативности в читательском восприятии отклонению от ожидаемого следования норме: «Формулированию этого тезиса может быть придан более общий вид: не обманутое ожидание как частный случай, а эффект повышенной информативности в свете формы – такова, по-видимому, общая характеристика реакции человеческой психики на позитивную стилистическую значимость» [Скребнев 1975: 28].
Применительно к образному и повествовательному ожиданию М.Л. Гаспаров рассматривает в качестве критерия такого ожидания обычай (узус): «Но что такое та норма, на которую ориентируется это читательское ожидание? На уровне ритма она задана правилами стихосложения, обычно довольно четкими и осознанными. На уровне стиля и образного строя таких правил нет, здесь действует не закон, а обычай. Если читатель привык встречать розу в стихах только как символ, то появление в них розы только как ботанического объекта (например, «парниковая роза») он воспримет как эстетический факт» [Гаспаров М. 1997: 186].
В целях нашего исследования самое главное здесь – то, что «обманутое ожидание связано с «нарушением всякого рода стереотипов – социальных, стереотипов мышления, поведения, языковых и др.» [Телия, Графова, Шахнарович 1991: 199]. В этом смысле можно предположить, что именно нарушение ожидания и является эстетической нормой для художественного повествования в плане читательского восприятия. И, напротив, отсутствие такого нарушения (стилистическая однородность, образная однообразность, повествовательная монотонность и пр.) не вызывает эстетического эффекта и должно быть признано аномалией.
В нашей терминологии это представляется следующим образом: нарушение ожидания есть отклонение, т. е. «аномалия текста» в модусе «реальность», но «норма текста» – в модусе «текст». «Прототипический читатель» XX в. в этом плане обладает некоторой спецификой.
Его особенности вытекают из такой закономерности в эволюции понятия «художественной нормы» (как нормы создания текста и, соответственно, как нормы его восприятия), как смена доминанты: «Всякие сдвиги эстетических норм подразумевают, в конечном итоге, смену доминант. Смена доминант происходит в результате изменения установки, в смысле Ю. Н. Тынянова, но связана с последней не жесткой причинно-следственной связью, а как весьма опосредованное следствие такой смены, имеющее место уже в сфере коммуникативных средств» [Очерки истории языка русской поэзии 1990: 58].
Прежде всего «новый тип читателя» порождается новым типом художественного освоения мира, сложившимся в XX в. Глубокий анализ особенностей художественного мышления XX в. дан П.П. Ковтуновой [Очерки истории языка русской поэзии 1990: 7—27].
«Прототипический читатель» XX в. должен быть способен адекватно воспринять и эстетически апроприировать такие черты нового художественного мышления, как «новая, более сложная, организация пространства и времени в художественных произведениях; масштабность («грандиозность») образов; отражение мира в движении, динамике; динамизм в образной структуре; не менее активное, чем в науке, стремление к познанию мира, к проникновению в глубь вещей, в невидимый мир, в скрытые связи и отношения; образное воплощение новых представлений о структуре мира, об отношениях человека и мира, человека и природы; художественный синтез контрастных и далеких вещей и представлений» [Очерки истории языка русской поэзии 1990: 9].
«Прототипический читатель» XX в. воспринимает как норму такие черты произведений искусства, которые в культуре читательского восприятия предшествующих веков были бы восприняты как аномалия (в модусе «текст»): это активизация тропов как проявление ориентации на сложность, неоднозначность или невыразимость истины; усиление принципа неопределенности, присущего искусству; активизация внутренней речи как источника художественных приемов, которую характеризуют стремление к передаче не результата, но процесса мышления и восприятия, «потока сознания»; поиски новых «точек зрения» и новых перспективных решений в художественных произведениях; появление приема «монтажа», выводимого из особенностей внутренней речи, «чувственного мышления» [Очерки истории языка русской поэзии 1990: 9—10].
Можно сказать, что ориентация на разного рода аномалии становится нормой художественной речи XX в… Примерно в этом же плане высказывается Л.B. Зубова: «В современной поэзии наблюдается отчетливая тенденция к выведению слова, формы, морфемы из стандартной сочетаемости, идет активный процесс освобождения языковых единиц от любой синтагматической зависимости – параллельно с постоянной фразеологизацией языковых единиц и превращением словесных блоков в слова» [Зубова 2000: 398].
«Прототипический читатель» XX в. как бы «заряжен» на восприятие аномалии, без которой он воспринимает текст как «пресный», т. е. эстетически неубедительный, неадекватный.
В культуре XX в. сложились принципиально новые отношения в парадигме «автор – читатель», которые ориентированы на отказ от диктата автора, на равноправный диалог «точек зрения» [Бахтин 1979] автора и читателя. Более того, акцент переходит с роли автора на роль читателя, которому предлагается максимально активизировать свой креативный потенциал в разгадке «кода автора» [Современное зарубежное литературоведение 1996]. Крайнее выражение такая точка зрения нашла в постмодернизме – это принцип деконструкции Ж. Деррида, предполагающий равноправное соприсутствие всех возможных интерпретаций текста читателем или исследователем как фундаментальную особенность самого текста [Руднев 1997: 75].
Читатель XX в. изначально готов к разгадке и дешифровке литературного произведения, как никто другой – эта способность входит в его культурную (а значит – и «читательскую») компетенцию. При этом «формирование адресата, способного полноценно воспринять произведение, завершается иногда через несколько поколений» [Солоухина 1989: 225].
Приводимая выше теория «обманутого ожидания» P.O. Якобсона касается, как думается, не «читателя вообще», а именно читателя XIX, а в большей степени – XX в. Ведь читатель, скажем, древнерусской литературы, философского трактата древнего Китая или произведений западноевропейского классицизма едва ли был ориентирован на «обманутое ожидание»: для него, напротив, эстетический эффект вызывался неукоснительным следованием канону, отклонение от которого воспринималось как грубое нарушение «повествовательной нормы» (в смысле В.Д. Левина).
С другой стороны, именно в поле восприятия современного «прототипического читателя» любое значительное художественно произведение заранее предполагает разного рода отклонения от нормы как позитивный аспект модели читательского восприятия.
Какой социокультурный тип является прообразом современного «прототипического читателя»? В нашем случае «прототипический читатель» – это ни в коем случае не литературовед или критик, но это и не «средний» читатель как коррелят «массового сознания». Это примерно тот же коллективный субъект, который выступает источником и критерием норм литературного языка, определяемого в нетерминологическом плане просто как речь культурных и образованных людей своего времени.
Иными словами, это некий обобщенный образ среднего культурного и образованного читателя, носителя культурных норм и апроприатора «культурного кода» своей эпохи, реально воплощенный в разнообразных своих проявлениях в научной и критической литературе, в преподавательской и просветительской деятельности, в редакционно-издательской политике, в средствах СМИ, в совокупности «читательских откликов» и в фонде базовых «прецедентных текстов» [Караулов 1987] культуры и пр. – т. е. в том, что можно условно именовать «культурной средой» (или «культурным пространством»), релевантной для данного периода времени.
«Прототипическому читателю» можно приписать примерно такую интегрирующую модальную рамку: ‘Люди считают, что современному культурному человеку именно так следует воспринимать художественное произведение