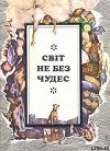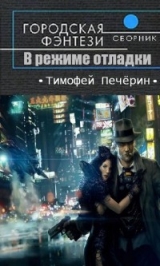
Текст книги "В режиме отладки (СИ)"
Автор книги: Тимофей Печёрин
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Ободренный этой мыслью, я потянулся было к своей жене, но она мягко отстранилась и молча показала на «говорящий» будильник. Время, мол.
– А хоть завтрак-то будет? – робко осведомился я, слегка обескураженный отказом.
– Ну ты шутник! – усмехнулась Жанна, – неужели буфет в вашем офисе закрыли?
* * *
Оглядев себя еще раз, я довольно улыбнулся. Человек, отражавшийся в огромном, высотой в стену, зеркале, мне определенно нравился. Особенно на фоне своих предыдущих версий. Даже благообразный доцент в потертом свитере, либо сером пиджаке старого покроя, казался мне теперь интеллигентным бомжем. Или бомжеватым интеллигентом, кому как нравится. Про безработного и крепко пьющего хакера-домоседа вообще говорить нечего. Равно как и про первый вариант моей жизни.
Подумать только! В бытность админом, я относился к своей внешности с почти преступным пренебрежением. Жаль, что для осознания этой «преступности» мне понадобилось прожить заново жизнь, да еще не одну. Я мог прийти на работу непричесанным, небритым, в джинсах, затертых до дыр. Еще я позволял себе дефилировать по офису в тапочках, ссылаясь на неудобство «нормальной» обуви. Классические костюмы я не любил, пиджак надевал только по праздникам, причем нередко – в комплекте с вышеупомянутыми старыми джинсами. Что касается галстуков, то эти декоративные удавки чуть ли не со школы вызывали у меня какое-то иррациональное отвращение.
Но я больше не системщик. В этой жизни я никогда им не был и вряд ли когда-нибудь стану. Я – успешный руководитель, работник солидной фирмы, и, без пяти минут, второй человек в ней. Всем своим видом я должен подчеркивать две вещи – собственную значимость и солидность компании, которую имею честь представлять. И то и другое требует усилий с моей стороны. Причем немаленьких.
Бритье (до гладкости), стрижка, требующая еженедельного обновления, кремы с лосьонами. Плюс модные лакированные туфли, которые нещадно жмут, заставляя вспомнить старый как мир императив – «красота требует жертв». И, конечно же, костюм, который должен удовлетворять двум требованиям: во-первых, сидеть на мне как влитой, а во-вторых, сам по себе выглядеть безупречно. И, разумеется, его необходимо каждодневно менять – хотя бы частично. Прийти два дня подряд в одной и той же рубашке, тем более, в одном и том же галстуке, считается преступлением на грани святотатства.
Представляю, какое впечатление производит админовская братия на людей из моего нынешнего круга. А еще я лучше стал понимать женщин с их раздражающе долгими сборами. Заботясь о внешности, как о своем основном капитале, они прилагают столько сил, что, к примеру, остановка коня на скаку на этом фоне покажется совсем уж ерундовым делом. На уровне «раз плюнуть».
Закончив сборы, я не удержался от вздоха – не то облегчения, не то удовлетворения. День только начинался, а значительная часть моих сил уже потрачена. Ну ничего, успокаивал я себя. Даже того, что осталось, должно хватить, как хватало все предыдущие дни. А если бы не хватало, разве достиг бы я своих нынешних высот?
Я подмечал все новые и новые перемены к лучшему, привнесенные в мою жизнь последней встречей с Почтальоном. На этот раз я обитал не в хрущевке и даже не в трехкомнатных апартаментах. Комнат в моей нынешней квартире было пять, однако жильцов всего двое – я и Жанна. Не сподобившись завести хотя бы одного ребенка в бытность студентами, мы тем более откладывали этот шаг по окончании учебы. Нам мешали другие приоритеты, а также другие дела. Множество других дел.
Помимо большего метража и количества комнат, моя нынешняя квартира отличалась от предыдущих более роскошным убранством. Не дикарским шиком, как в кабинете Подбельского, а рациональным, выполненным со вкусом, дизайном. Если не изменяет злодейка память, эта обстановка была сработана с немалой толикой моего личного участия. Наверное, именно стремление к триединству порядка, изящества и пользы еще в детстве потянуло меня к виртуальному миру. Своевременно предупрежденный самим собой, я успел от него отвернуться, однако само стремление никуда не делось. Оно лишь нашло воплощение в другой форме.
В качестве системного администратора я мог позволить себе всего одну машину, которой, кстати, чаще пользовалась жена. По этой причине я добирался на работу на маршрутках и автобусах. Теперь же и у меня, и у Жанны было по личному автомобилю. Мой «железный конь» представлял собой дорогой темно-синий внедорожник, терпеливо дожидавшийся своего хозяина на охраняемой парковке.
В прошлых жизнях я редко садился за руль, или не садился вообще. Но все нюансы управления автомобилем мгновенно всплыли из глубины полученной мной памяти, и мне оставалось лишь отдаться на волю инстинктам. Инстинктам, что в этом варианте жизни нарабатывались годами.
Управлять внедорожником было одно удовольствие. Мотор не шумел, автомобиль не катился, а словно скользил по трассе. Тонированные стекла не пропускали назойливых лучей восходящего солнца, а сидение было настолько мягким, что из него не хотелось вылезать.
Только за рулем этого автомобиля я почувствовал себя если не «хозяином жизни», то по крайней мере, кем-то, кто выше всей окружавшей меня суеты. С высокомерным пренебрежением я оглядывался на толпящийся у автобусных остановок народ, на пешеходов у светофора, а также на немногочисленных пикетчиков на площади перед городской администрацией. По какому поводу на сей раз собрались эти политизированные до мозга костей старики, меня не интересовало. Я ведь выше ихних заморочек.
Небольшая пробка, в которую я угодил за пару километров до офиса, немного согнала с меня спесь. Но именно немного, даром, что мой внедорожник со своими габаритами не имел шансов проскочить через этот затор. Пробка рассосалась в течение получаса, к официальному началу рабочего дня я к тому времени уже опоздал, что впрочем, не отразилось на моем настроении. Ведь, как известно, начальство никогда не опаздывает на работу. Начальство может… задержаться. А опаздывать – удел новичков да еще «вспомогательного персонала» всех мастей.
Вскоре за поворотом показалось место моей работы. Двенадцатиэтажная башня из бетона и стеклопластика; одна из многих фирм, занимающихся всем. От продажи (вернее, перепродажи) лекарств до составления рекламных плакатов. От распространения косметики до биржевых спекуляций. Свою многопрофильность такие конторы маскировали безликими трехбуквенными аббревиатурами, всякими там ЗАО и ООО, а также яркими, но ничего не значащими, названиями. Вроде «Азоры» где, я собственно, и зарабатывал себе на хлеб с икрой.
В этой «Азоре» я проработал почти десять лет. Начал с помощника начальника одного из отделов, а промаявшись в этой должности примерно три года, сам возглавил отдел. Будучи самым молодым руководителем в фирме, я насмотрелся на полные зависти и тоски глаза своих подчиненных – всех этих офисных хомячков, что, как известно, прилагают на своих местах массу усилий, чтобы не работать. А сколько раз мои кости перемывали в курилке, наивно надеясь на конфиденциальность? Нет им числа. Но я нисколько не расстраивался и, тем более, не обижался. Цель для меня была всем, а отношение окружающих ничем. Вот я и шел к своей цели, а на заморочки этих, в общем-то, чужих для меня людей, обращал не больше внимания, чем на шум воды в унитазе.
Не так давно, в году эдак позапрошлом, я стал уже заведующим сектором, проще говоря, возглавил одно из направлений деятельности «Азоры». И вот теперь мне светила должность заместителя гендиректора. А оттуда до самого гендиректорского кресла – рукой подать.
Стоянка перед офисом и раньше не могла похвастаться избытком свободного места. Теперь же она заставляла вспомнить выражение «сельди в бочке». Значительная часть площади, предоставленной под парковку автомобилей сотрудников, теперь была занята совсем другими машинами. Они не имели отношения к пожарной охране или «скорой помощи», однако были украшены мигалками. Подобного рода «гости» никогда не приезжают с добрыми вестями, так что необходимость визита других носителей мигалок (хотя бы «скорой помощи») была лишь вопросом времени.
Нервные и возбужденные сотрудники толпились на стоянке, у входа, а также в вестибюле. Кто-то с кем-то обменивался репликами, кто-то вполголоса говорил по мобильному телефону, а кто-то беззвучно плакал. Для многих этих людей сегодняшнее утро, наверное, запомнится как символ крушение надежд и целей в жизни.
Предчувствие меня не обмануло. Вскоре я увидел гендиректора «Азоры», Егора Палыча, да не одного, а в сопровождении четырех ОМОНовцев. Руки Палыча были завернуты за спину, а лицо выражало столько тоски и обреченности, что их хватило бы на целую штрафную роту.
– А-а-а, доброе утро, Марков! – оживился Палыч, увидев меня, – вот! Пропустил все веселье. По-прежнему хочешь быть моим замом? Пожалуйста! Заменишь меня в кутузке.
– Как-нибудь в другой раз, – пробормотал я вполголоса, – и… что вообще случилось?
– Что случилось? – срывающимся от нервов голосом передразнил меня генеральный, – а ты еще не понял, гаденыш? А мог бы догадаться. Сделку с казахами ведь ты просрал?
– Не может быть! – воскликнул я, судорожно перетряхивая недавно обретенную память, – мы же все подписали! На той неделе…
– Конечно! – вскричал Егор Палыч с каким-то безумным торжеством, – подписали! Что они тебе впарили, то и подписали! И ты подписал, лошара и дебилоид. Хорошие себе условия эти чурки предусмотрели. «Утром деньги, вечером стулья». А ты… Нашел кому довериться! Ну и расхлебывай теперь, замгенерального! Поздравляю! Мы банкроты, Марков, если до тебя до сих пор не дошло.
Фразу «мы банкроты» Палыч повторил еще несколько раз, пока ОМОН вел его к одной из машин с мигалками. Эти страшные слова звучали как трубы Ангелов Апокалипсиса. Кто-то из бывших сотрудников фактически уже несуществующей фирмы не выдержал и закатил истерику, оглашая окрестности потоком нецензурной брани.
А я не стал ни возмущаться, ни, тем более, чего-то ждать, в молчаливом карауле стоя рядом с бывшим местом работы. Я понимал, что истерикой делу не поможешь, и что пассивное ожидание, по сути дела, на месте преступления, не грозит ничем хорошим. Поэтому я совершил самый разумный из поступков, возможных в такой ситуации.
Я молча покинул то, что еще вчера называлось офисом фирмы «Азора». Покинул пешком, забыв внедорожник на стоянке, и на ходу стаскивая уже бесполезный галстук.
* * *
Так я вернулся к тому, с чего начал. К безработице и неизбежно предстоящему мне бракоразводному процессу с Жанной. Кто-кто, а эта гарпия не упустит возможности оттяпать от «совместно нажитого имущества» кусок пожирнее. И я снова сижу на той же скамеечке, в том же парке, что и в день первой встречи с Почтальоном. Можно вновь предаться интеллигентскому самооправданию, свалить вину на старого жулика, но… куда честнее признать, что, по крайней мере, в этом варианте своей жизни виновен я сам. Я – и больше никто.
Если подумать, то этот вариант – наихудший. Самый провальный. Даже первая, предшествовавшая встрече с Почтальоном, версия моей жизни имеет над ним ряд преимуществ. Высшее образование, приличный профессиональный опыт… Соответственно, хоть скудные, но шансы вновь попытаться найти себе место в жизни. Теперь же я потерял даже это.
Мой диплом получен по такому профилю, что его можно сразу выкидывать на помойку. Законченный мной факультет и его собратья во всевозможных ВУЗах, обеспечили страну специалистами на много лет вперед. За границей тем более нечего ловить, не говоря уж о том, насколько трудно туда попасть.
А каким «профессиональным опытом» я смогу щегольнуть перед потенциальным работодателем? Заместитель генерального директора недавно разорившейся фирмы? С такой формулировкой только у позорного столба стоять!
Да если бы даже «Азора» не разорилась, а Палыч своевременно уволил одного меня… даже в этом случае мне бы нечего было ловить на новом месте. Этого «нового места», скорее всего, просто бы не было. Кому нужен профессиональный карьерист, когда приходится экономить на действительно нужных работниках?
Даже будучи представителем «вспомогательного персонала» я имел на порядок больше шансов на новое трудоустройство. Тогда я действительно мог предложить работодателю нечто реальное и полезное. И, главное – я бы устраивался именно работать, а не лезть наверх по чужим головам. А кому, какому начальнику нужен специалист, в чьем резюме только что прямым текстом не записано: «я пришел на твое место»?
Доигрался! Вот самое подходящее слово, чтобы охарактеризовать мое нынешнее положение… Хотя воспоминания из прошлых вариантов моей жизни стремительно размывались альтернативным жизненным опытом, один момент из своей никогда не имевшей место профессиональной деятельности я не мог не припомнить в данной ситуации.
Отладка… Процесс исправления ошибок в новорожденной и еще сырой программе. Некоторые ошибки удается подметить самому, при более внимательном просмотре программного кода, но на большинство из них должен указать сам компьютер. Он и указывает – если неоднократно запускать новорожденную программу и почаще менять условия запуска.
И, что самое удивительное, от ошибок не застрахован даже высококлассный специалист. Тезис «все приходит с опытом» в программировании испытывает очень странное преломление. Профессиональный опыт программиста отходит на второй план и уступает место опыту использования конкретной программы.
Подозреваю, что такая патологическая склонность программистов к ошибкам обусловлена самой возможностью отладки. Точнее, отсутствием у вышеназванных ошибок фатальных последствий. Ведь вызывать какие-либо процессы в виртуальном мире – это не то что, скажем, атомную станцию проектировать. Хотя… применительно к своей родине я бы не зарекался. Один Чернобыль чего стоит!
Да что там АЭС! Жизнь одного отдельно взятого человека ведь тоже не программный код. Ее запускают один раз, а последствия ошибок порой бывают не менее катастрофическими, чем авария на ядерном реакторе. Но все это не мешает людям относиться к своей жизни столь же небрежно, как к софту собственного изготовления. Не то чтобы такая безалаберность была свойственна всем представителям вида Хомо якобы-Сапиенс, но… и назвать ее «редким исключением» я бы тоже не решился.
Данное обстоятельство может показаться парадоксом, даже проявлением каких-то скрытых суицидальных наклонностей, если бы не одно «но». Де-факто возможность отладки существует и в человеческой жизни, просто я сам узнал о ней не так давно.
Спасибо Главпочтамту, эту самую возможность обеспечившему. Понимаю теперь, почему я с такой готовностью поверил Почтальону. Почему-то я решил, что смогу удалить из своей жизни пусть не все, но, по крайней мере, ключевые и очевидные ошибки. Как из программного кода. И как-то запамятовал, что отладка – отнюдь не легкая забава, и что времени на нее тратится зачастую больше, чем на написание основного кода.
Вот ведь какое дело. Пресловутое тестирование, в смысле, неоднократный запуск, способно выявить лишь сам факт ошибки. Ее причину приходится устанавливать программисту. Который, будучи всего лишь человеком (причем человеком безалаберным), способен ошибаться даже в этом деле. В результате отладка имеет непредсказуемые последствия, с определенной вероятностью приводя как к устранению огрехов, так и к их нарастанию. Соответственно, возрастает и время, затрачиваемое на доведении программы до ума.
В некоторых случаях отладка добивала более-менее работоспособную, хоть и не без глюков, программу. В этом случае автор начинал писать код набело, успев предварительно пожалеть, что не создал резервную копию.
Так и я. Искал ошибки в своей жизни, что-то нашел и с энтузиазмом первых пятилеток взялся это исправлять. И доисправлялся до того, что сам готов выбросить себя на свалку. Как бракованный продукт, чья более-менее работоспособная конфигурация не была своевременно скопирована…
Приподняв смотревшую на землю голову и оглянувшись на шум приближающихся шагов, я заметил направляющегося ко мне старичка. В синей форменной фуражке и с неизменной сумкой на ремне.
– Ступай себе мимо, – проворчал я, обращаясь к нему, – ты мне больше не сможешь помочь. Разве что родителей моих предупреди… чтоб с чадом повременили. И визитку свою забери.
Нащупав в кармане кусочек картона, я бросил его на землю. Почтальон даже не оглянулся в ее сторону.
– Вы понимаете, что оказываете всем медвежью услугу? – продолжал я слегка смягчившимся тоном, – даете иллюзию, что в жизни все якобы можно исправить. И тем самым поощряете на новые ошибки. Превращаете вроде бы разумных людей в злоупотребленцев, а потом запоздало им отказываете. Если бы люди не знали о вашей услуге… или, напротив, знали, что любая ошибка фатальна…
– То ничего бы не изменилось, – неожиданно перебил меня старичок с непременной пионерской уверенностью, – если бы меня не существовало, или не было той услуги, о которой вы говорите, мир абсолютно ничем не отличался. Причем тут «знали» или «не знали»? Люди ведь и без меня много чего знают. Религиозные проповедники грозят им адскими муками, Уголовный Кодекс сулит суровые кары, а Минздрав предупреждает, предупреждает и еще раз предупреждает. Но люди все равно грешат, нарушают закон и гробят здоровье вредными привычками.
– Почему? – ни с того ни с сего спросил я.
– Может, спросите об этом у них самих? Или у себя, как типичного представителя? Подобные вопросы не в моей компетенции.
– Тогда какого черта вы вообще здесь делаете? Я же сказал – вы для меня бесполезны. Так почему вы здесь крутитесь, вместо того чтоб исчезнуть… как сон? В чем вы еще хотите меня убедить?
– Ни в чем, – отрезал Почтальон, – я здесь не для того чтобы убеждать. А по профессиональному долгу. Вы ведь Владимир Марков, так?
Я кивнул, а старичок продолжал.
– У меня для вас письмо, Владимир Марков. Примите и распишитесь.
Он протянул мне конверт, почтовый бланк и шариковую ручку. Поставив таинственный иероглиф на бланке, я разорвал конверт, адресованный мне на текущую дату. На извлеченном из конверта тетрадном листочке стояла всего одна фраза, выведенная большими буквами.
«ВЕРНИ ВСЕ КАК БЫЛО!!!»
– Верни все как было, – тупо повторил я и оглянулся на молчаливо стоящего поблизости старичка, – а разве так можно?
– Отчего же нельзя? – пожал он плечами и полез рукой в сумку. Порывшись минут пять, он извлек оттуда и представил моему изумленному взору, один за другим, три почтовых конверта. Каждый из них был адресован мне, но в разных возрастах. Школьник, студент-первокурсник, студент старших курсов…
– Не понимаю я вас, людей, – посетовал старичок ворчливо, – сперва отправляете, потом отменяете…
Его разглагольствований я уже не слушал. Судорожно схватив все три конверта и прижав их к себе дрожащими руками, я, сам того не ожидая… проснулся.
7-21 февраля 2010 г.
Задрот
Тяжелая голова с трудом поднялась над партой. Красные от недосыпа глаза вперились в подошедшую учительницу в ответ на ее недовольный окрик. Изо всех сил Валька пытался понять – зачем? Зачем его окликнули, да еще так громко? Что ей надо? И что этим всем надо – кто сидит на соседних партах?
– Ну? Кривцов, вам повторять надо? – голос учительницы звучал словно бы издалека. Словно его обладательница не стояла возле Валькиной парты, а находилась, как минимум, на другом конце класса. Конечно же, этот другой конец находился у доски – учитывая, что парта, за которой сидел Валька, была самой последней.
– Да… – это единственное и многозначительное слово составляло весь Валькин ответ. И этот ответ стал очередным испытанием для учительницы. Для нервов ее и для педагогического терпения.
– Что – «да»? – спросила она, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, – ответьте, Кривцов, вы домашнее задание сделали? И встаньте: с вами учитель говорит!
– Домашнее задание… – тупо повторил Валька, поднявшись с парты, – задание…
По классу прокатились смешки. Угодливые и с ноткой высокомерия – с первых парт; звонкие и искренние – девчонок. Что-то вроде «гы-ы-ы» донеслось с ближайших парт – от соседей Вальки по задним рядам. По галёрке, как называла заднюю часть класса учительница.
– На что вы рассчитываете, Кривцов? – вздохнув, завела она свою обычную волынку, – четверть кончается, а у вас ни одной положительной оценки! Хоть бы раз на тройку ответили. Ну ладно школа… так у вас же выпуск через три года. И чем вы думаете заниматься? Надеетесь и дальше сидеть сутками в своем Интернете?
– На порносайтах! – выкрикнули с одной из соседних парт.
– Не, если бы он сидел на порносайтах, – раздался голос другого оратора, – у него бы хоть руки были сильные. А так…
– А ты откуда знаешь?
И увещевания учительницы, и треп подпевал с соседних парт Валька выслушивал молча, стоя и слегка опустив повинную голову. Вернее, делал вид, что слушал; голову же опустил по совсем другой причине. Она просто была тяжела, а стоять так долго Кривцов не привык.
Со стороны его можно было принять за наркомана… при условии, если ты никогда не видел настоящих наркоманов – этих завсегдатаев подвалов и канализаций. Та же болезненная худоба, бледное лицо, красные глаза; тот же взгляд, отстраненный и бессмысленный. И все же в таких как Валька присутствовал какой-то налет… цивилизованности, что ли? Некое свидетельство того, что на них не наплевать хотя бы родителям.
Смех одноклассников Валька воспринимал предельно равнодушно. Как шум воды в трубах или лай бродячей собаки. На их отношение Кривцову было плевать. Не было у Вальки в классе ни друзей, ни просто хороших знакомых. Он даже по именам не всех их знал.
Не особенно заботили Вальку и учительские нотации. Во-первых, предмет Ирины Алексеевны «Человек и общество» он полагал лично для себя бесполезным – хотя бы из-за названия. Ведь человеку, который хоть и живет в обществе, но в это самое общество ну никак не вписывается, изучать оное совершенно ни к чему. Смысла нет.
Ну а во-вторых, немногим более интересным был для Вальки и реальный мир как таковой. Серые и унылые будни, опротивевший распорядок дня; даже в школу Кривцов таскался исключительно по настоянию родителей. Почти не получая знания, не общаясь, не заводя знакомств… и вообще не стремясь освоиться в этом постылом мире. Школа была повинностью для Вальки: повинностью тяжелой и осточертевшей. Добро, хоть не бесконечной – и только это радовало Вальку при мысли о граните науки.
Ну а настоящая жизнь, полная радостей и смысла… Кривцов нашел ее для себя по другую сторону монитора. И Ирина Алексеевна была не так уж далека от истины, сказав, что он-де сидит сутками в Интернете. Ну, пусть и не круглыми сутками – но уж по вечерам, плавно переходящим в ночи, а затем в утро, Валькин компьютер работал как стахановец. И соединение с глобальной сетью при этом почти не прерывалось… другое дело, что не сеть как таковая поглощала почти все свободное время Вальки.
Можно сказать даже больше: порносайты, что были упомянуты одним из одноклассников, Вальку не интересовали вовсе. Не прельщали его и так называемые социальные сети. Потому как не было у Кривцова ни прикольных фоточек, ни желания выпендриться особо оригинальным (и столь же дурацким) статусом. Общаться с друзьями? Так этих самых друзей у Вальки почти и не было. А те, что были… для общения с ними с лихвой хватало и игры.
Причем самому Вальке и в голову бы не пришло писать слово «игра» с маленькой буквы применительно к ней. «Мир воинов», на языке оригинала «World of Warriors» – именно ей Кривцов посвятил свою жизнь. Всю посвятил – правда, за вычетом времени, необходимого для утоления естественных потребностей или несения повинности общего образования.
И не только он один: в «Мире воинов» каждый человек играл против других людей, а не против тупого и бездушного искусственного интеллекта. Секрет же популярности «Мира» был прост. В параллельной реальности Игры ее участники могли почувствовать себя сильными и смелыми; могли вызывать у окружающих уважение и даже страх – а уж никак не насмешки или приступ педагогического зуда. Проще говоря, завсегдатаи «World of Warriors» получали то, чего были начисто лишены в реальной жизни. Потому и не спешили возвращаться в последнюю.
…снег хрустел под ботинками; в вечерних сумерках Валька наконец-то покинул школу и торопился домой, к своему компу.
– Эй, задрот! – окликнул его один из троих ребят, что вылезли из-за ближайшего гаража, словно из магического портала, – задрот, десятчика не будет?
Валька молча ускорил шаг, внутренне радуясь, что живет не так уж далеко от школы. В ближайшем дворе. А гаражному трио банально лень было напрягаться, преследуя очередную жертву с отнюдь не тугими карманами. Обошлись хохотом на три голоса – громким, больше похожим на звуки, издаваемые животными, чем на выражение эмоций разумного существа. Однако ж чувство долга осталось утоленным. Свое превосходство над одиноким задротом эти трое обозначили хотя бы таким вот хохотом-гоготом, а то, что сил при этом почти не потратили, и вовсе стоило считать за плюс, а не за минус.
Еще Кривцова немного позабавило прозвище, данное ему завсегдатаями гаражей и подворотен. Задрот… Не то чтобы в нем содержался какой-то намек на особенности… хм, личной жизни Вальки. Нет: скорее уж это слово указывало, с чем именно у очередных насмешников ассоциируется Валькино увлечение.
Но… наплевать! Валька не комплексовал, или, как модно стало говорить, не парился по этому поводу. Можно подумать, что проводить вечера на улице, глушить пиво с семечками и гоготать вслед одиноким прохожим – лучше. Интереснее, полезнее для жизни, для будущего. Как бы там ни было, но вот школу, например, те трое посещали от силы раз в неделю. Где чаще третировали других учеников, чем сами чему-то учились.
Разумеется, Валька и не думал высказывать все это им в лицо. Под издевательский гогот и редкие всхлипы сигнализации припаркованных неподалеку машин он, молча и отстраненно, преодолел остаток пути до дома. А затем поспешно юркнул в родной подъезд.
* * *
Сэр Валлиант, рыцарь семьдесят восьмого уровня, с головы до ног закованный в стальные доспехи, стоял посреди ярко-зеленого луга. Трава на лугу почти синхронно колыхалась – видимо от ветра, только ветра какого-то нескончаемого и дующего все время в одну и ту же сторону. По синему небу проплывали редкие белые, почти прозрачные, облака… а вот солнца, почему-то видно не было. Впрочем, сэра Валлианта не слишком заботил этот вопрос.
Рыцарь стоял, опершись на двуручный меч, и смотрел вдаль. Впереди маячила крепость орков, относительно новая: неделю назад, когда сэр Валлиант последний раз заглядывал в эти места, очередного оплота зеленокожих здесь не находилось.
Рыцарь планировал навестить эту крепость в самое ближайшее время. Если чутье не обманывало его, то засевшие там орки должны оказаться под стать ей. То есть являться совершеннейшими нубами – с коими такой опытный игрок, как Валлиант, способен сладить в одиночку и без особых хлопот. Огорчало одно: ни на какие несметные богатства в нубской крепости рассчитывать не приходилось. По определению. Не стоило раскатывать губу и на изрядную порцию очков опыта, этого фетиша всех игроков. Впрочем, даже скудный опыт лишним не бывает.
Шорох приближающихся шагов отвлек Сэра Валлианта от размышлений. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, он резко поднял меч обеими руками. И в такой вот стойке он встретил приближающуюся к нему эльфийку – довольно скудно одетую и держащую в руке тонкий, слегка извилистый, прут жезла.
Хрупкость такой противницы, бывшей, вдобавок, на голову ниже его самого, конечно же, не обманывала рыцаря. Он знал: такие как эта эльфийка, не станут тратить время на рукопашную схватку. И тоненькая длинная палочка в ее руке предназначена вовсе не для удара по голове. Нет: с ее помощью эльфийка запустит в противника молнию или подпалит траву под его ногами. Впрочем, сэр Валлиант тоже не был мальчиком для битья: как-никак семьдесят восьмой уровень.
И когда рыцарь уже готов был принять бой, экран пересекла строка «поговорить надо!» – вдобавок забитая капсом и с кучей восклицательных знаков. Сообщения подобного рода следовало рассматривать как приглашение в приват. Где сэр Валлиант снова превращался в Вальку Кривцова из восьмого «Б», а эльфийская волшебница… Она оказалась Олегом Пузыревым по кличке Пузырь. Олег учился в одной школе с Валькой и был младше его на год.
В реальности Олег был толстым и низкорослым подростком, вдобавок носящим очки с толстыми стеклами. Этими очками он был обязан, конечно же, зрению, рано и безнадежно испорченному компьютером. За свой внешний облик Пузырь подвергался в школе насмешкам и травле даже большим, чем Валька и поэтому старался прогуливать занятия по любому поводу. Даже самому пустячному. Так что за пределами игры Валька и Олег почти не пересекались; не шибко часто им приходилось общаться и в «Мире». Поэтому первой репликой Вальки в привате было не «привет!», а «че надо?».
– Ты слышал о Черном Охотнике? Он же Тень, он же Ловец Душ?
– Это что ли игрок какой-то новый, крутой нарисовался? – спросил Валька, чувствуя прилив азарта. С очередной легендой Игры разбираться всяко интересней, чем разорять логово орков-нубов. И продуктивнее, между прочим.
– И да, и нет, – пояснил Пузырь, – Охотник присутствует как персонаж в Игре… но этот персонаж не соответствует никакому живому человеку в реале. Вот! Есть учетная запись игрока, но сам игрок либо умер, либо его никогда и не существовало.
– Как это так? – не понял Кривцов, – а кто тогда им управляет? Играет за него?
– Да хрен его знает. Дело же не в том. Просто говорят, что он целенаправленно ищет других игроков… охотится на них, чтобы убить. И после встречи с ним игроки действительно погибают.
– Ну, это мы еще посмотрим, кто кого! – заявил Валька, а в реальности хищно ухмыльнулся, – у меня же семьдесят восьмой уровень. А у этого Охотника – не знаешь, какой?
– Да по фигу же! – за этой репликой последовало изображение красного анимированного смайлика.
Таким способом Олег недвусмысленно давал понять собеседнику, насколько тот надоел ему своей тупостью.
– Ты не понял! – продолжал он, лихорадочно стуча по клавишам перед своим монитором, – погибает не только игровой персонаж! Не только учетная запись! Сам игрок, в реале – тоже!
За последней репликой потянулся длиннющий хвост из восклицательных знаков – занявший весь остаток строки. А Валька, как завороженный, смотрел на эту строку, а внутри у него все холодело. От одной только фразы: «сам игрок, в реале – тоже!».