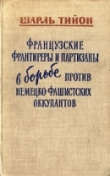Текст книги "Воля к жизни"
Автор книги: Тимофей Гнедаш
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
«Что вы знаете о местных людях?»
Около полуночи в дом снова входит Дружинин.
– Как Кривиов? Что же вы до сих пор не спите, товарищи?
Мы все сидим в одной комнате. Кривцов дремлет за перегородкой. Изредка мы обмениваемся тихими словами. Девушки пробуют что-то шить, бросают шитье, снова берутся за него, зевают от утомления, но спать не идут. Нюра в руках держит «Мцыри» Лермонтова, прочитает несколько строк, отложит книжку и долго, не мигая, смотрит на огонь. Сверчок где-то у самого потолка, словно разделяя наше настроение, то заводит свою песню, то настороженно прерывает ее, то снова неуверенно за– сверчит два – три раза, словно спрашивает: «Ну, как, можно теперь?»
– Что же вы не спите, девушки? – спрашивает Дружинин и садится на лавку. Садится с удовольствием, как человек, который много времени провел на ногах. Добрая усмешка комиссара будто говорит: «Знаю, знаю, что у вас на душе!»
– Не спится что-то, Владимир Николаевич, – отвечает Нюра. – Никак места себе не найду! Давно уже я не ночевала в доме и отвыкла как-то. Тут давят стены и потолок, больницей пахнет. В отряде веселее.
– Значит, не нравится тут?
– Не то что не нравится, а немного страшно, – отвечает Нюра, искоса посматривая на меня. – И какой я медицинский работник? Мне кажется, что в отряде я была более полезна.
– А как вы представляете себе в наших условиях медицинского работника? – спрашивает Дружинин.
– Понимаю, Владимир Николаевич, работа ответственная, но…
– А как вы представляете себе партизанского медика? Как повара в обозе или как помощника смерти?
Девушки засмеялись.
– Мы послали вас сюда не потому, что тут легче, а потому, что тут труднее, – говорит Дружинин. – В отряде вы находитесь в небольшой группе хорошо знакомых товарищей, а тут на виду у всех, среди местных людей. Вот вы утром выйдете на крыльцо, встретитесь с хозяйкой и по тому, что вы ей скажете или сделаете, селяне будут составлять свое впечатление о советских партизанах. Да и не только тут, в Березичах. Слух о том. что вы сделали, в тот же день облетит все соседние села. Тут каждая новость разносится, как по радио. Люди очень интересуются нами! Меня сегодня многие селяне спрашивали – кто эти девушки, что они у вас делают?
– А мне казалось наоборот, что народ здесь совсем другой и ничем не интересуется, – говорит Аня. – Не то что у нас. У нас как появится на селе новый человек – сразу же его окружат: «Кто, откуда?» А тут только поклонятся издалека: «Добрый день!» – и идут мимо, глаза в сторону.
– Да, люди сдержанные, но не безучастные. Они жили в таких условиях, что редко решались проявлять свой интерес. А война еще больше научила их осторожности. Но видели, как они несли все, что имели, нашим раненым? Тут народ… Вообще, товарищи, что вы знаете с местных людях?
И правда – что мы знали о местных людях? Должно быть, не очень много. Когда соединение шло в рейд с Черниговщины на Волынь, политотдел напечатал в походной типографии брошюру о западноукраинских селянах, о быте, экономике и политическом прошлом этого края, в котором мы находимся сейчас. Брошюру эту прочитал каждый боец. Политические руководители проводили беседы. Но до этого времени нам не часто приходилось бывать по селам. Я помнил, прочитавши книгу, изданную политотделом, что селяне здесь, в западных областях, довольно религиозные, очень почтительны к старикам. Кое-что я видел и наблюдал, когда пробирался селами, но можно ли сказать, что я уже знаю народ?
– Тут очень бедно живут, – говорит Аня. – Сразу бросается в глаза, что не только дети, молодежь, но и старые люди ходят босиком.
– Тут мало земли, кругом леса, – говорит Нюра.
– И земля плохая…
– Дело не только в том, что она плохая. И такой земли они не имели.
– Всюду панские имения, – вспоминаю я рассказ Стефана.
– Да, – говорит Дружинин, – у помещиков были тысячи гектаров, а у селян одна четвертая, даже одна шестая гектара на всю семью. Многие из хлеборобов были совсем безлошадные и без земли. Некоторые имели одну лошадь, один воз да плужок на деревянных колесах на два – три хозяйства.
Когда в 1939 году Красная Армия впервые пришли сюда. – продолжал комиссар, – и распределила панские поля между селянами, люди падали на землю, плакали и целовали ее. Они веками ходили по чужой земле, рождались на чужой земле, собственно, не на чужой, а на той, которую у них отобрали. Жили словно в воздухе. И когда советская власть вернула им родную их землю, они боялись поверить своему счастью. Пахали оглядываясь. А тут фашистское нашествие, и снова помещики. Но вот приходим мы, партизаны, опять возвращаем землю селянам, восстанавливаем советскую власть в тылу у врага, справедливость. Как же народу не интересоваться нами? Как только приезжаешь в село, на тысячи вопросов приходится отвечать. И вас, когда ближе познакомятся, будут расспрашивать обо всем. И на все вам придется отвечать.
Дружинин внимательно посмотрел на девушек.
– Вообще вам, медицинским работникам, чаше придется встречаться с населением, чем, скажем, подрывникам. Глядя на вас, селяне будут судить: кто такие партизаны, советские люди? Вы тут, на селе, политический авангард соединения. А разве это маленькая ответственность?
Воля к жизни
Не было часа, когда я смог бы заставить себя не думать о раненых и больных, оставшихся в госпитале под наблюдением Свентицкого.
К тому времени у меня окончательно определилось отношение к нему и как к человеку, и как к врачу. Он действительно ненавидел гитлеровцев и, насколько мог, добросовестно работал в нашу пользу. Преодолевая усталость, шел к раненым и больным, внимательно выслушивал и осматривал их. Но даже в самой этой внимательности было нечто чуждое нам – советским людям. Каждый больной может очень много рассказать о своих болезненных ощущениях. Свентицкий, как никто из нас, умел слушать рассказы о недомоганиях. Он не только внимателен к раненым партизанам, он любезен, я бы даже сказал – изысканно любезен. Там, где надо было бы сказать: «Ничего страшного у вас нет, через две недели будете на ногах» – Свентицкий осматривает больного с глубокомысленным, многозначительным видом, и на лице его написано: «О, да! Это сложный, серьезный случай!» Прикосновения его к больному настолько деликатны, словно больной – хрупкое создание, вроде комара, и его можно смять одним неосторожным движением пальца. Слушая больного, старик кивает головой с соболезнующим видом: «Так-так!» И в этом «так» слышится: «Ах, какое несчастье!»
Эта манера нянчиться с болезнью, преувеличенное «уважение» к болезни вызывает неловкость и у меня, и у Кривцова. Раненые вначале живо откликаются на вопросы Свентицкого, радуясь случаю наговориться досыта о своих недомоганиях. Но скоро становятся угрюмыми, несловоохотливыми, им становится стыдно за себя, за свою слабость, и, вместе с тем, тревога их растет. Мысли их сосредоточены на болезни. А Свентицкий, слишком подробно поговорив с двумя – тремя ранеными, не успевает заняться остальными, и нам с Кривцовым приходится брать на себя его долю работы.
Откуда эта преувеличенно-слащавая любезность и неумение спланировать свою работу? От излишней чувствительности, от мягкости характера? О, нет! Я видел впоследствии такой стиль работы и у других врачей капиталистических стран. Они привыкли быть врачами для немногих. Они привыкли к мысли, что главное – не излечить болезнь, а угодить больному, бесцеремонно и любовно сосредоточенному на своих страданиях. Вместо того чтобы яростно ополчиться против болезни, эти врачи цацкаются с нею! Даже у лучших из них есть нечто лакейское, торгашеское в стиле их работы. Они привыкли не торопиться возвращать в строй своих больных. Наоборот! Ведь, чем больше «визитов», тем больше «гонорара». Этот стиль работы входит в кровь, становится привычкой, второй натурой, и дает себя чувствовать даже тогда, когда сам врач уже хочет от него освободиться.
Раздражали меня и консерватизм, научная робость Свентицкого. Я часто применял в нашем партизанском госпитале глухую гипсовую повязку в случаях тяжелых ранений с огнестрельными переломами бедра. Мы накладывали гипс непосредственно на рану, без всяких ратных прокладок, и я не снимал повязки до тех пор, пока кости не срастались. За все время моей работы у партизан не было ни одного случая, когда глухая гипсовая повязка не сыграла бы своей положительной роли в лечении раненых. Она спасала людей, уменьшала их страдания. Но Свентицкий испытывал неистребимый страх перед гипсовой повязкой.
– Это колоссальный риск! – говорил он. – Вы не можете видеть, что делается под гипсом. Нужно хотя бы прорезать окно в повязке, чтобы следить за раной…
– Зачем же лишний раз тревожить рану? И чего вы опасаетесь? Развития инфекции под гипсом? Но чтобы этого не случилось, надо тщательно обрабатывать рану, удалять из нее все посторонние предметы, омертвевшие ткани, а затем внимательно следить за самочувствием раненого.
– А откуда у вас может быть абсолютная уверенность, что в ране ничего не осталось? – возражает Свентицкий.
– Выдающийся советский хирург Сергей Сергеевич Юдин и его ученики применяли и применяют сейчас глухую гипсовую повязку во множестве случаев с огромным успехом, – отвечаю я.
– В заграничных клиниках этого нет.
– Но, Леонид Станиславович, почему вы уверены, что эти клиники лучшие в мире?
Свентицкий обиженно замолкает. Он врач с долгой практикой, с хорошей памятью, умело ставит диагнозы, и все же я тревожусь, когда приходится хотя бы на час оставлять на него раненых. Тем более на несколько дней! Чувствую большое волнение, подъезжая к нашему лесному госпиталю. Как будто целую вечность я уже не был здесь! Словно в дом родной возвращаюсь наконец.
Перехожу от койки к койке, от воза к возу. Все в порядке! Верило, Орлов, Полынь, Зубков, Москальцов, Стройнов – раненые, поступившие в госпиталь с тяжелыми осложнениями, с отеками, остеомиелитами, после тщательно проведенных операций чувствуют себя с каждым днем все лучше и лучше. Лица их свежеют, питаются они прекрасно, аппетит хорош на чистом лесном воздухе.
Шевченко и Горобец делают для исцеления больных не меньше, а пожалуй, и больше иного врача. Политрук и старшина всегда около раненых. Напрасно я волновался в Березичах. Пока коммунисты санчасти, наша маленькая, но сплоченная партийная организация на месте – ни один раненый не останется без ухода. Достаточно на полчаса опоздать на дежурство какой-либо сестре из отряда, Шевченко и Горобец бьют тревогу.
Федоров каждый день обходит больных и раненых. Он знает, кому из них лучше, что они сегодня ели, какое настроение у каждого. И никто из больных не вызывает опасений у командира. Никто, кроме Кривцова.
– Как Кривцов? – таковы первые слова, какие я слышу от Алексея Федоровича.
И я уже томлюсь вдали от Миши. Мне кажется – целая вечность прошла с тех пор, как я уехал от него. Не могу ждать утра. Ночью в темноте еду обратно в Березичи.
Кривцов слаб. Он с трудом поднимает свои исхудавшие руки. Вот Нюра на одну только минуту отошла от него, и он упрекает ее:
– Нюра, что же вы меня бросили!..
И тут же подшучивает над собой:
– Трудно с тяжело раненными, правда, Нюра? Капризный народ!
У него болят руки, ноги, и иногда он просит дежурную сестру:
– Потяните меня за руки. Они у меня совсем онемели.
Нюра привезла с собой вторую книгу «Анны Карениной». Кривцов часто просит:
– Почитайте мне вслух.
Нюра читает вслух. Корова мычит за окном.
– Нюра! – встрепенувшись, говорит Михаил Васильевич, – пожалуйста, подведите корову к окну, я хочу ее посмотреть.
Даже в капризах Миши чувствую его волю к выздоровлению. Безделье тяготит его. Преодолевая слабость и боль, он рассказывает сестрам о своих студенческих годах в Ленинграде. Я уверен, что Миша пойдет на поправку. Но на основании одних только предчувствий не имею права обнадеживать ни себя, ни других. На все вопросы Дружинина отвечаю:
– Пока ничего определенного сказать нельзя.
С волнением жду пятого дня после операции, когда инфекция разыгрывается особенно бурно. На перевязках постепенно вынимаю тампоны из раны Кривцова.
Вот и пятый день подошел. Аппетит у Миши нормальный. Температура повышена, но слегка. Предчувствия мои вырастают в радостную уверенность. Кривцов будет жить.
Что спасло его в таких тяжелых условиях? Может быть, то, что рана оставалась открытой? Может быть, слабость инфекции здесь, в деревенской глуши, среди сплошных лесов? А может быть, и то, что всем нам от всего сердца хотелось и обязательно нужно было, чтобы он остался жить. Он видел это, знал, и это укрепляло его волю к жизни.
В гостях у кумы
Кривцов поправляется, однако нести его в госпиталь пока нельзя. Мы остаемся в Березичах. Каждое утро в светелке хаты принимаем больных. Их становится все больше и больше. Многие приезжают из дальних сел.
Во время приема сестры наши сдержанны, молчаливы. Иной раз только заметишь, как побледнеет Нюра или как дрогнут у Ани губы при виде больного. После приема девушки дают волю своим чувствам. У Ани слезы на глазах:
– Тимофей Константинович, смотреть невозможно! До чего же это их немцу и паны довели!
Нам приносят бледных детей с просвечивающей кожей. с мягкими ногтями. Приходят взрослые в лохмотьях, кишащих насекомыми, с кровавыми расчесами на груди и боках, со струпьями на голове. У многих нет смены белья, а у иных и одной рубашки нет. Пыльная грубошерстная, заплатанная свитка надета на голое тело.
Нашим девушкам, выросшим в советской, колхозной Деревне, и не снилась такая нищета.
– В школе я читала много книг о крепостном праве, но не могла представить себе ничего подобного! – говорит Аня.
Владимир Николаевич, приезжая в Березичи, подолгу беседует с крестьянами. Они приходят к нему, и он заходит к ним в хаты.
– Не все больные решаются идти к вам на прием, – говорит Дружинин. – Некоторые стыдятся своей бедности, своих болезней. Не мешало бы пройти по хатам.
И вот мы идем по хатам. Земляные полы, черные, закопченные стены, низкие потолки. В одном из домов тяжелый запах мертвецкой охватывает нас у порога. Женщина, раненная в руку осколком авиабомбы, лежит в постели, рука ее, замотанная грязными тряпками, почернела. Вызываю санитаров с носилками нести больную на операцию.
Мы кладем ее на носилки, она спрашивает:
– Куда вы мене?
– Будем вас лечить…
– Не надо! У меня немае грошей заплатить за ликування.
В другой хате находим кучу полуголых, грязных ребятишек с опухшими лицами, руками и ногами. Нажмешь пальцем на ручонку – и остается ямка на теле, долго не заполняется. Среди пастозных детей девочка четырех лет – до сих пор она не умеет ходить, передвигается ползком.
– Що им исты – картопля, сама картопля и в зиму и летом, а то и картопли немае, – жалуется мать.
– А хлеб?
– Де его узяты! Було у нас з чоловиком два морга при панах и тоди дуже мало видали хлиба. Як пришли Советы, дали нам панську землю, стало шесть моргов у нас. Один год за всю нашу жизнь поели досыта хлеба. А потом пришли немцы, а с ними паны и Бендера, чоловика моего вбили и землю забрали. Теперь знов пришла советская, партизанская влада, знов дали землю, та де ж мени орати, сняты, як така забота на меня? Сама, скризь сама! Куда я пийду от них?
– А. яслей у вас нет в селе? – наивно спрашивает Аня.
– Яких таких яслей?
Однажды в центре села иду мимо маленькой хатки и вижу, как на току у навеса молотят цепами. Молотит беременная женщина. Захожу во двор:
– Здравствуйте!
– День добрый!
– Дайте мени ваш цип, будьте ласковы, – прошу я у молодицы.
Нерешительно и смущенно она отдает цеп. Подлаживаясь в такт, начинаю молотить. Молотим коноплю втроем: босой мужчина, пожилая женщина, тоже босая, и я.
Дети, шедшие за мной по улице, стоят у плетня и громко перешептываются:
– Молотит!
Так проходит в молчании несколько минут. Старик в белой рубашке ниже колен выходит из дому:
– Пан доктор, зайдите, отдохните, погуляйте з нами.
Вхожу в хату. Женщины суетятся, накрывают на стол.
Бегут к соседям за самогонкой, за посудой.
Низкая, темная хата с земляным полом. Большая русская печь с выступом для лучины. На гвоздике висит засаленная шерстяная шляпа с широкими полями – брыль. Босая старуха стоит около стола. Голова ее трясется. Но и бабушка хочет помогать принимать гостя. Темной, иссохшей рукой подвигает она ко мне тарелки, кланяется, приглашает:
– Кушайте, будьте ласковы!
Выпиваем со стариком и молодым человеком по чашке самогонки, закусываем квашеной капустой. Несут пирог, кашу с молоком.
– Извиняйте, пожалуйста, нет у нас других ложек.
– У моих родителей тоже были только деревянные ложки…
Спрашиваю молодого человека:
– Це ваша жинка?
– Эге!..
– Не надо, щоб она молотила. В ее состоянии то дуже вредно. При советской власти у нас женщины получают отдых от тяжелой работы и до родов и после родов.
– То в городах, – говорит старик, сидящий на почетном месте под иконой.
– Нет, теперь и в колхозных деревнях так же.
– У нас в семье того не может быть, – возражает старик. – Партизаны дали на нашу семью двенадцать моргов панськой земли, тут неподалеку за Стоходом, где бились позавчера, где клуня горела. А мужчина у нас на всю семью один – сын мой Гринько. Кто ж буде робыть, як не женщины? Я вже старый, ходить и то ледве-ледве можу.
Выпив с нами чарку, раскрасневшись и осмелев, молодица спрашивает меня:
– А у вас кто молотит, когда жинки болеют?..
– У нас теперь в колхозах цепами не молотят.
– А чем?
– Комбайнами… Молотилками…
– А це шо таке?
Объясняю, что такое комбайн, и спрашиваю молодицу:
– Как вас зовут?
Она смеется:
– Татьяна.
У нее милое круглое лицо. Волосы зачесаны на прямой пробор, белый платочек повязан «домиком», защипнут острым уголком над пробором.
– Дытына буде перва у вас?
– Перва.
– Як хочете назвать?
– Як буде дочка, – назовем Ольгой. А сын, – ще не знаем як. Приходите к нам на крестины.
– Добре, добре, обязательно прийду. Буду вашим кумом. Як то поется? – вспоминаю я слышанную в молодости полузабытую песню:
…И вода гуде,
А то кум до кумы
Борозенькой иде!!
Старик, размахивая рукой, подхватывает:
Кумочка и голубочка,
Свари мени судака,
Моя любочка!..
На другой день посылаю Аню проведать Татьяну. Аня рассказывает, вернувшись:
– Чувствует себя хорошо.
– Молотит?
– Нет. сегодня не заставляли.
Еще через день снова посылаю Аню проведать «куму». Аня возвращается быстро:
– Начались предродовые схватки.
Захватываем с собой все необходимое, идем принимать роды. Таня рожает трудно. В полночь принимаем девочку.
– Ольга появилась на свет!..
Рассказываю роженице, как кормить ребенка, как ухаживать за грудью. Утром Нюра идет к Татьяне, относит ей йод, марганец, бинты. После приема больных спешу к «куме».
Темно, неприглядно в хате. Курица ходит по земляному полу. Лики святых мрачно глядят с иконостаса. Тараканы шуршат по стенам. На низких дощатых нарах, на куче тряпья лежит Таня, качает за веревку люльку, подвешенную к потолку, и напевает: «Ходыть хлоп за рикой…»
– Таня, не надо трясти колыску. Так дитя закачивается и буде хворить.
Она послушно перестает качать люльку, берет дочь, прижимает ее к груди.
Босая старуха стоит около нас с трясущейся головой:
– Так-так! Так-так!
Непонятно – осуждает она меня или соглашается со мной. Скорее всего, плохо слышит и не совсем ясно понимает, о чем мы говорим.
Кондратюк и его корова
Наших девушек в Березичах называют «панянками». Интерес к ним огромный. Как это так: «образованные барышни», «помощницы доктора» и не гнушаются простой, черной работы, умело и быстро разжигают костры, стирают белье, моют полы. Ходят по хатам, обмывают, перевязывают больных, возятся с чужими детишками.
Вечер. Месяц поднимается над Стоходом. Сижу у раскрытого окна. Поля Глазок дежурит около Кривцова. Аня и Нюра на крыльце дома, окруженные юношами и девушками.
– И школа у самой вашей деревни? – спрашивает хлопец с любопытством.
– У самой деревни…
– А що робите литом, якщо нет занятий?
– А летом делаем дома то же, что и все – ходим на поле, в колхозе работаем. На огороде помогаешь маме, корову доишь.
– А сколько платить треба у школу?
– Ничего…
– Як ничего? Як то может буть?!
В головах местных селян не укладывается мысль о том, что образование и лечение могут быть бесплатными. Немецкие, австрийские чиновники и польские паны испокон века драли по восемь шкур с западноукраинского крестьянина. Выходил крестьянин собирать сухие ветки в лесу – плати. Проехал по мостовой – плати. Хочешь сделать операцию – веди быка. Мечтаешь учиться – припасай стадо волов. Держишь собаку, кошку – плати. Лишняя дымоходная труба – плати. Прорезал лишнее окно в хате – плати.
Больную из Угриничей, после вскрытия околопочечного абсцесса, муж каждый день привозит на перевязку. Больная быстро поправляется, ходит без посторонней помощи, с аппетитом ест. Муж прямо-таки не знает, как выразить свою радость:
– Я так считал, что она уже не встанет и дети будут сиротами. Вы, пан доктор, ее спасли. Я вас не забуду.
Вот он опять приезжает вечером без жены.
– Доктор, пойдемте со мной, я вас прошу, – вызывает он меня на улицу.
К задку его фурманки привязана корова.
– Это вам, – значительно говорит он.
– Що вы! – восклицаю я. – То для чого? Ведите ее обратно до дому. Вашим детям она нужнее.
Крестьянин бледнеет.
– Пан доктор, вы меня обижаете!
– Но у нас, советских врачей, это не принято. Мы помогаем людям бесплатно. Я только выполняю свой долг.
– Я не богатый человек, но я люблю справедливость. Мы все должны поступать по справедливости.
Он, вероятно, несколько ночей не спал, прежде чем решился отдать мне корову. И отнестись небрежно к его порыву – значит в самом деле обидеть его. Что делать?
– Я вас от всего сердца благодарю. Но принять ваш подарок не могу, не имею права. Мы – партизаны, мы пришли сюда не наживаться, а помогать народу. И лекарства, и бинты, это тоже не мое, это государство дает нам бесплатно, чтобы мы помогали вам.
Крестьянин молчит, сжав в руке веревку. Мы стоим посреди улицы. На мое счастье, Дружинин выходит из соседней хаты.
– Владимир Николаевич! – зову я на помощь.
Выслушав в чем дело, Дружинин спрашивает селянина:
– Скажить мени, будьте ласка, як вас зовуть?
– Кондратюк. Гнат Петрович Кондратюк…
– Гнат Петрович, як до нимцив була у вас радянська влада, давали бедноте коров?
– Да, то було.
– Мы тысячи коров тогда роздали бедноте, потому что есть у нас советский закон – помочь бедняку иметь корову. И вот мы вернемось з войны, и нас спросят: «Що вы зробыли там, як вы теперь у вийну допомогали селянам?» И що мы скажемо? Це не один доктор, то вся радянська влада допомогает вам, выполняючи свой закон.