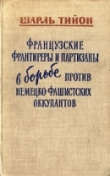Текст книги "Воля к жизни"
Автор книги: Тимофей Гнедаш
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Ночные беседы
Операции, перевязки, обход больных, лекции на курсах сестер, научно-практические конференции… Таковы будни медицинской службы в партизанском отряде.
Сестра, сменившаяся с дежурства, стирает под дубом около костра окровавленные бинты. Прибегает Зелик Абрамович, озабоченно сообщает: скоро кончается сулема! Хозяйственные хлопоты с утра до темной ночи. В одиннадцать вечера идем слушать радио, последнюю сводку. А потом… потом нужно бы спать, но столько мыслей и чувств возникает за день! Радиосообщения о наступлении нашей армии, об освобождении Украины так волнуют, что спать обычно еще не хочется.
Неподалеку от кухонных костров заботами Георгия Ивановича сооружены длинный стол и скамьи. За этим столом мы, работники санчасти, обедаем и ужинаем. А ночью, после радиопередач, собираемся по двое, по трое и говорим негромко о самом задушевном, о чем не было времени беседовать в течение дня.
Георгий Иванович коммунист. Так же, как политрука Шевченко, его волнует все, что происходит у нас в санчасти. Горобец знает о моих спорах со Свентицким, о сестрах, о «науке под сосной» и радуется успехам в лечении раненых, радуется успехам наших девушек.
– Давно, еще в двадцатых годах, мы в Черноморском торговом флоте стали обучать женщин работе на кораблях, – рассказывает Горобец. – Я плавал тогда механиком и мне поручили подготовить девушку Лену на помощника механика. То были «первые ласточки» во флоте. Многие старые моряки плевались от возмущения: «Баба на корабле!.. Баба – механик!.. Со дня сотворения мира не было такого». А мы готовили девушек; после Лены я обучал, не помню кого, кажется, Аню, потом Полю, Нину. Некоторые из них года через три самостоятельно работали уже не помощниками, а механиками. И у нас быстро привыкли к этому, а «морские волки» старого времени скоро замолчали. Но зато когда попадешь в заграничные Порты, ОТ история! Сотни Людей сбегаются смотреть на наших девушек-механиков! Я думаю, когда Колумб добрался до Америки, вот так же индейиы сбегались бачить паруса, якоря, ружья. В итальянских, в английских портах, в Константинополе, в африканских портах часами стояли люди и дивились на наших девчат, рот разинув. Помню, в Нью-Кестле один помощник штурмана – англичанин причипивсь до мене: «Бьемся об заклад – то у вас не женщина, а либо переодетый парень, или урод от рождения». Так они это понимают!..
Мише Кривцову и ночью не дают спать операции, в которых он участвует днем. Он будет хорошим хирургом. Он думает. Иной раз я замечаю, как он ходит где– нибудь на поляне и, шевеля пальцем, бормочет что-то про себя, словно сочиняет стихи… Нередко ночью, среди совершенно других разговоров, Кривцов вдруг спрашивает меня:
– Тимофей Константинович, почему вы вскрыли у Колесниченко так широко рану?
– Чтобы избежать общего сепсиса. Советую и вам, Михаил Васильевич, так всегда делать. Иной хирург видит – рана пустяковая, кость не задета, крохотное входное отверстие, маленькое выходное и крови почти не вышло Ну что же, думает, смазать йодом, засыпать стрептоцидом оба отверстия, перевязать. Но гноеродные бактерии не на поверхности раны, а внутри, внесены туда пулей или осколком, и будут размножаться в закрытой камере, как в мешке. Чтобы этого не случилось, прежде всего вскрывайте рану широко, освобождайте ее от омертвевших тканей, дренируйте ее хорошо, чтобы не было затеков. Обязательно делайте контрапертуру. Не создавайте «уюта» для инфекции…
– Скажите, товарищи, долго ли так будет? Долго ли нам воевать одним? – говорит с возмущением Зелик Абрамович. – И это называется союзники! Сколько еще можно ждать? Я вам скажу – они откроют второй фронт тогда, когда настанет время делить трофеи…
– Сталин сказал, что второй фронт – это мы, партизаны, – замечает Шевченко.
– Но чего ждут их руководители? – продолжает с негодованием Зелик Абрамович. – Ведь не все же там коммерсанты? Я читал речи Рузвельта, по-моему, он порядочный человек.
– Может быть, он и порядочный человек, но он капитан, а не хозяин капиталистического корабля и не всегда может плыть туда, куда ему хочется, – объясняет Горобец.
Свентинкий обычно не участвует в наших ночных разговорах. Даже радио он ходит слушать не каждый вечер. Он сильно устает и рано ложится спать. В самом деле, несколько десятков больных в день – нагрузка непривычная для него. Хороший ходок, он жалуется на боль в ногах и в руках. Он как-то вянет, становится малоразговорчивым, ходит небритый, незастегнутый, все чаще говорит о еде, но теряет аппетит. Пища ему кажется однообразной и невкусной…
– У меня была Тарасовна – старуха, если бы вы только знали, как она готовила соусы из почек, рыбу фаршированную, слоеные пирожки!.. Впрочем, все это теперь ни к чему, – со вздохом вспоминает Свентинкий.
Однажды в темную ночь сижу и слушаю, как шумит лес. Вчера ночью волки украли с воза Георгия Ивановича двух овец. Но легкое потрескивание в чаще уже не кажется страшным, как в первые дни. И мрак не смущает– все на свете может войти в привычку. В темном лесу, постоянно окруженные жестоким врагом, люди ходят, будто в своей квартире. Вот сейчас кто-то идет ко мне. Свентицкий. Почему он не спит так поздно? Сегодня его вызывали в штаб. Что там ему сказали такого, что он ночью не спит? Старик садится на скамью рядом со мной.
– Не спится, Леонид Станиславович?
– Да, не спится. Скверно на душе. Получил сегодня неприятную записку от знакомого из Ковеля. Немцы узнали, что я работаю у партизан. Как они могли это узнать? Забрали все, что было в моей квартире, арестовали Тарасовну.
– А ваши родные?
– У меня не осталось родных. Был брат, он умер у них в концентрационном лагере. Был я когда-то женат, но детей нет. Мне ничего не жалко сейчас, только книги. У меня была прекрасная библиотека…
– А ваши друзья, знакомые, не пострадают они? Больные, которых вы лечили?
– Кого мне вспоминать? У меня был не так давно больной, нельзя сказать чтобы богатый человек, так, среднего достатка, домовладелец, торговец. Заболел раком пищевода Ездил со своей болезнью в Белосток, в Варшаву, к знаменитым профессорам. Они ему говорили: болезнь сложная, приезжайте еще через некоторое время, понаблюдаем. Вытянули из него кучу денег. Наконец это ему надоело. Ослабел, есть почти не мог. Распорядился, кроме меня и сиделки, никого к нему не допускать. У него была комната с узкой дверью, он перебрался туда с расчетом – в эту дверь гроб не пройдет. В последние недели жизни требовал от сиделки, чтобы она днем и ночью держала его за палец. Дом у него был хороший, он жалел, что дом остается чужим людям, и с трудом, с великим трудом садился в своей комнате на кровати и плевал на стены Мне плохо, пусть же и всем будет плохо! Ничего тип, а? Он часто даже снится мне. Так вот, приятно ли вспоминать о таком больном?
Свентицкий вздохнул, поежился и продолжал:
– А коллеги-врачи? Вы не можете этого понять, у вас, в Советском Союзе, врачей не хватает. А у нас на каждое вакантное место было пять – шесть, иногда и десять кандидатов. Представляете себе борьбу за существование? Во всем Ковеле, кроме брата, был только один человек, с которым я мог говорить более или менее откровенно.
Через несколько дней после этой беседы со Свентицким меня вызвали в первом часу ночи к командиру. Я уже засыпал. Встаю, поспешно одеваюсь, пробираюсь ощупью среди деревьев. В палатке Федорова музыка, смех, горят свечи. Палатка замаскирована сверху и с боков огромными кусками коры берез и лиственницы. Вижу Федорова, Дружинина, еще несколько человек.
– Садитесь, Тимофей Константинович. Что будете есть? Вареники? Картоплю?
Федоров наливает мне полкружки крепчайшего самогона.
– Не много будет, Алексей Федорович?
– Ничего. Я отвечаю. Знаете такую песню: «По пыльной дороге телега несется»? Нет? Ну, давайте украинскую… «В конци гребли шумлять вербы, що я насадыла»…
Под аккомпанемент баяна и скрипки мы поем, шутим, выпиваем, закусываем. Замечаю, что, подливая мне, Федоров и Дружинин только пригубливают свои чашки.
– Э, Алексей Федорович, это не честно!..
А до вас?.. Вы ж только пришли, а Сколько мы тут до вас сидели?
«…А за нею козаченько веде коней напувать».
Так проходит полчаса. Вдруг Федоров, наклонив ко мне разгоряченное, смеющееся лицо с блестящими глазами, спрашивает:
– Тимофей Константинович, а как складываются у вас отношения со Свентицким. Не кажется ли вам, что вы держитесь с ним чересчур официально? Я не хочу сказать, что вы обижаете или затираете его, но не кажется ли вам, что вы держитесь с ним слишком сухо, натянуто?..
– Алексей Федорович, я не люблю и не умею дипломатничать!
– Зачем дипломатничать? Это ни к чему. Я также враг дипломатничанья. Считаю, что душевный, сердечный подход к человеку – это прежде всего. Вы и не дипломатничайте, а прямо, открыто подойдите к нему, отрешившись от личных антипатий. Широко, по-партийному подойдите к нему. Западный интеллигент, на пушечный выстрел далекий от коммунизма, добросовестно работает с нами… Это требует большого мужества. Ему гораздо больше приходится преодолевать в себе, чем нам с вами.
– Конечно, он чудак! – смеется Федоров. – До вашего приезда часто приходил ко мне в палатку, рассказывал, как обидели его немцы, как он ездил до войны по западным столицам, несколько раз похвастался тем, что видел самого датского короля, игравшего в теннис! Это ему глубоко запало в душу, ему кажется, что он при крупном событии присутствовал – датского короля видел. Надо, чтобы человеку было куда пойти, с кем-то поделиться.
– Он похож на великовозрастного гимназиста, – сдержанно усмехаясь, говорит Дружинин.
– Мне кажется, я не чуждаюсь его. Вот только на днях был с ним откровенный разговор, – отвечаю я.
– Вот так и подойдите к нему. Открыто. Не бойтесь, что вы уроните этим достоинство советского врача. А полезного, нужного нам человека поддержите.
– Это он вам правду сказал, что среди его коллег на Западе нет товарищеской среды, – продолжает Дружинин. – У них была отчаянная конкуренция, вечная грызня и ненависть. Жили, как пауки в банке. Старались оклеветать, ошельмовать друг друга. Покупали и перекупали друг у друга практику.
– Я вам скажу по своему опыту, – снова заговорил Федоров. – Мне пришлось в первый год войны побывать в тяжелых переплетах, месяцами скитаться по оккупированной территории. И вот что я увидел в этих скитаниях: достойных людей на свете неизмеримо больше, чем мерзавцев. Конечно, попадаются подлецы даже и среди тех, кто были в большом доверии, но это единицы, редкие единицы! Гораздо чаще бывало так: человек как будто ничего особенного собой не представлял, имел и слабости и ошибки, может быть, и не малые ошибки в прошлом, а приходила минута последнего испытания – и он вел себя как герой! Так и здесь, на Волыни. Уж лучше ошибиться в излишнем доверии, чем несправедливо оттолкнуть от себя человека.
Политрук Шевченко
Темная сентябрьская ночь. Не спится. Верчусь на соломенном ложе, потом зажигаю свечу и при ее изменчивом свете читаю еще раз, от начала до конца, последний номер «Правды», который дошел до нас.
Гречка хорошо замаскировал мою палатку сверху и с боков. В ней тепло, ветер не продувает, но все звуки ночи доносятся беспрепятственно. Вот хрустнула ветка, вот какой-то странный звук разносится по лесу, словно спросонок тревожно вскрикнула птица. Не условный ли это знак, которым перекликаются наши часовые?
Трещат ветки. Кто-то идет по лесу. Останавливаются. Слышен тихий разговор. Вот выразительный голос Кривцова:
– Лучше Ленинграда города на свете нет. В белые ночи, еще студентами, выйдем, бывало, на набережные и до утра не хочется спать. Город как-будто прозрачный – дома, памятники… Больно подумать, что с ним теперь. Какие разрушения, сколько людей погибло. Не скоро там наладится жизнь. А все-таки после войны мне больше всего хотелось бы жить в Ленинграде…
– А мне хотелось бы работать после войны на Украине, – слышится голос Шевченко. – Москва, Ленинград– там хорошо пожить месяц-другой. Конечно, это гордость наша! Если бы я был научным работником, врачом, инженером, я, возможно, как и вы, мечтал бы о большом городе. Но я агроном. К тому же больше всего люблю Украину. Вы бывали до войны в Чернигове, в Сумах? Я сам селянин. Когда еще учился в школе, видел нищету и понимаю, что значит для человека кусок хлеба. А теперь, во время войны, сколько мы увидели тяжелого! Смерть – это не самое страшное. Вот когда заходишь в дом и видишь кучу бледных, опухших, едва передвигающих ноги детей и мать, которая не знает, чем их кормить, так как в огороде не только всю молодую картошку выкопали, но и лебеду пообрывали и съели, и дети смотрят на тебя огромными глазами и то ли просят, то ли боятся, а отца уже нет – убили немцы, – вот это видеть больнее и страшнее смерти. – Тихий голос Шевченко дрожит от волнения. – Помните, Михаил Васильевич, слова Некрасова: «В мире есть царь, этот царь беспощаден. Голод – названье ему».
Я еще со школьной скамьи помню эти строки. А перед войной многие забыли эти слова. Было все. Все, что только нужно человеку, дешево, доступно каждому. Вот такие девушки, как Аня, Нюра, они не знали, что такое нищета. И вдруг война…
Шевченко умолк, но вскоре продолжал:
– Хуже всего, когда человек утрачивает перспективу. Вот вчера вы перевязывали Самойленко, и он сказал: «И двадцать лет теперь не хватит, чтобы восстановить здоровье». Конечно, Самойленко особенно трудно без ноги. Но плохо и позорно для нас, если раненый поддается такому настроению. Почему, кто сказал – двадцать лет?.. Мы стали сильнее и умнее, чем до войны. И вот увидите – добьемся победы и через одну – две пятилетки все наверстаем и будем жить еще лучше.
Глава третья
Кривцов ранен

К осени 1943 года подрывники нашего соединения взорвали более трехсот немецких эшелонов. На четырех дорогах Ковельского узла движение вражеских поездов резко сократилось, а на двух дорогах прекратилось полностью. По насыпям и шпалам железных дорог Брест – Пинск и Ковель – Брест немецкие завоеватели ездили теперь в автомашинах, на лошадях и на волах. У насыпи с обеих сторон лежали опрокинутые и обгоревшие остовы паровозов и вагонов.
Немцы усиливали патрулирование, жгли на линиях железных дорог костры, устраивали засады, ставили дежурных сигнальщиков через каждые сто метров пути, охотились на партизан с собаками, пускали впереди паровозов пустые платформы, а машинистов заставляли ехать черепашьим шагом. Но все было тщетно! Наши герои– минеры пробирались к полотну в труднейших условиях, между кострами и собаками-ищейками, ставили мины под носом у патрульных там, где совсем невозможно было ждать этого, – около железнодорожных станций, у семафоров.
Мины замаскировывались так искусно, что и специальные немецкие «охотники» за минами, медленно обходя пути и глядя себе под нош, ничего не могли заметить. Мины настраивались так, чтобы легкие платформы, шедшие впереди паровоза, или патрульная автодрезина не вызывали взрыва, а только паровоз, нажимая всей своей тяжестью на полотно дороги, взрывал мину. Триста поездов за три месяца! Казалось, сама земля горит и рвется под ногами захватчиков.
Наши отряды действовали в широком радиусе, командование их посылало нередко за сто, за сто двадцать километров от штаба Немцы, скованные наступлением Красной Армии, не могли собрать карательную экспедицию достаточной силы, чтобы выбить нас из-под Ковеля. Они посылали против партизан подлых наймитов – украинско-немецких националистов. Шайки буль– башевцев и бандеровцев прокрадывались тайком на коммуникации партизан, делали налеты на села, занятые нами, мелко, злобно, жестоко пакостили, где только могли.
Отряд Кравченко действовал за сто двадцать километров от штаба, на дороге Ковель – Брест. Минеры Кравченко совместно с минерами соседних отрядов наглухо закрыли движение немецких поездов по этой железной дороге. Но раненых в отряде имени Богуна набиралось все больше и больше. Переправлять их в санчасть по глухим, неудобным лесным тропам было трудно и рискованно. Кравченко по радио попросил штаб, чтобы ему выслали хирурга. Федоров распорядился послать Кривцова.
Михаил Васильевич был в восторге от этого поручения… Под охраной пяти автоматчиков он выехал в отряд имени Богуна. Добрался туда благополучно, сделал несколько удачных операций. После этого Кривцову предложили немедленно возвращаться в штаб. Я ждал Михаила Васильевича с часа на час. Ждал с нетерпением. Работы в госпитале было очень много. И вот наконец усталый, забрызганный грязью нарочный передает мне записку:
«Тимофей Константинович, срочно выезжайте в Березичи. Кривцов ранен. Дружинин».
– Как ранен? Куда? – спрашиваю у вестового.
– Ничего не знаю, не видел. Говорят, пулей в живот. И Кравченко ранен в голову. А Бондаренко убит. Ехали в штаб, попали в засаду.
Стою ошеломленный этим сообщением. Бондаренко убит! Кривцов ранен в живот! Обычно такие ранения бывают смертельными. И Кравченко ранен! Первые федоровцы, с которыми я повстречался и совершал опасный рейд в тылу врага! Только сейчас с болью в сердце чувствую, насколько эти люди близки и дороги мне. Но почему Владимир Николаевич не пишет о Кравченко?
– Аня, собирайтесь быстро. Михаил Васильевич тяжело ранен. Кравченко тоже.
– Что вы говорите! – Она всплескивает руками, бледнеет, бежит в операционную палатку.
– Эфир для общего наркоза. Больше перевязочного материала…
Через несколько минут я, Свентицкий и Аня едем в Березичи в телеге, на паре лошадей Гречка правит конями. Два верховых автоматчика скачут по бокам телеги. Это наша охрана. Иногда один из автоматчиков углубляется в лес, обследует путь. Кони бегут рысью. Телегу высоко подбрасывает на корнях и кочках.
До Березичей двадцать пять километров. Березичи – передний край нашей обороны, наиболее близкий к штабу пограничный пункт партизанского района. Здесь возможны всякие неожиданности. Такой осторожный, предусмотрительный командир, как Кравченко, и все же наскочил на засаду! «Если Кривцова ранили утром, к ночи может начаться перитонит», – думаю я.
Солнце садится, когда мы подъезжаем к Березичам. Большое село с колокольней посередине. Зеленые сады. Узкая, мелководная извилистая речка. Это Стоход. Наши кони, шумно втягивая воду, пьют из реки, и эти фыркающие звуки – самое громкое из всего, что мы слышим. Необычайная, зловещая тишина в селе. Как будто его покинули люди.
Внезапно пять бойцов с красными ленточками на фуражках и пилотках, выйдя из крайней хаты, останавливают нас. Партизанская застава. Один из бойцов провожает нас по селу. Тихо, пусто на улицах.
Вдруг винтовочная и пулеметная стрельба возникает со стороны Стохода. В первое мгновение кажется, что стреляют в нас. Гречка инстинктивно съеживается, натягивает вожжи. Лошади вскидывают головы.
– Это далеко, за рекой, – говорит провожатый. – Здесь еще ничего, а в Любешове сейчас идут большие бои. Там немцы, говорят, несколько полков кинули против наших. Утром все командование наше ездило туда.
В небольшой крестьянской избе Федоров, Дружинин, Рванов.
– Осмотрите скорее Кривцова, – говорит Федоров.
– А Кравченко? Он ведь тоже ранен?
– Он не ранен, только ушибся. Когда начали в них стрелять из-за деревьев, лошади испугались, кинулись сломя голову. Кравченко хотел остановить коней, запутался в вожжах. Кони понесли, потащили его за собой. А Кривцов, раненный, успел схватиться за задок телеги и бежал за нею.
У меня сжимается сердце. Раненный в живот, истекая кровью, бежал за лошадьми! Где он?
На улице села, около крестьянской хаты, очень бледный, Кривцов лежит в телеге.
– Здравствуйте, Михаил Васильевич!
– Вы? – говорит он еле слышно и пробует улыбнуться, поднять голову.
Беру его руку, считаю пульс. Пульс частый, слабого наполнения. Язык сухой. Губы бледные. Все признаки внутреннего кровоизлияния! Осматриваю Кривцова. Пулевое ранение в живот. Тело Миши, одежда его, телега, трава под телегой – все в крови.
– Пить, – просит он.
Аня поспешно идет за водой. Возвращается в сопровождении хозяйки дома. Хозяйка, пожилая женщина, босая, в белом чистом платке, рассказывает:
– Усе время, как тальки его привезли сюда, просить пить, пить, пить!
Солнце заходит. Спешу к Федорову и Дружинину. Рассказываю.
– Значит, нести в лагерь его нельзя? – озабоченно спрашивает Федоров.
– Совершенно невозможно. В пути погибнет от потери крови.
– Хорошо, действуйте. Дмитрий Иванович, поручаю вам позаботиться о медиках, помочь им.
– Чем еще могу вам помочь, Тимофей Константинович? – спрашивает Федоров и, понизив голос, взволнованно добавляет: – Его надо спасти во что бы то ни стало. И ради него самого, и ради наших раненых, и для будущего. Надо спасти!..