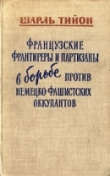Текст книги "Воля к жизни"
Автор книги: Тимофей Гнедаш
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
«Трофейный» врач
Едва успеваю проститься с Калеником, вестовой приходит вновь:
– Вас зовет командир…
Ранний час утра. Федоров одет по форме, выбрит, стянут ремнем.
– Доктор, пройдите в отряд Лысенко. Это недалеко от штаба – километра полтора. Посмотрите командира. Последние дни почти не может ходить. Все ноги в язвах. Три часа бредет до штаба. Осмотрите больного и сообщите мне свое заключение.
В отряд Лысенко иду с Кривцовым. Хорошо в лесу. Толстые буки сплелись ветвями. Зеленый шелестящий потолок над нами. Солнечные лучи пронизывают редкие просветы листвы. Земля под деревьями ровная, плотная, идем, как по полу. Птицы поют так радостно, словно нет на свете никакой войны.
– Лысенко, – рассказывает Кривцов, – это командир одного из лучших отрядов. У него экзема, и она страшно угнетает его. Несколько дней назад он отправил половину своего отряда на ответственное задание. Обычно сам возглавлял такие операции, на этот раз пришлось послать комиссара. И до сих пор о посланных нет ни слуху ни духу. Он тяжело переживает это.
…На зеленой лесной лужайке, около замаскированной палатки расстелено одеяло, на нем сидит босой командир.
Около него – пожилой человек в очках, какой-то юноша профессорского вида и девушка, похожая на студентку.
– Знакомьтесь, – представляет Кривцов, – Федор Ильич Лысенко, врач Свентицкий, доктор Белый, сестра отряда Дуся Баскина…
Лысенко пытается встать, я удерживаю его:
– Сидите, сидите!
Ноги его в язвах и шрамах.
Свентицкий, внимательно оглядев меня, предупредительно говорит:
– Мне сказали о вашем приезде. Я торопился в штаб, чтобы вас увидеть, но вот задержался здесь. Как вы находите больного? Очень часто встречаю у партизан экзему. Экзему и желудочные заболевания.
– Вы не привезли из Москвы альбуцид? – спрашивает доктор Белый. – Альбуцид, я думаю, радикально помог бы, но у нас его нет.
– Если бы мы могли госпитализировать больного, поместить его в условия полного покоя, – замечает Свентицкий и пожимает плечами.
– У вас экзема давно в такой острой форме? – спрашиваю больного.
– Несколько дней.
– Вы чем-то сильно встревожены эти дни?
– Совершенно верно.
– Болезнь ваша на нервной почве. Придет ваш отряд с хорошими успехами, и экзема будет так же быстро заживать, как быстро обострилась.
– Значит, ничего серьезного?
– Ничего серьезного.
Возвращаемся из отряда втроем, идем не торопясь. Солнце пригревает, нежная зелень колышется под ветром.
– Гитлеровцы, – рассказывает Свентицкий, – заставили меня за два года пережить столько горя, сколько я не видел за пятьдесят пять лет своей жизни. Каждого интеллигентного человека в Ковеле они арестовывали по нескольку раз. Били на допросах, гноили без пищи и воды в смрадных ямах. Не просто убивали, а изводили людей, отравляли души, заставляли детей и женщин предавать друг друга, клеветать друг на друга. Поляков натравливали на русских, украинцев на поляков… Эго гной, а не люди! Они не посадили меня в лагерь только потому, что я был им нужен как врач. Я назывался у них «гебитс-врачом», а чувствовал себя невольником на галере. Я по натуре мягкий человек, но вижу во сне, как убиваю их, топчу ногами. Когда я попал к партизанам, почувствовал себя как будто на другой планете. Признаться, я не ожидал, что моральный уровень даже рядовых партизан так высок. Война развращает и портит самых лучших. Здесь же влияние войны как будто не коснулось людей.
Я смотрю на желтые полуботинки Свентицкого, на его брюки, густо забрызганные грязью. Кривцов перехватывает мой взгляд и говорит, обрашаясь к Свентицкому:
– Леонид Станиславович, может быть, сядем отдохнем? Вы сегодня километров десять прошли, не меньше…
– Нет, Михаил Васильевич, уже близко, и я не устал. Я вообще здесь не устаю, – улыбается доктор, – помолодел лет на двадцать. Мне вчера Алексей Федорович и Владимир Николаевич предлагали лошадь, но, чем трястись в бричке, приятнее пройтись пешком. Много значит, когда круглые сутки проводишь на свежем воздухе. Аппетит волчий, бодрость, свежесть… И все, с кем мне приходилось здесь говорить, отмечают то же. До войны болели, простужались, чувствовали себя слабыми, а здесь неизвестно откуда силы берутся. Многие забыли, что такое грипп. Я думаю, и отдаленность от городов играет некоторую роль: мало болезнетворных микробов.
– А если еще и врачи со всем тем, что дает нам современная наука, помогут больным и раненым…
– О, узнаю выражения Федорова и Дружинина! – восклицает Свентицкий, перебивая меня. – Они тоже так говорят. Прекрасные люди, но… не врачи. Они и не представляют себе, что значит лечить здесь, вот здесь! – останавливается Свентицкий и показывает пальцем на болотце. – Вот здесь лечить на высоте современной науки! Наука под сосной! Мы с вами врачи, мы должны ясно видеть границы возможного. Вы сами сейчас не могли помочь командиру ничем, кроме совета и моральной поддержки! Говорить о науке, когда мы не можем согреть в холодную ночь больного, потому что покрыть его нечем, а костра разводить нельзя! Когда у больного одна пара белья и ее нечем сменить…
– Но, Леонид Станиславович, и единственную пару белья можно стирать и дезинфицировать. – возражает Кривцов.
– Когда люди сидят по колено в воде, и не спят по пять – шесть суток, и недоедают, и им не хватает гемоглобина в крови. Вы знаете, я обнаружил здесь много случаев авитаминоза. Шатаются зубы, кровотечение из десен, головокружение.
Мне захотелось разубедить Свентицкого – человека из другого мира, иного взгляда на жизнь. И я говорю:
– В 1921 году, в Киеве, в медицинском институте не хватало профессоров, учебников, не было общежитий. Город был разбит, разграблен немцами и петлюровцами. Как жили мы, студенты? Находили комнаты в полуразрушенных домах, замазывали дыры, ремонтировали печки. Собирали щепки по улицам. На трех – четырех палочках варили себе затирку из ржаной муки. Когда становилось совсем голодно, шли пешком домой за пятьдесят километров, подкармливались, с собой кое-что приносили в Киев в торбах. И в таких условиях занимались наукой, бегали в «анатомичку», сдавали зачеты…
– Человек может ценой перенапряжения всего организма делать чудеса в какой-то решающий, кульминационный момент своей жизни, – возражает Свентицкий. – Но чтобы творить чудеса всю жизнь и всем без исключения?.. Нас только трое здесь. Пока нет ни одного раненого при санчасти. А если будет их сто? А Федоров хочет к тому же, чтобы мы обслуживали население и окружающие отряды. Сколько мы можем принять в день больных? Десять, двенадцать человек?
– Вы считаете нормой врача десять – двенадцать больных в день?
– Ну, пусть пятнадцать – восемнадцать, как будто это меняет дело! Представьте даже, что мы трое будем творить чудеса. А где у нас персонал? Где медицинские сестры? Здесь называют медицинскими сестрами деревенских девушек, еле-еле умеющих наложить повязку. Тут есть милая девушка Аня, мне пришлось с ней однажды оперировать, она не понимает, что такое костотом, кусачки, у нее во время операции инструменты падают из рук…
– Но ведь можно подготовить сестер.
– Для этого нужно несколько лет. Я работал в Париже, в госпитале Сент-Женевьев, там готовили операционных сестер три года, прежде чем подпустить их к столу.
На заседании подпольного обкома
Вернувшись в лагерь, иду к Федорову доложить о результатах осмотра Лысенко.
Федорова нет, он уехал в отряд.
– Пройдите к Дружинину. Он только что был здесь, посмотрите, вот там занимаются подрывники, к ним он пошел, – посоветовали мне в штабе.
– Владимир Николаевич? Да, был совсем недавно. Пройдите вот за те дубы, там, должно быть, на строевых занятиях с новым пополнением.
– Пять минут, как ушел от нас. Узнайте в палатке разведки – он, кажется, туда пошел.
Лагерь действительно похож на город. Всюду люди, везде занятия. В центре группы партизан лектор с погонами капитана на оструганной белой доске пишет углем математические уравнения, химические формулы. На земле обрезок железнодорожного рельса. Садясь на корточки, подкладывая в ямку под рельс небольшой желтый ящик, лектор говорит об электрических и химических взрывателях.
На соседней поляне инструктор с погонами младшего лейтенанта обучает группу деревенской молодежи пехотному строю. Почти все хлопцы без оружия, в деревенских свитках, многие в лаптях.
По лесной тропинке гонят коней на водопой. Около костра пожилая женщина варит в ведрах обед, по лесу разносится запах дыма и мясного борща. Звонкий женский голос зовет: «Марина, ходи скорей, тащи корыто, вода зогрилась».
В полуоткрытой палатке походной типографии девушка, повязанная платком, набирает свинцовые буквы. Седой партизан в немецкой пилотке, сидя под дубом, шьет суконные брюки на ножной швейной машине.
– Доктор, вы меня ищете?
– Вас, Владимир Николаевич…
– Были у Лысенко?
– Был.
Докладываю о болезни Лысенко, о разговоре со Свентицким.
– Какое впечатление произвел на вас Свентицкий?
– Откровенно говоря, странное. Конечно, бывают люди, которые говорят не о том, что они могут сделать, а о том, чего они не могут сделать. Но такие люди стараются обычно замаскировать свое бессилие. А он как будто хвастается им.
– Да, на взгляд свежего человека он должен показаться странным, – улыбается Дружинин. – Но это самый обыкновенный западноевропейский, буржуазный врач. И, пожалуй, Свентицкий лучше многих из них. Попал к нам случайно, но, с точки зрения западных мерок и требований, работает, я бы сказал, хорошо. Конечно, слепо доверять ему нельзя, однако при нашем остром недостатке врачей…
– В 1939 году, после освобождения Западной Украины, меня послали работать в Тернополь, – продолжает Дружинин. – Там довелось встретить очень похожего на Свентицкого почтенного доктора. Доктор удивлялся, как у нас в партийном аппарате, в облздраве люди работают с утра до полудня, и уверял меня: «Это ненормально! Человеческий организм такого напряжения долго выдержать не может». Сам он вставал в десять часов утра, с одиннадцати до часу принимал больных, обедал, отдыхал, а вечером шел в гости, играл в карты, занимался музыкой. А кругом деревни, где люди никогда в жизни не видели врача, жили в чесотке, с насекомыми и незатухающими очагами сыпняка. И, конечно, когда такой доктор начинает философствовать…
– Воздух! – кричат вдали.
– Воздух!..
– Воздух!.. – предостерегающе кричат вблизи.
Гул самолетов нарастает с такой стремительностью, словно они летят не по горизонтали,' а падают с неба. Вой, визг металла. Разрыв неподалеку в лесу. Второй разрыв. Вдруг резкий удар воздушной волны меня валит с ног, земля и ветки летят в лицо. Так же быстро, как возник, гул самолетов затихает. Становятся слышны голоса.
– У вас все в порядке, доктор?
– Как будто все.
– И когда он начинает философствовать, обещать… – как ни в чем не бывало продолжает Дружинин, отряхивая землю с рукава, – он не может подняться над обывательской точкой зрения.
К вечеру меня вызывают к командиру. В просторной, светлой палатке из парашюта – Федоров. Дружинин.
Лысенко и еще несколько неизвестных мне партизан. Строгая, приподнятая обстановка важного заседания. Люди смотрят на меня с пристальным вниманием. Начинаю немного волноваться.
И Федоров, и Дружинин, и Лысенко держат себя несколько иначе, чем при первой встрече. «Мы так же, как и ты, отвечаем перед этим собранием», – как бы говорит мне их строгий вид.
– Ну как, товарищ Гнедаш, немного ознакомились с нашими условиями? Сможем ли мы возвращать раненых в строй так же быстро, как в тыловых госпиталях? – спрашивает Федоров.
– Думаю, что сможем. Все, что от меня зависит, сделаю.
– Здесь придется не только лечить. Надо готовить кадры, повышать знания. У нас в отряде пятнадцать медицинских работников, и почти все молодежь. Многие до войны и не предполагали, что им придется заняться медициной, – говорит крупный мужчина с энергичным лицом, как я потом узнал – командир отряда имени Сталина – Григорий Васильевич Балицкий.
– При недостатке медикаментов надо подыскивать какие-то местные средства, – говорит Лысенко. – Даже в мирное время мы силами школьников собирали лекарственные травы. Здесь, на Волыни, я знаю, крестьяне быстро излечиваются от чесотки народным средством – травой чемерицей. Этим тоже не нужно пренебрегать. Опыт народа надо использовать.
– У нас разные врачи и по квалификации, и по своему прошлому, – говорит Дружинин. – Есть так называемые «трофейные», работавшие у немцев. Важно, чтобы они были втянуты в новую обстановку, научились работать по-советски, чтобы чувствовали не только контроль, но и образец перед собой.
– Создать настоящую госпитальную службу. Планировать медицину так же, как мы планируем боевые операции, – говорит Рванов, самый молодой из присутствующих.
Высказываются почти все, кто только есть в палатке. Федоров говорит в заключение:
– Вам придется обслуживать партизан и соседних с нами соединений, оказывать лечебную помощь и местным крестьянам, а на ходу подучивать кадры. Но главное – не снижать качества врачебной помощи. Применяйте по возможности все, что дает современная, передовая наука без всяких скидок на отдаленность от Большой земли. Нагрузка на вас немалая. Однако думаю, что, как врач-коммунист, вы с ней справитесь. Партия вам поможет. С любым вашим затруднением обращайтесь к нам, в обком, и мы вас поддержим всеми средствами. У нас бывали времена, когда сутками шли по болотам, пили гнилую воду, ели сырую конину, но и тогда последние глотки хорошей воды, последние крошки, какие могли натрясти из торб, отдавали раненым. Поможем и теперь всем, что только в наших силах. Действуйте, товариш Гнедаш!
Первая операция
Поутру явился ко мне крестьянин с русой бородкой, в заплатанных брюках, в рубахе из домотканого полотна.
– Доктор, я посланный до вас ездовой и санитар Гречка, принес для вас палатку. Как выскажете – зараз ее ставить?
За поясом у Гречки топор. Спокойно, деловито, не теряя времени на лишние разговоры, он начинает затесывать колышки для палатки. Пальцы его держат топор ловко и цепко.
Где ставить палатку? Гречка советует:
– Вон под тем дубом. Там больше листвы, деревья гуще. Самолетам не будет заметно…
Достаем лопаты и расчищаем площадку для палатки. Снимаем дерн. На небольшой глубине под перегноем слой светлого песка.
«Пусть недолго придется стоять на месте, может быть, через день-два покинем этот лагерь – все равно надо строить как можно лучше», – решаю я.
Вижу, что санитару весьма по душе мой серьезный подход к строительству палатки.
– Так будет гарно! – одобряет он.
Белый парашютный шелк приятно шуршит в руках. «Прочный материал и легкий!» – любуется Гречка. Туго натягиваем палатку. Шелк звенит, как струна.
Спиливаем березку, очищаем ее от веток, режем на чурбаки.
– Тимофей Константинович, раненого привезли! – зовет меня Кривцов.
Бросаем топоры, спешим к раненому.
Партизан средних лет лежит в крестьянской телеге. Видно, что везли его издалека. Лицо его замотано грязными окровавленными тряпками и шерстяным женским платком. Глаза обращены ко мне, но он не видит меня, не видит ничего на свете. Он почти без сознания от боли. Тихо, глухо стонет. «У него вырван язык». – говорит привезший раненого хлопец.
– Кто он? Откуда?
– А не знаю.
Втроем – Гречка, Кривцов и я – поднимаем партизана, кладем его на носилки. Правая рука его висит, как чужая. Висит как бы на одном рукаве. Осторожно! Осторожно! Втаскиваем носилки в палатку. Ставим их на четыре столба. Трава путается под ногами.
Аня неподалеку от палатки разводит костер, закладывает в автоклав перевязочные материалы. Приходит Свентицкий. Приходит Георгий Иванович, спрашивает, не нужен ли будет он.
Раненый стонет. Разматываю платок, снимаю грязные тряпки с лица. Подбородка и щеки нет. В глубине широкого провала на месте рта остатки языка, осколки костей, зубов, сгустки запекшейся крови. Нижняя челюсть наполовину отсутствует, остаток ее торчит криво. Если человек этот выживет, как он сможет есть и говорить? Ему нечем будет жевать. Даже пить ему можно будет только через трубку – рта у него нет.
Аня застыла, не в силах оторвать взгляда от лица раненого. В ее широко раскрытых глазах ужас.
– Приготовьте руки!
Говорю громко, чтобы вывести ее из оцепенения. Она вздрагивает и смотрит на меня, ничего не понимая.
– Руки, руки!
Она опять ничего не понимает.
Готовлю растворы лизола, йода, спирта, лью ей на руки.
Подаю стерильную салфетку.
Вытирайте. Теперь держите руки перед собой на весу и ни за что не хватайтесь!..
Аня стоит, держа перед собой руки, словно они ей уже не принадлежат. Но пока я и мои ассистенты помогаем друг другу готовить руки к операции, Аня забывается и беглым, инстинктивным движением пальцев поправляет косынку.
– Что вы делаете?! – восклицаю я. Она испуганна, растерянна. Она не понимает, что меня сердит.
– Руки, руки! – говорю я.
Девушка смотрит на свои руки и не может понять, что с ними случилось. Вновь помогаю ей помыть руки, сначала раствором лизола, потом раствором йода. Затем надо, чтобы она пять минут протирала пальцы спиртом. Теперь не спускаю с нее глаз: опасный помощник.
Кривцов и Свентицкий не смотрят мне в глаза. Я знаю, они думают: «Даже если мы спасем раненого от смерти – дальше что? Спасем для жизни немого, беспомощного калеку!»
Но у меня есть надежда – может быть, удастся восстановить полость рта путем пересадки тканей. А челюсть… Если бы можно было достать или изготовить протез! Но как его достать и изготовить в лесу?..
Волнуюсь так, что не могу скрыть своего волнения. Первая операция! Бывают случаи, когда хирург с многолетним стажем оперирует на новом месте с неудачным исходом и сразу теряет доверие. Больные к нему не идут. Ведь каждому человеку не объяснишь, что некоторый процент неудач бывает у любого хирурга, что непознанные, глубоко скрытые свойства организма могут свести на нет все искусство врача. Словами здесь обычно не поможешь. Первая операция прошла неудачно, и людям трудно переломить себя и довериться хирургу.
Начинаю работать. Удаляю свертки крови, омертвевшие ткани, осколки костей. Раненый стонет, хотя ему теперь, после анестезии, не должно быть больно. То и дело напоминаю Ане:
– Пинцет! Скальпель! Салфетку! Больше! Больше размером! Тампон! Ножницы! Не те! Изогнутые, с тупыми концами! – Искоса слежу за каждым движением сестры, не спускаю с нее глаз.
Свентицкий осушает салфетками кровоточащие участки раны. Надо делать это мгновенно, чтобы видны были ткани в тот короткий момент, пока кровь еще не успела снова выступить на них. Свентицкий, мне кажется, держит салфетку вдвое дольше, чем нужно, и отнимает ее не отрывистым, а округлым и плавным, изящным движением.
Сразу! Быстро! – говорю я, невольно вкладывая в свое восклицание ту резкую стремительность, какую мне хотелось бы видеть в движениях моего ассистента.
Пинцет хирургический! Салфетку сухую! Щипцы!
Щипцы костные! Как нет? Совсем нет? Достаньте в мешке…
Аня бледна, у нее измученный вид. Так работать нельзя. Когда работаешь с опытной, знающей сестрой, даже долгие и сложные операции проходят в абсолютном молчании. В крайнем случае одного движения руки достаточно, чтобы опытная сестра поняла, что нужно. А здесь? Ноги мои в пыльной скользкой траве, глаза то и дело приходится поднимать от раны, говорю я столько, что язык устал. Нет, так работать нельзя!
Промываю рану раствором риваноля. Накладываю влажную, отсасывающую повязку. Вставляю в горло резиновую трубку. Накладываю на правую руку временную повязку с металлической шиной Крамера.
У раненого серо-голубые глаза, светлые волосы. На вид ему лет тридцать пять, сорок. Он смотрит на меня и что-то мычит. Что он хочет сказать?
– Еще несколько операций – и вы будете говорить! – обещаю я.

Доктор Гнедаш осматривает партизана Машлякевича, перенесшего сложную операцию.

И хорошая книга помогает лечению.

В партизанский лагерь пришла свежая газета.
По глазам его вижу: он мне не верит. У него такие глаза, словно он лежит на дне пропасти, в сотне километров от людей.
– Унесите! – говорю я и в изнеможении сажусь на бревно, заменяющее в палатке скамью. Вытираю лоб, щеки.
Санитары уносят раненого, ассистенты мои уходят. Аня тоже хочет уйти, но я останавливаю ее.
– Аня, минутку. Сядьте сюда. Я вам вот что хочу сказать. Когда мы работаем, перед нами не дерево и не камень, а живой человек. Вся его жизнь зависит от нашего внимания. Вы взялись рукой за косынку, предположим, только дотронулись пальцем до нее и собрали на палец сотни тысяч убийственных микробов, которые с вашей руки попадут в открытую рану. Это вопрос жизни и смерти человека!..
– Я понимаю, – говорит она. Слезы скатываются по ее щекам. – Я понимаю, но что делать, если я не могу?..
– То есть как не можете? Что не можете?
– Не могу научиться работать сестрой.
– Какое у вас образование?
– Дело не в образовании. У меня характер не годится никуда. Я еще до войны пробовала учиться на медицинскую сестру и не смогла. Не могу видеть крови…
– Ничего, это пройдет! У всех так сначала. Вы думаете, мне приятно видеть кровь? Я, когда начал учиться медицине, в обморок падал на операциях. На многих операциях вы помогали?
– Сегодня на третьей…
– Ну и не так уж плохо! Ведь не упали в обморок, правда? Только не теряйтесь и поймите: в воздухе палатки – не говоря уж о траве, о нашей одежде, о наших руках – несколько миллионов носителей заразы. Злейшей заразы!
– Я понимаю, мы проходили в школе. Бактерии, микробы… Я многое понимаю, но на деле у меня не получается. Увижу раненого и все забываю. А если меня ругают, становится еще хуже, делаюсь совсем как дурная.
Она смотрит в землю, не решаясь поднять на меня свои добрые, серые, заплаканные глаза. Выросший в деревне, я хорошо знаю этот тип девушек. Такая работает за троих, нянчится с оравой маленьких братьев и сестер, ходит за скотиной, кладет стога, вяжет снопы, и все это тихо, скромно, с застенчивым видом, словно оставаясь перед кем-то в долгу.
– Чтобы не теряться, продумайте все заранее. Заранее подготовьте к операции инструменты, бинты, тампоны, салфетки, вату, кофеин, камфору, физиологический раствор, глюкозу.
– Ой, я все забуду! Я уже забыла!
– Вот возьмите карандаш и бумагу. Пишите: йод, эфир, новокаин, лизол…
Мелким, четким почерком она составляет длинный список. Слезы на глазах ее постепенно высыхают.
– Йод и новокаин я знаю для чего…
– Ну, вот видите! Уже хорошо! Я не – понимаю, зачем вы преуменьшаете свои силы?.. Вы, говорят, участвовали в диверсиях, а ведь это гораздо страшнее, чем у операционного стола!
Но она отрицательно качает головой.