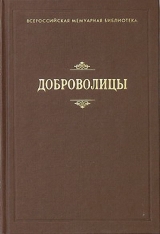
Текст книги "Доброволицы"
Автор книги: Татьяна Варнек
Соавторы: Зинаида Мокиевская-Зубок,Мария Бочарникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Из персонала госпиталя отступило (ушло из Воинки) нас немного, вернее, только наша ячейка: Случевский, Вава, Лина, отец Федор, Вадим Степанович с женой, сестра Скоркина и еще две сестры, мужья которых были на фронте, несколько человек административного персонала, Лев Степанович и я. Доктор Толчинский заявил, что остается в Воинке. Пан Штенсель (человек немолодой) уже было погрузился в вагон с ранеными, но Симоновский (аптекарь) прибежал и вытащил его. Теперь они оба остались. Суботин, когда закончил все дела и вывез все имущество на платформу, подошел к доктору Мокиевскому и сказал, что он не едет с нами и остается в Воинке, а всем нам желает благополучного путешествия. Мокиевский не препятствовал, поблагодарил его за добросовестную службу, и они простились. С Суботиным остались и несколько санитаров. Имущество госпиталя так и осталось лежать на платформе «в ожидании поезда», что очень огорчило Льва Степановича, но не от него зависело спасение имущества. Счастье, что раненых успели вывезти, да и тут он действовал на свой страх и риск, так как никаких указаний не было.
Это происходило уже в последних числах октября, но еще не было особенно холодно и, к счастью, не было дождей. Прошли уже полпути, как увидели поезд с нашими ранеными, который стоял в поле, а возле него копошились люди. Когда подошли ближе, то узнали, что топлива не хватило, и, кто мог, подбирали шпалы, которые попадались вдоль дороги. Наши мужчины помогли им, и группа продолжила свой путь только тогда, когда поезд двинулся.
В Джанкой мы пришли еще засветло и расположились в поле, возле станции. Эшелон с ранеными уже прибыл. Народу было очень много, люди кишели и зудели, как пчелы в улье. Здесь были и беженцы, и какие-то воинские части. Лев Степанович узнал, что в Джанкое стоит поезд генерала Кутепова, а с ним должен быть и доктор Трейман. Левушка пошел к нему с просьбой поскорей устроить отправку поезда с ранеными дальше. Это им удалось, и раненых сразу же отправили в Феодосию для погрузки на пароход. Трейман предлагал Левушке отвезти меня и его в штабном поезде к морю (всех не мог забрать, не было места), но Лев Степанович, не желая оставлять персонал, отказался.
Мы начали располагаться на ночь. Ночь была исключительно темной, только кое-где мелькали зажженные свечи или электрические фонарики. Неожиданно, среди суеты и шума, где-то вдали раздался выкрик: «26-й Полевой запасный госпиталь здесь есть?» Нас кто-то искал. «Госпиталь здесь!» – отозвался один из наших. Видимо, там не расслышали и снова спросили, но уже ближе. Так перекликались, пока к нам не подошли два офицера-летчика. Они попросили позвать старшего врача. Мы их быстро окружили, усадили и от них узнали, что они прикрывали отправку раненых с фронта и в Джанкое успели сдать их в наш эшелон с ранеными, теперь уже отправленный в Феодосию. Узнав, что персонал госпиталя здесь, стали нас искать. Оказалось, оба они лежали в нашем госпитале еще летом и были благодарны за хороший уход и лечение. Теперь, найдя нас, они считают своим долгом предупредить (по секрету, чтобы не вызвать панику среди беженцев), что красные прорвались и могут напасть со стороны озер-сивашей на Джанкой и отрезать выход к морю. «Вам нужно как можно скорее уходить отсюда, до рассвета, как только будет обозначаться дорога», – сказал офицер. Они попрощались с нами, пожелали благополучного перехода, а сами поехали на фронт. Чуть забрезжил свет, мы двинулись на Феодосию. За нами потянулись и другие. Вопреки ожиданию, красные налета в этот день не сделали, и беженцы, дождавшись поезда, благополучно покинули Джанкой.
Глава 6. ЭВАКУАЦИЯ
По прибытии в Феодосию нам указали пароход, на который мы должны были погрузиться. В это время Лину нашел офицер Чижов, капитан Дроздовского полка, и сообщил ей, что он привез своего друга и ее жениха, капитана Дроздовского полка Черемиса, раненного в челюсть, и сдал его здесь в госпиталь, из которого раненых грузили на пароходы. На вопрос Лины, на какой пароход он попал, Чижов ответил, что не знает. Простившись с Линой, очень огорченной таким известием, он отправился обратно на фронт. Перед уходом он улучил удобную минуту и сказал Ваве, мне и Бабушке, что Черемис был тяжело ранен, потерял много крови и по дороге в Феодосию умер. Лине он этого не хотел говорить, считая, что лучше пусть она верит в ранение жениха и будет надеяться, что когда-нибудь с ним встретится. Лина узнала горькую правду только в Галлиполи, когда немного успокоилась. Ей сказала сестра Керлер (Бабушка) по нашей с Вавой просьбе.
Персонал нашего госпиталя попал на уже перегруженный пароход (названия не помню), на котором находились и все наши раненые, и нам осталось место только на палубе. Состав 26-го Полевого устроился вокруг пароходной трубы. Наступил знаменательный день: 1 ноября 1920 года наш пароход отчалил, держа курс на Константинополь. Было облачно, холодно и тяжело на душе. Мы покинули Россию и все дорогое, связанное с ней, – навсегда.
На второй день плавания наши повара приготовили обед из госпитальных свиней и накормили раненых – и своих, и чужих, а Машка предназначалась для персонала, но, когда мне предложили кусочек этого блюда, я не могла его взять и отказалась – мне вспомнилось, как она хрюкала, прося чего-нибудь вкусного. Накрапывал дождь, и все мы продрогли. Чтобы согреться, публика пила разбавленный спирт, и нашим сестрам предложили по рюмке. Кое-кто пил, но я отказалась, так как водку никогда не пила и пить ее не хотела, но меня усиленно уговаривали, уверяя, что я сразу же согреюсь. Я уступила уговорам. Меня учили, как надо выпить, и я проглотила водку, почувствовав при этом запах карболки. Несколько капель карболки добавляли в спирт для запаха, чтобы его не употребляли для питья, и кто-то взял такой спирт. Поморщившись и съежившись от проглоченного, я приняла его, как лекарство. Но это «лечение» имело для меня плохие последствия.
На следующий день проглянуло солнышко, и я подошла к борту полюбоваться морем, которое было почти спокойное. Тут я почувствовала слабость, мне стало плохо, начался озноб. Измерили температуру, оказалось 39 градусов. Освободив немного места возле трубы, меня уложили, но к вечеру мне стало хуже, я уже не могла подняться и слегла надолго.
Левушка и другие, боясь, как бы я не простудилась еще больше, искали для меня закрытое помещение, но не могли найти и придумать ничего другого, как поместить меня в угольную яму, люк которой выходил на палубу недалеко от трубы. Получив разрешение от «заведующего углем», меня спустили на уголь. В результате тело мое покрылось толстым слоем угольной пыли, которую уже позже, в палате госпиталя, трудно было снять. Сколько мы ехали морем и сколько я пролежала в угольной яме – не знаю. Но в пути благодаря чьим-то хлопотам наш персонал, а может быть и всех находящихся на палубе, перевели в глубокий трюм, в который спускали грузы по лебедке. Помню, как меня вытаскивали из угольной ямы, но, когда спускали в трюм, по-видимому, я потеряла сознание, и ничего не осталось в памяти. Наш пароход пересек море благополучно. Бури нас миновали, зато, как потом рассказывали, следующий пароход с буксирной баржей, полной людьми, попал в сильный шторм и баржа будто оторвалась, а люди погибли. Мы счастливо проскочили, принимая во внимание, что наш пароход был старый, сверху битком набитый людьми, тогда как трюмы были пусты.
По приезде в Константинополь всех из трюма выгрузили, а персонал 26-го Полевого пересадили на госпитальное судно «Ялта», переделанное из пассажирского парохода Добровольного флота, которое было заполнено больными и ранеными. Помню, как меня выгружали. Меня завернули в одеяло, положили в металлическую сетку-носилки, спеленали веревкой, чтобы не вывалилась, и на канатах начали поднимать вверх. Я качалась в этой люльке на страшной, как мне тогда казалось, высоте. Так, качаясь, носилки достигли верха, но почему-то засели под потолком. Я слышала крики команды наверху, и немного спустя стали меня очень осторожно вытаскивать на свет Божий. Вытаскивали свои люди из госпиталя при помощи двух матросов с корабля, в присутствии Левушки.
Перейдя на госпитальное судно, персоналу нашего госпиталя дали угол опять в трюме, «под потолком». Лестница в десять ступенек вела прямо на палубу. Здесь уже были нары. В трюме была устроена общая палата, в которой находилось с десяток больных. Моя кровать стояла у самой лестницы. Это было хорошо потому, что туда проникали и свежий морской воздух, и лучи солнца. Персонал разместился тут же, отгородившись от общей палаты одеялами.
Наш персонал снова увеличился, к нам присоединились два врача – Покровский (молодой) и Лебедев (пожилой). Наши сестры дежурили у всех больных, но возле меня дежурили постоянно, по доброй воле, Вава и Лина, а иногда и Скоркина с Керлер – когда Вава и Лина были заняты. Пока я тяжело болела, они по очереди менялись каждый день, не оставляя меня ни на минуту.
На этом госпитальном судне врачей и медицинского персонала было много, и своих, и чужих, но все, как и мы, были без госпиталя. Старший врач судна был назначен еще до нашего прихода. Он был среднего возраста, но уже грузный, часто расхаживал по помещению, где находились больные, со своей дамой сердца, не скрывая своих отношений. Она была неприветлива, на всех смотрела свысока, что, вероятно, и полагалось в ее положении. Все наши врачи работали на судне и не особенно были довольны старшим врачом, кажется, из-за его заносчивости и грубости. Отношения особенно обострились, когда явилась турецкая санитарная комиссия, желавшая очистить пароход от заразных больных – их следовало отправить в турецкие госпиталя или больницы. Об этих больницах в то время шла дурная молва – из-за плохого ухода за больными и плохого питания. По этой причине из турецких больниц люди возвращались не всегда…
У Мокиевского и Лебедева состоялось несколько крупных разговоров со старшим врачом судна, который был готов выдать больных на попечение турок, чему оба наших врача противились, считая, что они могут изолировать и вылечить таковых на пароходе. Во время одного из таких крупных разговоров Лебедев и Мокиевский, заступаясь за больных, горячо поспорили со старшим, тот их оскорбил, и Мокиевский дал ему пощечину. Мокиевского и Лебедева арестовали и сдали в турецкую каталажку (также пользующуюся недоброй славой), но на второй день, по ходатайству Треймана, их выпустили.
После этого случая старший налетел на наших сестер. Как-то он пришел со своей дамой в наше отделение. Делая обход, он увидел, что возле меня сидит сестра, и спросил, почему она тут сидит. Сестра ответила, что это своя сестра милосердия тяжело больна и ей нужен уход. Он раскричался и сказал, что больная может обойтись и без сестры, как и другие, а она должна идти работать. Сестры, конечно, его не послушались, потому что прямо ему не подчинялись – у нас был свой старший врач, свои больные, – и продолжали дежурить возле меня в свое свободное от работы время. У меня уже в течение месяца держалась температура 40 градусов. Я настолько исхудала, так как ничего не могла есть, что от меня остались только кости, обтянутые кожей, и так ослабела, что без посторонней помощи не могла повернуться на другой бок.
У меня, кроме желудочной болезни, начавшейся с отравления, обнаружили тропическую малярию, почему высокая температура так долго и держалась. Впрыскивание хинина делал доктор Каракоз, врач с госпитального судна, но укол оказался неудачным – после него остался след на всю жизнь. За время болезни головные боли были невыносимы, и во сне мне казалось, что зубной врач, вместо зуба, тянет за мозг. Несколько раз Левушка приглашал врачей на консилиум, и те поставили диагноз – тифус абдоминалис. Головные боли они объясняли то воспалением мозговых оболочек, то малокровием мозга. Наконец, так как положение не улучшалось и во мне едва держалась душа в теле, на очередном консилиуме врачи заявили: «Не надо ее беспокоить и не надо лечить, дни ее сочтены…» Левушка их поблагодарил и сказал: «Можете больше не приходить, я сам буду ее лечить» и – вылечил. (Когда я стала поправляться, то поначалу не могла ходить, и меня выносили на руках на палубу в чудные солнечные дни, потом учили ходить, так как ноги, согнутые в коленях, не желали разгибаться, да и очень уж я была слаба, не держалась на ногах. Один доктор, принимавший участие в консилиуме, увидев меня, удивился, что я выжила, а другой сказал: «Совершилось чудо, что вы выжили и поправляетесь».)
Госпитальное судно стояло на рейде в Константинополе шесть-семь недель. Помню, голод уже ощущался. Турки на лодках окружали корабль. Они привозили продукты, но не продавали их за деньги, потому что денег турецких ни у кого не было, а меняли на золото или ценные вещи. Так длилось до тех пор, пока живущим на пароходе не разрешили сходить на берег.
Во время нашего стояния на рейде особенно запечатлившихся событий не произошло, если не считать следующего случая: однажды поздним вечером, когда многие в нашем отделении уже улеглись спать, вдруг раздается страшный крик одной из сестер. Все всполошились и побежали к ней, а сестра бегает как сумасшедшая и кричит. Разобрать ничего нельзя, едва ее остановили. Позажигали свечки и увидели, что у нее в волосах запуталась крыса. С большим трудом сестру освободили, оглушив крысу.
Нам казалось, что мы простояли в Константинополе долго. Вывожу из того, что я уже настолько поправилась, что могла выходить в город – осматривать достопримечательности и даже присутствовать на службе в мечети.
Как-то, когда карантин уже сняли и мы могли свободно сходить с парохода и посещать город, мы, несколько сестер, собрались пойти осмотреть Константинополь. Представилась возможность побывать и в мечети, на службе. Нам, женщинам, по чьей-то протекции отвели место в верхней части мечети, на балконе, за деревянной решеткой. Оттуда можно было видеть, как турки молились и все, что делалось внизу. Турки, как по команде, становились на колени и так же, по возгласу своего священнослужителя, все сразу поднимались. Запомнился мне необыкновенной величины ковер, цельный в длину и ширину, покрывающий огромный зал мечети. Мне очень хотелось побывать и в знаменитой мечети Айя-София, но я была еще слаба и дойти туда пешком не хватило бы сил. Все наши были там в другой раз, без меня.
В то время, в декабре 1920 года, Константинополь был переполнен и союзными войсками, и русскими беженцами. В городе была вечная сутолока. Очень бросалось в глаза, как надменно и вызывающе-грубо вели себя английские матросы. Они не считались ни с возрастом, ни с полом. Если проходили по улице, то дороги не только никому не уступали, но и расталкивали прохожих, которые попадались на их пути. Одним словом, вели себя, как победители-дикари.
На верхах союзники определяли нашу судьбу не лучшим путем. Они старались отделаться от своих «союзнических» обязательств и от русской массы, насчитывающей свыше ста пятидесяти тысяч человек. Распределить русских они решили следующим образом: казачьи части отправить на пустынный, необитаемый остров Лемнос в Эгейском море, а остальную регулярную армию под командой генерала Кутепова – в Галлиполи. Таким образом, как часть Добрармии, нас направляли в Галлиполи. Тогда говорили, что группа казаков не пожелала сдать оружие, как того требовали «союзники», и засела где-то за городом, в камнях, угрожая открыть стрельбу, если будут к ним подходить солдаты. На время их оставили в покое.
Глава 7. ГАЛЛИПОЛИ
В конце декабря 1920 года наше госпитальное судно разгрузили в городе Галлиполи, и с тех пор началось наше «галлиполийское сидение», длившееся два с половиной года. Общее распределение было такое: все строевые военные части расположились лагерем в семи верстах от города, а нестроевые части, включая медицинский персонал, госпитали Красного Креста и Белого Креста и беженцы – одинокие мужчины и женщины, не принадлежавшие к армии, – были размещены в городе. Все вместе, город с лагерем, называлось у нас одним именем – Галлиполи.
Как устроились военные в лагере, мне самой никогда не приходилось видеть, так как мне еще было трудно проделать такой длинный путь туда, а из перевозочных средств были только собственные ноги. Но я знала об этом от Левушки, который бывал у своих однополчан, да и они часто нас посещали и рассказывали о себе.
Под лагерь им было предоставлено поле, прозванное «змеиным царством» (рассказывали – когда копали землянки или ямки для палаток, то обнаруживали в земле массу змей, находящихся еще в зимней спячке). На этом поле военные расставили палатки, выстроили землянки и устроились по своим подразделениям. Распределены были по полкам. В распорядок дня входила военная учеба, которая уже была не нужна, но тлела надежда, что «скоро падет большевизм», армия будет переорганизована и вернется в Россию. Это делалось и для поддержки дисциплины, чтобы воины не распускались, что уже случалось. Все воинство и беженцы были под командой Кутепова, который драконовскими мерами поддерживал дисциплину. Об этом напишу позже.
В городе работал Американский Красный Крест, который помогал госпиталям – выдавал усиленное питание нуждающимся больным, а также добавочные продукты женщинам и детям. Выдавалось и одеяние, преимущественно женщинам и детям, главным образом пижамы, которые женщины перешивали себе на платья. В одежде многие сильно нуждались – вещи были потеряны или доведены до ветхости. Военные не получали ничего и, казалось, были на положении военнопленных, так как выходить за пределы Галлиполи без разрешения французских властей им было строго запрещено.
Город делился на две этнические части – турецкую и греческую. Нам отвели место в турецкой части. Мы поселились в полуразрушенном во время войны двухэтажном доме: верхний этаж был отведен для общежития врачей и их семейств, нижний – для питательного пункта американского Красного Креста, который кормил нуждающихся в усиленном питании воинов и беженцев. В том же дворе был двухэтажный дом, не пострадавший от бомбардировок, где верхний этаж предназначался для общежития сестер, а в нижнем жили хозяева-турки.
В «докторском» доме мы с Левушкой получили комнату, кое-как залатанную после бомбардировки. В соседней комнате поселилось несколько врачей-холостяков, и среди них Случевский и Лебедев. Еще две комнаты на нашем этаже были заняты семейными врачами. Вава, Лина и Скоркина устроились на работу в питательном пункте и жили там же, в комнате, отведенной для сестер.
Вскоре, в феврале 1921 года, пришли распределения: доктор Мокиевский получил назначение на эвакопункт (в госпиталь), доктор Случевский – в госпиталь Белого Креста, а меня, перенесшую тяжелую болезнь, устроили на легкую работу – в химико-бактериологическую лабораторию, которая находилась через два дома от нашего. Там уже работали два врача: доктор Черненко, заведующий лабораторией, он же ассистент Киевского университета св. Владимира (прекрасно воспитанный, культурный человек, молодой, скромный и во многом напоминающий доктора Ефремова), доктор Малышев, помощник Черненко, простоватый и грубоватый, и был доктор Тихонов, никогда в лабораторию не заглядывавший (молодой, я его всегда видела с книгой в их комнате – он читал и никогда ни с кем не заговаривал). Был еще мальчик – гимназист старших классов, он имел чудный каллиграфический почерк, был очень застенчивый, тихий и молча делал свое дело.
Как только немного устроились и я ознакомилась с новым местом, я попросила доктора Черненко принять в лабораторию Ваву – она очень этого хотела. Черненко согласился, и Ваву перевели к нам.
Лина пожелала остаться на питательном пункте сестрой-хозяйкой. Доктор Мокиевский недолго оставался на эвакопункте, ему предложили занять должность заведующего базисным складом.
До назначения доктора Мокиевского на базисный склад там были большие хищения и, как говорили, медикаменты отправлялись вместе с другими товарами на противоположный берег Дарданелл для спекуляции. Кто отправлял – я не знаю, кто заведовал складом раньше, тоже не знаю. Когда о хищениях узнали в высших сферах, предложили доктору Мокиевскому, как хорошему администратору и надежному человеку, занять должность заведующего.
Оккупационная зона была французская. В русской армии с переездом в Галлиполи начался голод, так как паек, выдаваемый французами, был ничтожным. В городе торговали евреи и греки, лавки были полны товаров, но русские не имели денег, чтобы купить их, а у многих не было никаких вещей для обмена их на продукты. Во время болезни у меня пропал саквояж с документами и небольшим количеством валюты. Многие были в таком же положении. На одном французском пайке более слабые здоровьем не выдерживали, и меньше чем за год на окраине города образовалось большое русское кладбище, которое тогда же украсили памятником. (Летом 1921 года объявили в городе и по лагерю, чтобы каждый русский принес по камню для памятника. Все принесли – кто какой величины мог. И памятник вышел большой и довольно оригинальный, в форме пирамиды.) Снимки этого памятника печатались во многих журналах того времени.
Несмотря на полуголодное существование, мы старались не падать духом. Собрались артистические силы, и в лагере устраивались концерты, спектакли. Пользовались успехом певица Банина, балет Баумгартена и другие артисты. Среди них была дореволюционная знаменитость Н. Плевицкая.
Еще в России, во время боев, Плевицкая и ее муж, офицер, перебежали на сторону Белой армии и попали в храбрый Корниловский полк, которым командовал генерал Скоблин. В Галлиполи, в церкви, после литургии в одно из воскресений она дала концерт для городской публики. Об этом было объявлено заранее, и народу в этот день собралось много. Но она не очень баловала своим пением, и этот концерт в городе был единственным.
У командира Корниловского полка завязался любовный роман с Плевицкой, и они решили пожениться. Для этого она должна была развестись со своим мужем. Разрешение на разводы тогда получали через духовенство в Константинополе, быстро. Вскоре после концерта Корниловский полк устраивал в лагере торжественный ужин по случаю какого-то праздника, и во время ужина Скоблин объявил (а может быть, и она – точно не помню), что он и Плевицкая решили пожениться. Тогда поднялся ее муж и при всех дал ей пощечину. Этот скандал быстро стал известен в городе. Что было после этого с ее мужем – не знаю, и о нем я больше никогда не слыхала, но он дал развод и «молодые» все-таки поженились. Это была комедия, предшествующая трагедии. Плевицкая вошла в доверие к семье Кутепова, завела с ними тесную дружбу и даже крестила у них ребенка. Как Плевицкая и Скоблин предали Кутепова красным в Париже, об этом писать не буду, в свое время об этом в зарубежной прессе было написано много.
Жизнь в лагере и в Галлиполи протекала нормально. Несмотря на голодный паек, в полках продолжались военные занятия. Кутепов завел в городе гауптвахту, которую окрестили названием «губа» и которая никогда не пустовала. За малейший промах попадали на «губу». Например: идет по улице младший офицер или какой-нибудь военный, засмотрелся на витрину или что другое и не заметил, что вблизи проходит (иногда и по ту сторону улицы) генерал Кутепов, и не отдает генералу честь. К нему подходит Кутепов: «Вы почему не отдали честь? – И, не ожидая ответа: – На губу!» – на столько-то дней. И таким образом, знаменитая «губа» всегда была переполнена. Этой участи подвергались не только офицеры. Своими крутыми мерами Кутепов сделал из разбитой армии дисциплинированную, образцовую. Для поддержки морального духа в войсках начальство при каждом удобном случае уверяло, что скоро Россия освободится от большевиков и мы вернемся в Россию, которой нужна будет сильная армия.
Так мы прозябали до конца зимы 1921 года. Обыкновенно в Галлиполи снега не бывало, и даже старожилы никогда его не видели, а в эту зиму выпал снег, и жители говорили, что русские принесли снег и зиму в их край. Так как дождей во время нашего пребывания не было, то никто из врачей холостяцкой комнаты не обратил внимания на крышу, которая была в некоторых местах дырявая. Поэтому ночью, в «снегопад», через дыры надуло в комнату снега, и они проснулись, все покрытые снегом.
Голод заставлял русских продавать свои вещи, чтобы питаться лучше, но греки, скупая ценные вещи за бесценок, еще торговались, стараясь заплатить как можно меньше, пользуясь тяжелым положением голодных людей.
Подошли Великий пост и Пасха. Для церковных служб греки уступили нам свою церковь. Пасхальную службу украшал прекрасный хор. Церковь всегда была полна молящимися. После Пасхи англичане, оккупационная зона которых находилась по соседству с французской, всего в нескольких километрах, предложили русским, кто желает, работу в их зоне. Русская молодежь с радостью приняла это предложение, и довольно большая группа двинулась на работы к англичанам. Остались в охране Кутепова юнкера. Эти веселые ребята выкидывали такие номера с французами, что требовалось даже вмешательство Кутепова. Так, например: среди ночи вдруг под окнами французского коменданта раздается кошачий концерт – это юнкера развлекаются. Или увидят на пляже проходящий патруль сенегальцев и начинают их атаковать, до тех пор пока не загонят в море, в котором сенегальцы находили спасение. Из страха перед юнкерами сенегальцы, завидев их издали, сворачивали в сторону или убегали. Юнкера прозвали их Сережи. Французский комендант жаловался Кутепову, но Кутепов любил юнкеров, и им все сходило с рук. Хотя Кутепов и обещал французам принять меры и наказать виновных, но таковые никогда не находились.
Как известно, в то время в Турции Кемаль-паша Ататюрк воевал с греками. К Кемалю-паше присоединилась та группа казаков, которая не подчинилась приказу союзников сдать оружие. Когда Кемаль-паша победил, грекам в Галлиполи было приказано покинуть местность в течение двух дней. Так как греки за такое короткое время не могли эвакуироваться с вещами, то все имущество бросили, взяв с собой только самое необходимое и столько, сколько могли унести с собой, так как пароходов для отправки было очень мало. Теперь и они стали беженцами, оставив все. За то, что они обирали наших беженцев, пользуясь их отчаянным положением, получилось: «Как аукнется, так и откликнется».
В городе имущество, брошенное греками, кем-то было взято под покровительство – то ли турецких властей, то ли оккупационных, не помню, но в деревнях брошенный скот и птица бродили голодные. Так как турки свиней не употребляли, то разрешили русским забрать их. После отъезда греков многие лавки были закрыты, и как-то пусто стало на улицах. Жизнь же русских текла по-прежнему.
Такому огромному количеству людей, живущих тесно и открыто, как на ладони, трудно скрыть какие-нибудь происшествия, даже малозначительные или семейные. Все становилось сразу же известно всему русскому населению. Были такие господа, которые от безделья интересовались всем, что происходило среди русских, и потом разносили как новость. Людям, изолированным на полуострове, были интересны всякие новости, которые вносили разнообразие в их скучную жизнь, хотя это были часто и заведомые «утки» (выдумки).
Поскольку власти обещали в «скором времени» вывезти всех в другие страны, то время от времени кто-нибудь пускал «утку» – «скоро едем», и всегда с заверением, что это «из достоверных источников». Публика к этому желанному моменту старалась всегда быть готовой, и многие верили и буквально сидели на упакованных чемоданах, а женщины, в ожидании скорой поездки, говорили друг другу: «Ну вот, это уже последняя стирка, у меня все готово». И для них, бедных, время тянулось долго.
Итак, в терпеливом ожидании были все, кроме влюбленных, и случилось происшествие, удивившее многих. Доктор П., молодой, приятной наружности, всегда спокойный, был влюблен в сестру Веру (фамилию не помню). Она ему не отвечала взаимностью. Он добивался встреч с нею, а она избегала его. И вдруг в один тихий летний вечер в русском районе один за другим раздались выстрелы. Это доктор П. стрелял из револьвера в дверь дома, где жила сестра Вера и другие сестры. Когда он выпустил весь заряд, его обезоружили – он был очень пьян. Дело, конечно, дошло до Кутепова, и доктор отбыл положенное наказание на «губе». К счастью, пули никого не задели.
Как-то, возвращаясь из лаборатории, я проходила через двор нашего дома, и вдруг из общежития с криком о помощи выскочила одна из сестер. В это время на питательном пункте, заканчивая есть, задержалось несколько человек, которые поспешили на ее крик. Сестра повела их в свою комнату – у нее на кровати, покрытой белым покрывалом, ярко выделялась свернувшаяся большая змея, которая спала. Ее убили и выбросили на площадку перед нашим домом. Там она пролежала остаток дня, ее видели и поздним вечером, а наутро она исчезла, вероятно, ожила и уползла. Таких визитеров находили много в лагере, в постелях, и никто не ложился спать, не проверив постель, потому что заползали не только змеи, но и скорпионы, сколопендры и другие твари.
Не помню, сколько времени прошло, когда поступило предложение из Сербии о принятии желающих кавалеристов в пограничные войска Королевства СХС (сербов, хорватов и словенцев). Отозвалась вся строевая кавалерия, в том числе и остатки 9-го Киевского гусарского полка. Доктор Мокиевский отказался ехать с ними, так как не хотел на пограничную службу, хотя и имел большое желание попасть в Сербию.
Наконец сдвинулись с точки замерзания, и публика немного ожила в ожидании скорого расселения. Многие уезжали в одиночку, получая визы в другие страны от родственников и знакомых, а иные просто переезжали в Грецию на работы.
Доктор Мокиевский при помощи фармацевта Вениамина Германовича Левитана в короткое время привел в порядок и базисный склад, и регистрационные книги. Переписали все медикаменты, которые поступали от Международного Красного Креста. То, что полагалось на рассыпку и утечку сверх положенного веса, также и излишки от этого – все записывали в приходную книгу. Работать приходилось много, и Левушку я видела только поздно вечером по окончании работы.
В окружении Кутепова был такой доктор Кожин, который стремился на место заведующего складом, веря, что там можно поживиться, и от зависти состроил интригу, чтобы попасть на место Мокиевского. Кожин уверял Кутепова (без ведома Треймана, который в Галлиполи был армейским врачом и был еще в России в дружеских отношениях с Мокиевским), что на складе ведутся хищения. Кутепов поверил и назначил проверочную комиссию во главе с Кожиным. Комиссия нагрянула на базисный склад неожиданно. Кожин представился Мокиевскому как глава комиссии, представил и членов комиссии и заявил, что по приказанию Кутепова комиссия намерена проверить книги и все медикаменты на складе. Доктор Мокиевский поручил Левитану дать книги и показывать медикаменты. Кожин старался придраться к каждой мелочи, чтобы обнаружить неправильности или хищения, но это ему не удавалось. Так они проработали больше недели, ища «Панаму», но никаких неправильностей не нашли, и им пришлось дать положительный отчет. Кутепов в приказе поблагодарил доктора Мокиевского за хорошую службу и представил доктора Мокиевского-Зубок к генеральскому чину. Доктор Мокиевский настолько был возмущен проявленным перед этим недоверием, что, когда доктор Трейман принес ему бумаги для подписи на представление в чин генерала для отправки их в ставку Врангеля, он отказался их подписать и сказал, что не желает никаких наград, тем более что не считает это правительство правомочным. Несмотря на доводы доктора Треймана, Мокиевский остался непреклонным. Трейман был очень смущен – сам он еще в Крыму получил генеральский чин как первопоходник и любимец Кутепова.








