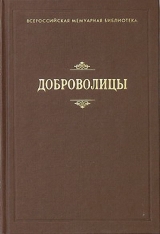
Текст книги "Доброволицы"
Автор книги: Татьяна Варнек
Соавторы: Зинаида Мокиевская-Зубок,Мария Бочарникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Возвратный тиф
Я отвезла своих больных в эпидемический госпиталь, где лежали все наши сестры, заболевшие раньше. Места там не было: во всех коридорах лежали даже на полу и вперемешку мужчины и женщины, ожидая места в палате. Но сестер все же устроили в женские палаты. Когда они были приняты, я попросила, чтобы взяли и меня, сказав, что у меня возвратный тиф и скоро начнется второй приступ. Мне измерили температуру – она была нормальной, и меня не приняли, но сказали, что если она поднимется, то я могу прийти и меня примут. Я пошла к Ане, которая жила со своей подругой Татьяной Стуловой. Они занимали комнату с кухней в большой пустой квартире, где не было даже мебели.
Аня меня отвела в пустую комнату, положила на пол бумаги, принесла таз с горячей водой. Так что я смогла наконец вымыться, переодеться и уничтожить множество вшей. Бумаги с пола мы все сожгли. Ночевала я отдельно, тоже в пустой комнате на полу, чтобы не занести Ане вшей.
Утром у меня поднялась температура, и Аня на извозчике отвезла меня в госпиталь. Меня сейчас же приняли, вымыли в ванне, под машинку остригли волосы и отнесли в палату. Из наших сестер там лежала сестра Г.: она страшно бредила, металась и через два дня скончалась. Потом я узнала, что умерла сестра П…ская, которую я тоже привезла. Наши сестры все поправились, а из свято-троицких половина умерло, среди них две сестры Рейтмигер. Я думаю, что мы все не так скоро заболевали и выдержали тиф, потому что привыкли к работе в походе и кое-кто из нас побывал на фронте – мы постепенно втягивались в эту страшную работу и обстановку, в которой очутились около Ростова. Может быть, и первые, редкие укусы вшей дали нам некоторый иммунитет, тогда как свято-троицкие сестры, работавшие в нормальном хирургическом госпитале, попали в зараженный, грязный, переполненный поезд на тяжелую работу, когда с первой же минуты их стали массами заедать вши.
Тиф у меня был в очень тяжелой форме, и мне все время впрыскивали камфору. Во время второго приступа я сознания не теряла, но во время третьего говорила глупости и бредила. Между вторым и третьим приступами я была настолько слаба, что уже не могла вставать с постели, и меня перекладывали санитары на носилки, чтобы ее перестелить.
Аня приходила несколько раз меня навещать и, помню, приносила сосать апельсины, которые она где-то доставала. После третьего приступа, когда я немного пришла в себя, доктор хотел мне влить силоварзин. Оказалось, что приступов может быть намного больше, чем три, а силоварзин сразу прекращает болезнь, но я узнала, что, прекращая болезнь, он уничтожает иммунитет, и можно снова заразиться. Поэтому, хотя доктор очень настаивал, я не согласилась. И хорошо сделала, так как четвертого приступа не было. Постепенно я начала поправляться, но очень медленно. Сыпной тиф в Румынии прошел у меня гораздо легче.
В Туапсе на поправку
Наконец 5 февраля меня выписали и дали отпуск на поправку. Аня отпросилась на несколько дней на службе и повезла меня в Туапсе. Я еще не твердо держалась на ногах. До вокзала мы доехали на извозчике, а там Аня взяла мои вещи, у меня же было в каждой руке по маленькому мешочку. Давка на платформе была ужасная! Мы отправились к офицерскому вагону. Там тоже с боем забрались в вагон. Аня энергично проталкивалась вперед, все время меня подбадривая, чтобы я не отставала. Но два моих мешочка в руках цеплялись за окружающих и не давали мне двигаться: они стали казаться невероятно тяжелыми и тянули меня вниз. Я же ни за что не хотела их выпустить из рук. Сил больше не было, я упала среди толпы и громко расплакалась. Послышался дикий голос Ани, подхваченный многими другими: «Сестру задавили! Сестру задавили!!!». Сразу все расступились, меня подняли на руки и внесли в вагон, сейчас же мне уступили целую койку внизу. Но я попросила положить меня наверх, где спокойнее, а внизу будет больше места. Так и сделали. Я стала засыпать под оживленные разговоры Ани, сидящей внизу с офицерами.
В Туапсе мы благополучно добрались до своих, живших недалеко за городом у лесничего. Нас накормили, уложили спать, с тем что на другой день Аня поедет обратно в Екатеринодар.
Я была еще настолько слаба, что туапсинский период плохо помню: есть даже провал в памяти. Записать все очень трудно.
На другое утро Аня уехала обратно в Екатеринодар. Мы с папой проводили ее до поезда, папа устроил ее в офицерский вагон, где было много народу. Он обратился к старшему из офицеров и попросил взять Аню под свое покровительство, тот папе обещал и сказал, чтобы папа не беспокоился – Аня будет благополучно доставлена в Екатеринодар. Это был полковник Генерального штаба барон Ш… (?). Фамилию, к большому сожалению, забыла. Возможно, что Штакельберг, но не Штромберг, не Штемпель и не Штенгель. Это был человек средних лет, не очень высокий и полный.
Зеленые
На другой день после обеда папа и тетя Энни спустились в город. Я осталась одна с лесничим и его семьей, которая состояла из его жены, сестры жены и ее сына, добровольца-кадета Миши, лет пятнадцати-шестнадцати, приехавшего в отпуск. Дом лесничего стоял одиноко на склоне горы, над городом. Задняя сторона, где был вход, выходила в лес, поднимающийся в гору. Передняя часть была открыта и смотрела вниз на город.
Вскоре после того, как ушли папа и тетя Энни, с гор из леса начали стрелять из ружей в нашем направлении. Стрельба все усиливалась, приближалась, и пули стали попадать в дом. Мы сообразили, что это зеленые. Сейчас же стали прятать вещи, а кадет Миша и я заволновались из-за своих документов, форм, значков и т. п. Спешно куда-то все рассовали и, так как в доме опасно было оставаться, мы все спустились в большой подвал, где был склад продуктов для лесничества.
Заложили окна мешками с мукой. Миша захватил с собой свечку, и мы с ним, сидя на полу, жгли самые компрометирующие документы, добровольческие значки и т. п. Самым страшным было – это Мишина винтовка, которую не успели никуда забросить и только положили на полу на балконе. Патроны он бросил в уборную, ему за это попало, так как вода не могла проходить и их легко могли найти.
Сколько времени мы сидели в подвале, не помню, но в конце концов стрелять в дом перестали, и мы услышали, что зеленые его обошли и стали стрелять по городу, усевшись под противоположной стеной дома. Тогда мы поднялись наверх и стали ждать. Но не долго!
Вошли два или три человека с обыском. Сказали, что ищут оружие. Искали они тщательно, но ничего не брали. Я под свой матрац спрятала кусок материи, который мне выдали на форменное платье, и еще что-то. Когда один из них («кавказский человек») поднял матрац и вытащил материю, он на меня напал и стал кричать, что я напрасно прятала, что они честные люди, а не воры и грабители, как добровольцы! Меня это так обидело, что я упала на кровать и громко расплакалась.
Он подошел ко мне, стал хлопать по плечу и меня успокаивать. Очевидно, что это действительно был неплохой человек, случайно попавший к большевикам. Этим обыск в нашей комнате кончился.
У лесничего было, конечно, страшное волнение: там обыскивали серьезнее и все время повторяли, что если найдут оружие, то Мишу расстреляют. И когда они пошли на балкон, все думали, что уже конец, но мать Миши успела встать ногами на лежащую у стены винтовку и закрыла ее юбкой. Чудом они не заметили. И – ушли!
Папа и тетя Энни выждали окончание стрельбы в городе и с волнением вернулись обратно. Город был занят зелеными. Это было приблизительно начало февраля 1920 года.
Зеленые – это был авангард большевиков – вошли в город неизвестно откуда. Это еще не была их регулярная армия, но просочившиеся от них. Сразу же начались регистрации, аресты и обыски.
Провокация
Вскоре после того, как вернулись папа и тетя Энни, к вечеру, появилась Аня. Она была страшно усталая и взволнованная. Оказалось, что еще на кануне, то есть в день ее отъезда из Туапсе, на какой-то станции в тридцати верстах от города их поезд был задержан спустившимися с гор большевиками. Офицеров всех сразу же арестовали, многие просили Аню им помочь и давали ей свои документы, деньги и ценные вещи. Но ее тоже захватили и заперли в какой-то сарай со всеми. Там они провели ночь. Пассажиров поезда тоже задержали на станции. Утром Ане удалось уйти. Кажется, она не была освобождена, но как-то улизнула. Перед уходом она вернула всем офицерам их вещи и бумаги.
Только полковник барон Штакельберг(?) (м.б., иначе: не помню точно) отказался взять свой пакет денег, на громадную сумму, сказав, чтобы она унесла и спрятала у себя. С Аней ушел еще какой-то офицер в штатском – был ли он офицер? Неизвестно! Пошли они обратно пешком. Этот субъект имел драгоценности, кольца и брошки с бриллиантами. Не помню, что произошло, но этот человек хотел заставить Аню взять эти бриллианты или, когда она их ему возвращала, он настаивал, чтобы она их оставила у себя. Тип этот ей очень не нравился, она не уступила, и бриллианты остались у него. Домой она принесла только деньги полковника. Пока ее накормили и обо всем расспросили, было уже очень поздно. После всего пережитого так устали, что решили деньгами заняться на другой день и найти, куда их спрятать, а на ночь забросили на шкаф в комнате.
Не успели мы заснуть, как пришли с обыском и сразу спросили, где у нас деньги. Мы ответили, что денег у нас нет, тогда начали обыскивать нашу комнату и почти сразу же полезли на шкаф и нашли. Они их забрали, больше ничего не искали, а в комнаты лесничего даже не заходили. Это было так неожиданно и непонятно!
Но на другой день все разъяснилось: полковник Генерального штаба барон Ш. в Туапсе занимал видный пост у большевиков, а тип, который шел с Аней до Туапсе и говорил, что он офицер, оказался комиссаром.
Эти два субъекта все устроили и хотели Аню спровоцировать. Дальше я помню очень смутно и многому не была свидетельницей, знала из рассказов тети Энни и папы. На другой день после Аниного прибытия и обыска полковник Ш. прислал за деньгами. Ему подробно объяснили, что произошло, но полковник Ш., не появляясь сам, все более настойчиво стал требовать и начал угрожать, обвиняя Аню в краже или передаче денег кому-то другому. Он передал это дело в специальную комиссию, во главе которой был тип в штатском, провожавший Аню и совавший ей свои бриллианты. Дело приняло очень серьезный оборот.
К счастью, это была еще не настоящая советская власть, а отдельная группа, которая еще не чувствовала свою силу и действовала не так быстро. Но тем не менее комиссар, угрожая, начал вызывать Аню к себе. Но как-то удавалось оттягивать, и она не ходила. Боялись ареста; Аня страшно переживала, волновалась, и ей было очень тяжело все это.
Она с таким чистым сердцем и от всей души старалась помочь офицерам в вагоне, пряча их документы и деньги, а ее стали забрасывать грязью и угрожать. Положение стало безвыходным: получили еще бумагу от комиссара и боялись, что на другой день ее арестуют.
Но в этот день она заболела тифом, и ее отправили в заразный лазарет, находившийся в бараках на пустыре перед вокзалом. Ей дали отдельную комнату и разрешили мне оставаться с ней.
Заразилась Аня ночью в сарае, куда была заперта с офицерами и где их заедали вши. Тиф сразу же принял тяжелую форму: все волнения последних дней сильно сказались. Аня сразу же стала терять сознание, бредить и метаться. Она то лежала тихо, то вскакивала с безумными глазами и кричала: «Они идут, они хотят нас расстрелять! Беги! Беги!» Хватала меня и старалась спрятать под подушку, потом снова затихала. Так длилось несколько дней. Я все время сидела или лежала около нее.
Раз днем она лежала спокойно, и я сидела рядом. Вдруг она вскочила, оттолкнула меня, перебежала через комнату, пробила окно и бросилась в него. Все это произошло в каких-нибудь две-три секунды. Но я успела вскочить и схватить ее за ноги. Она уже успокоилась и была в полубесчувственном состоянии. Я едва смогла дотянуть ее до кровати и уложить. К счастью, ни руки, ни голова не пострадали, была только большая, но неглубокая рана на бедре от пореза стеклом.
В этот же день или на следующий к Туапсе подошел наш добровольческий миноносец «Беспокойный» и начал обстреливать вокзал: снаряды летели через нас и рвались совсем близко. Я думала, что Аня совсем сойдет с ума: она так металась, рвалась убежать, что я едва-едва могла ее удержать. Ведь после моей болезни сил у меня было не так уж много.
Когда обстрел кончился, я побежала домой и попросила перевести Аню в другое место: там оставаться было невозможно! С большим трудом удалось ее устроить в местную больницу, где ей дали маленькую комнату и тоже разрешили мне остаться с ней.
Больница была далеко от вокзала, и я там не была одна, как в бараке. Мне всегда могли помочь, доктор был очень внимательный, но почему-то ни разу не впрыснул ей камфоры. А ей, по-моему, это было необходимо. Хотя сердце работало хорошо, но при страшной температуре и всех физических усилиях, которые Аня делала, чтобы убежать, оно должно было устать – чем дальше, тем больше она буйствовала. Я уже больше не могла ее удержать на кровати, у меня так разболелась спина, что я почти не могла нагибаться и становилась на колени на пол, чтобы делать ей то, что надо. Наконец доктор решил ее привязать к кровати. Ее привязали широкими полосами материи, через ноги и через грудь. Но она умудрялась оттуда выползать.
Сколько длилась ее болезнь – не знаю. Но наконец дело пошло на поправку, и ее выписали. Она была похожа на мальчишку: длинная, худая, с бритой головой. Дома она начала быстро поправляться. Перед болезнью у нее была шапка вьющихся волос. Она их в Екатеринодаре начала подстригать.
Под властью большевиков
Пока я была с Аней в госпитале, я почти ничего не знала о том, что делалось в городе и у наших. И только когда мы вернулись домой, тетя Энни и папа все нам рассказали. У меня есть папины краткие записки, написанные уже в Мессине, и по ним кое-что могу восстановить.
В городе начались обыски, регистрации, аресты. У нас тоже обыскивали и понемногу отбирали последние вещи. Драгоценности, которые папа выкопал в Москалевке, были заново зарыты в лесу лесничества и остались целы. Но часть документов и вещей отдали на хранение нашему верному рабочему – Виктору Шевченко, который приезжал нас проведать. Уезжая из Туапсе совсем, все это не удалось получить, так как город был отрезан и Виктор приехать не мог!
Папу тоже вызвали на регистрацию, тетя Энни его одного не пустила и пошла сама с ним. Они не знали точно, куда идти, пошли в штаб большевиков и случайно там наткнулись на начальника штаба, с университетским значком. Они расспросили, в чем дело. Тетя Энни выступила с объяснениями: сказала, что папу вызвали на регистрацию, но что он много лет уже в отставке, никогда не воевал, живет у себя в деревне, занимаясь дровами.
Начальник штаба объяснил, куда идти, и позвонил по телефону какому-то товарищу Сафонову, что папа идет к нему, чтобы он не задерживал и произвел регистрацию.
Когда наши выходили из штаба, они увидели вооруженную толпу солдат, которые вели какого-то несчастного старика. Оказалось, что это генерал Бруевич, командующий гарнизоном Туапсе. Он был так избит, что не мог идти, и шел, согнувшись, опираясь руками о землю. Вид его произвел самое тяжелое впечатление, и тетя Энни сказала: «Какой несчастный». Это очень не понравилось солдатам, и они ответили: «Это не несчастный, это генерал Бруевич, который подписывал смертные приговоры, и мы ведем его на суд!»
Папа был в штатском платье, но кто-то из толпы обратил на него внимание и крикнул: «Я узнаю этого человека, это переодетый генерал! Возьмем его с собой!». Папа ответил, что идет на регистрацию и с ними не пойдет. Но на это не обратили внимания и стали кричать: «Нечего его слушать, берем его с собой!». Положение было отчаянное. Но тетя Энни, не потерявшая присутствия духа, крикнула: «Начальник штаба нам приказал идти на регистрацию к товарищу Сафонову, и мы должны идти туда!».
К счастью, тетя Энни услышала и запомнила эту фамилию, очевидно, важной персоны, потому что солдаты сразу же успокоились и отпустили папу, но их старший назначил двух конвойных, чтобы те следили за тем, чтобы папа не сбежал.
Так они дошли до товарища Сафонова, которому конвойные объявили, что привели двух арестованных, но папа сказал, что это неправда, что они пришли сами, по указанию начальника штаба, на регистрацию.
Сафонов, который знал о папе от начальника штаба, отправил конвойных и затем сказал тете Энни и папе, что они свободны. Они ушли и сами не верили, что так отделались: не будь тети Энни, папу арестовали бы и бросили в тюрьму, как всех остальных.
Почти весь туапсинский гарнизон был уже арестован, а с ними и все случайно жившие в Туапсе офицеры и даже отставные. Все они сидели в страшной тесноте в туапсинской тюрьме. Каждый день выводили по нескольку человек в пригород Вельяминовка, заставляли их рыть могилу, а затем расстреливали.
Вскоре снова пришли к нам с обыском, ничего не нашли, но приказали папе идти с ними на какую-то новую регистрацию. Тетя Энни, как всегда, пошла с папой. Их провели в какое-то подвальное помещение (бывший винный погреб), переполненный задержанными офицерами. Среди них оказались генерал Пестружицкий и генерал Афанасьев, мужья двух подруг тети Энни – Лулу и С.Вас. Афанасьевых.
Посередине подвала, на возвышении, стоял стол, за которым сидели какие-то люди и вели допрос. Впечатление было отвратительное. Перед папой никого из допрашиваемых не отпустили и куда-то их отправляли. Когда очередь дошла до него, начались обычные вопросы; папа на все отвечал, сказав, что давно живет в Туапсе и поставляет дрова населению. Это, очевидно, им понравилось, и они папу отпустили.
Тетя Энни, которая поджидала на улице, конечно, страшно обрадовалась, и они потихоньку пошли домой. Другие два генерала были посажены в тюрьму. Так шли дни за днями – в ожидании нового допроса, ареста и в волнениях за Анино здоровье. Когда мы с ней вернулись из больницы, Аня стала очень быстро крепнуть.
В Туапсе в то время оказалась одна моя гимназистка – Лида (де) Опик (теперь Родзянко). Она самоотверженно, с большим риском для себя, умудрялась получать пропуск в тюрьму. Она каждый день туда ходила, приносила еду, которую доставала, где могла, и старалась, чем можно, помочь заключенным. В подвале дома лесничего был большой склад продуктов. Главным образом муки и сала. К нему большевики поставили часовых. Но Аня почти каждый день туда проникала, как-то обманув часовых, и утаскивала куски сала, которые передавала Лиде, а та несла в тюрьму.
Владычество большевиков длилось у нас немного больше месяца. И наконец мы стали замечать, что они стали менее свирепыми и понемногу стали куда-то исчезать.
Мы узнали, что от Армавира идет наша армия. В одно прекрасное утро увидели наших добровольцев. Но радость была небольшая: мы узнали, что это отступление и что за ними идет вся Красная армия. Мы очень боялись за судьбу сидевших в тюрьме: большевики, уходя, могли всех расстрелять. Они так и хотели, но ночью один из караульных открыл дверь и всех выпустил.
Многие части наших войск в городе не задерживались и уходили прямо на юг, на Сочи. Мы поняли, что нам предстоит эвакуация. За войсками стали приходить беженцы, главным образом с Кубани, и калмыки. Эти последние приходили целыми семьями, на своих повозках и ведя коров и лошадей, – все это запрудило город. У нас на побережье ни пастбищ, ни лугов не было; даже в нормальное время было трудно купить сена: каждому едва хватало на его пару лошадей.
А когда пришла конница и беженцы со своими лошадьми и коровами, через день уже ни клочка сена достать было нельзя.
Части казаков погрузили на пароходы, и их лошади остались на берегу. Они стояли голодные, качались, падали и многие подыхали. Калмыки бегали всюду, умоляя накормить их лошадей. Многие старались продать их за гроши, лишь бы их спасти: мне предлагали повозку и трех лошадей почти даром, – но на что они были нам тогда нужны? Мы с Аней стали ходить на берег и уводить лошадей за город. Но многие были так слабы, что не шли за нами. Нам удалось найти торбу с овсом. Дело пошло лучше: мы показывали торбу лошадям, и они плелись по нескольку штук за нами. Так мы вывели их немало в лес.
Аня совсем окрепла и чувствовала себя совсем хорошо.
15 марта, за несколько дней до эвакуации, в Туапсе вошел миноносец «Дерзкий», на котором Петя был сигнальщиком. Мы с ним виделись не много, так как он был очень занят. Раз мы наблюдали, как он, стоя на берегу в порту, быстро сигналил флагами и переговаривался таким образом с миноносцем. Два последних дня перед нашим отъездом мы с Петей не виделись. Петя думал, что мы эвакуируемся на «Хараксе», и случайно увидел нас на «Duchafault», когда мы проходили мимо «Дерзкого». В эти дни миноносец ходил каждый день на фронт – к нашей деревне Небуг и к более дальней Ольгинке. Они обстреливали побережье, шоссе и даже в одном месте разбили ольгинский кордон. Вернулся Петя с Кавказского фронта только 9 апреля. (О смерти Ани, о чем я расскажу ниже, он узнал только по возвращении в Севастополь.)
Когда мы узнали, что начинается эвакуация, мы записались, и нам было назначено грузиться на пароход «Харакс», который шел в Феодосию. Начали спешно укладывать свои пожитки, как накануне отъезда Аня снова заболела: у нее поднялась температура, стало болеть горло…
Мы все же готовились к отъезду и перевезли часть вещей, но к ночи Ане стало хуже, температура больше 40 градусов, страшно распухла шея, и она стала задыхаться. Доктор не мог определить, что у нее. На другой день, когда надо было грузиться, ей стало еще хуже; доктор сказал, что ей нельзя ехать. Положение наше было отчаянное: ни папе, ни мне оставаться было нельзя! А что ждало тетю Энни с Аней во власти большевиков? Да если за ними придет барон Ш.? Все же тетя Энни сказала, чтобы мы уезжали, а она останется с Аней. Аня умоляла ее не оставлять, но мы с папой все же ушли в последний момент.
За городом уже была слышна стрельба: многие пароходы уже уходили. Мы с папой попали в переполненную, душную кают-компанию, едва нашли место, чтобы сесть. Думали, что сейчас отчалим, но время проходило, и «Харакс» не двигался. Уже наступил вечер. Люди томились, сидя на своих вещах. Папа все время молчал, и я видела, как он волнуется. Я сидела молча и решала, правильно ли мы сделали, оставив Аню и тетю Энни у большевиков. Я боялась за папу, зная, что с его здоровьем и больным сердцем он не выдержит этой разлуки навсегда, не имея даже возможности получать какие бы то ни было вести; кроме того, только тетя Энни могла так за ним ухаживать и так его оберегать. А Аня и тетя Энни? Одни у большевиков? Без копейки денег, без вещей (так как все было уже погружено с нами), и при болезни Ани. Их обоих на другой день могли посадить в тюрьму хотя бы уже потому, что мы с папой уехали. Если Аня не выдержит и тетя Энни останется одна? Ее жертва будет напрасна! Погибнут все: они две и папа. А брать Аню с собой? Доктор сказал, что опасно! А что опаснее – брать или оставлять? Я сидела и думала, думала. На папе лица не было: он молчал и тяжело переживал. Что он думал? А «Харакс» не уходил. Наконец я решилась и сказала папе: «А не пойти ли за нашими?» Папа сразу ожил и сказал, чтобы я скорее за ними шла и привела их на пароход.
Я побежала. Узнала, что пароход еще не отходит, нашла какую-то повозку и быстро, уже ночью, доехала до лесничества.
Тетя Энни сидела около Ани, которая очень волновалась и все просила ее увезти, говоря: «Я лучше хочу умереть, чем остаться у большевиков!» Она очень обрадовалась моему появлению.
Тетя Энни со страхом услышала наше решение, говоря, что Аню везти нельзя. Все же мы сразу ее подняли, положили на телегу и довезли до пристани. В кают-компании ее устроили лежать. Но видно было, как ей тяжело дышать. Так мы провели ночь и начало дня.
Вдруг папа увидел входящую в порт французскую канонерку «Duchafault», которая пристала недалеко от нас. «Харакс» еще не уходил, и папа пошел к командиру канонерки Lieutenant de vaisseau Charles Aubert [11]11
Капитан-лейтенанту Шарлю Оберу (фр.). – Прим. ред.
[Закрыть], попросить, чтобы он нас взял с собой. Он сразу согласился, и мы перебрались туда. И командир, и офицеры удивительно сердечно к нам отнеслись и старались, как могли, нам помочь. Командир уступил папе и тете Энни свою каюту, а один из офицеров – Ане и мне. Аню сейчас же там устроили. Она была так счастлива и говорила, что ей стало гораздо лучше. Правда, опухоль на шее стала спадать и температура понизилась. Когда вечером командир нас пригласил с ними пообедать, Аня, которая есть не хотела, все же пошла и сидела в кресле у стола. После обеда мы ее уложили спать.
Она, прощаясь со всеми на ночь, сказала, что ей так хорошо, что завтра она будет совсем здорова, а сейчас – только спать, спать.
Прощай, Аня!
В Туапсе наша канонерка взяла человек пятьдесят раненых. Командир попросил меня после обеда, как только я уложу Аню, спуститься к ним и быть переводчицей, когда их будет осматривать доктор или фельдшер (не помню). Мы как раз отошли от берега – слегка покачивало. Я пошла туда и пробыла часа два. Когда я вернулась в каюту, Аня спокойно спала и хорошо дышала. Я устроилась на полу, на ковре около ее койки. Потушила свет.
Сильно покачивало. Вдруг Аня громко меня позвала, сказав: «Скорей, скорей!» Я вскочила, думала, что ее тошнит, и подала ей тазик. Она его оттолкнула, и я увидела, что ей нехорошо. Схватила шприц, который у меня всегда был готов, и впрыснула ей камфору. Но не успела вынуть иголку, как она скончалась. Это было так неожиданно и так невероятно! Я стояла и смотрела: почти сразу же половина лица и тела покрылись кровоподтеками – сердце не выдержало.
Я побежала разбудить папу и тетю Энни. Они пришли. Так не верилось: ведь вечером она была почти здорова, ложилась спать и всех успокоила.
Папа был тверже всех, он сразу понял положение и сказал нам, чтобы мы никому ничего не говорили, пока не дойдем до Феодосии. Как мы провели остаток ночи – не помню. Утром мы вошли в порт.
Аня умерла 21 марта 1920 года, двадцати одного года. Ее рождение – 18 августа.
Рано утром 22 марта папа пошел сообщить о том, что произошло, капитану, который принял близко к сердцу наше горе. Он сказал, чтобы мы не выходили из кают, пока он не скажет. И только когда в Феодосии сгрузили всех раненых, он нам сказал, что мы можем идти. Матросам он приказал сделать гроб: он был военный, французский, серо-голубой. Прямо с парохода мы отвезли Аню в часовню на кладбище и на другое утро похоронили. Крест поставили небольшой, деревянный, устроили могилку, обложили черепицей, посадили цветы. А на другой день должны были уже уехать к тете Наде Каракаш – в ее имение Вишуй, около Симферополя.
Потом два раза мне удалось побывать у Ани и подправить ее могилку. Раз была с Васей Черепенниковым. Был он там и без меня. Теперь, вероятно, от могилки не осталось и следа.
Странная Анина судьба: родилась во Владивостоке, и ей не было месяца, когда ее перевезли в Японию, в Нагасаки. Младенцем переехала два океана, пересекла Америку и скончалась в море, на французском военном корабле. Чем она заболела после тифа, так и осталось неизвестно. Сначала доктор думал, что это паротит – осложнение после тифа. Но опухоль была гораздо ниже, а кроме того, трудно было это предположить, так как я все время ей очищала рот, даже во время ее самых сильных припадков. Через два дня опухоль спала, что не могло быть при паротите. Конечная причина – сердце. Оно, очевидно, очень ослабело за болезнь, пока ей его не поддерживали, а все волнения, эвакуация его надорвали. Может быть, она простудилась и была какая-нибудь злокачественная ангина. Накануне она была счастлива и спокойна. Умерла почти во сне и ничего не сознавала. Это большое счастье для нее: оставаясь у большевиков, она бы погибла, конечно, и в больших мучениях.








