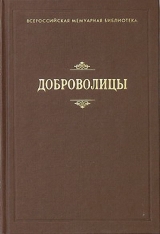
Текст книги "Доброволицы"
Автор книги: Татьяна Варнек
Соавторы: Зинаида Мокиевская-Зубок,Мария Бочарникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Глава 2. ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД (1918)
С приходом Добрармии в Ростов в апреле 1918 года наш лазарет ликвидировали – немцы отправили военнопленных австрийцев домой. Медицинский персонал разбрелся, частью записались в армию, врачи-евреи уехали обратно в Польшу (Варшаву), а студенты, приехавшие из Варшавы с эвакуированным университетом, продолжили свое образование, так как университет навсегда остался в Ростове.
Мы с Женей решили записаться в Добрармию, на фронт, и пошли в отель «Монтре», где расположились представители отрядов и полков со своими бюро для набора добровольцев и медицинского персонала. Там были: корниловцы, марковцы, дроздовцы, шкуринцы и др. Когда мы поднялись на второй этаж, народу уже было много, все жужжали, как пчелы в ульях, и мы не знали, к какому столу подойти. Пока мы стояли в нерешительности, к нам подошли два дюжих казака и предложили, если мы желаем, записаться в отряд генерала Шкуро и сказали, что у них в отряде есть доктор и им нужны две сестры милосердия. Мы не дали определенного ответа и сказали казакам, что подумаем. Тут к нам подошел офицер-дроздовец, слышавший наш разговор с казаками, и посоветовал не записываться в отряд Шкуро. Он объяснил нам, что в отряде Шкуро все время придется ездить верхом, к тому же отряд этот делает набеги в тыл врага и такая служба не для нас. Мы после такого доброго совета, конечно, отказались. Здесь же я случайно встретила своего друга детских и гимназических лет М. Игнатова, офицера инженерных войск. Когда он узнал, почему мы сюда пришли, он нам предложил записаться к ним в отряд, сформированный полковником Селезневым. Мы приняли его предложение, записались и вскоре уехали с его отрядом. С нами ехала и жена начальника штаба отряда – Сумарокова.
Незадолго до отъезда я зашла к Жене проститься с ее мамой. Ее мама была очень набожной женщиной, читала только священные книги, и всегда, в свободное для нее время, можно было застать ее за чтением Библии. Она и раньше нам говорила о пророчествах, о том, что должно произойти. «Вы не знаете, – говорила она, – придет конец мира, брат пойдет на брата, будет голод и мор. Настанет время, когда люди будут прятаться в щелях, чтобы сохранить свою жизнь…» А когда настала Гражданская война и люди действительно скрывались в «щелях» (водосточных люках, склепах и т. п.), я не раз вспоминала ее слова. Перед нашим отъездом она попросила нас отслужить напутственный молебен перед чудотворной иконой Божией Матери, кем-то пожертвованной. Я с радостью согласилась и сказала ей, что эту икону пожертвовал в их церковь мой отец. Она очень удивилась, что я ни разу не пришла помолиться перед своей иконой. Но ей, как глубоко верующей, нельзя было доказать, что расстояние от нашего дома было довольно большое и я не могла собраться в эту дальнюю церковь, да и к стыду своему должна сознаться, что тогда я в церковь ходила редко, только в великие праздники, и то когда бабушка или старая няня пристыдят.
История этой чудотворной иконы такова. Когда-то, очень давно, в царствование Императора Александра I Царь с Царицею, проезжая в Бахчисарай через Таврическую губернию, проездом остановились в имении моей прабабушки (не знаю, какие отношения связывали мою прабабушку с Царской семьей) и отдыхали у нее от дальней дороги. Государыня подарила прабабушке икону, всю убранную драгоценными камнями, с частицей мощей какого-то святого. По-видимому, поэтому она и считалась чудотворной. Подробностей не знаю, так как слышала эту историю в детстве. Эта икона переходила по наследству как благословение к старшей дочери в роду и перешла к моей маме, затем должна была перейти к моей старшей сестре, но мама и сестра моя рано умерли, и папа в память их пожертвовал эту икону в самую бедную церковь. Народ так веровал в мощь этой чудотворной иконы, вероятно получая исцеления, что, как рассказывал священник, с утра и до позднего вечера служились молебны перед иконой и он едва успевал поесть. Зато церковь в короткое время из бедной сделалась богатой.
Перед этой иконой мать Жени повела нас отслужить напутственный молебен. Впоследствии много раз мне приходилось чудом выходить из тяжелого и, казалось бы, безвыходного положения, и я приписываю эти чудеса именно благословению Божией Матери, которой я искренне молилась перед отъездом. Что сталось с иконой после прихода красных – мне неизвестно. Надеюсь, верующие ее спасли, потому что этот район был заселен рабочими и бедным людом.
С отрядом полковника Селезнева в конце апреля или в начале мая мы приехали в станицу Мечетинскую. Там уже стоял штаб Деникина, и наш отряд расположился там же, а также и походный лазарет. Вскоре полковник Селезнев ушел с войсками на фронт, и через несколько дней г-жа Сумарокова сообщила, что полковник Селезнев убит.
Отряд был расформирован, и нас, сестер милосердия, прикомандировали к походному лазарету, а г-жа Сумарокова пошла за мужем в его часть.
Бои шли беспрерывно, и армия очень быстро продвигалась вперед. За армией продвигался и наш лазарет; передвигались на крестьянских телегах и возили за собой раненых. Как-то остановились в только что занятой станице Егорлыкской, помесив непролазную черноземную грязь, которая не успела еще высохнуть после весенних дождей. Здесь мы оставались недолго, жители разбежались, и станица была пустынна. Мы проголодались, а продуктов достать было негде. Узнали, что в станице есть какая-то лавчонка, где можно кое-что купить из съестного. Мы с Женей пошли в эту лавчонку и только вошли, как услышали свист летящего орудийного снаряда. Хозяин падает на пол, и мы последовали его примеру, что нас совсем не спасло бы. Снаряд зарылся в огороде вблизи дома лавочника, но, к счастью, не разорвался. Мы поспешили уйти из этого места, забыв, зачем пришли, и даже голод прошел. Я вспомнила напутственный молебен Божией Матери, чья рука отстранила опасность. Красные от времени до времени обстреливали станицу, и, вероятно, поэтому лазарет не задерживали там долго и двинули дальше. Перед отъездом мы пошли осмотреть станицу. Остановились на углу какой-то улицы, услышав опять свист летящего снаряда – как будто летит над нашими головами. Мы с Женей, по «опыту» в лавке, пригнулись к земле и вдруг слышим смех и возглас: «Сестры, кому вы кланяетесь?» И, о ужас! На другой стороне на углу перекрестка стоял генерал Деникин с офицерами своего штаба. Нам стало стыдно, и мы поторопились уйти. Им было смешно, что мы удрали, и они нам вслед смеялись. С тех пор я никогда больше не кланялась снарядам.
Вскоре была отбита у красных станица Торговая, и наш лазарет направили туда, где он расположился (или, как военные говорили, «развернулся») в здании какой-то школы. Коек, нанесенных из станицы, было очень мало. На них положили приехавших с нами тяжелораненых, а вновь прибывающих раненых клали прямо на пол, на солому. Условия были очень тяжелые и негигиеничные, медицинского персонала было мало. Один врач, пришедший с лазаретом, и другой, вероятно из станицы, были заняты все время в операционной и перевязочной. Сестер с дипломами было только три – старшая сестра, Женя и я, а несколько остальных, ничего общего с медициной не имевших, шли с обозом и помогали нам как санитарки или сиделки. Работа, ввиду недостатка персонала, была очень тяжелая, особенно на ночных дежурствах, когда нельзя было не только спать, но и присесть, чтобы дать ногам отдохнуть от дневной беготни. Ночью света не было, о керосиновых лампах и думать нельзя было – работали при свечах, а свечей было ограниченно, поэтому обходы ночью делались впотьмах, и свечи зажигались, когда нужно было обходить тяжелораненых. Старшая сестра попросила меня взять в свое ведение палату с тяжелоранеными. Сиделки и санитары были хорошие помощники сестрам. Они носили пищу, помогали кормить тяжелораненых, подавали сосуды, и так круглые сутки. Раненые беспрерывно поступали с фронта, а лечение было слабое за неимением медперсонала и ограниченного числа врачей. Мест в палатах не хватало, и прибывающих раненых клали уже в коридорах, на солому. Нужно было лазарет разгружать, и медицинское начальство решило отправить транспорт с тяжелоранеными в Ростов. Старшая сестра сообщила, что выбор сопровождать транспорт с ранеными пал на нас, двух сестер милосердия, – меня и Женю. С нами ехали доктор с фронта, поляк, уезжавший к себе в Польшу, фельдшер и несколько санитаров. Передвигались на крестьянских телегах. Транспорт благополучно достиг Ростова, где доктор и фельдшер сами сдали раненых в лазареты, а меня и Женю доктор отпустил по домам.
Дома меня встретили с удивлением и радостью, так как дома были получены сведения, что меня уже нет в живых. Мой младший брат Сережа от меня не отходил, он очень меня любил (разница в годах с ним была восемь лет), не знал, куда меня посадить и что мне сделать приятное. Пробыла я в Ростове (это было в июне 1918 года) три недели, побывала у родных и знакомых, и наступил срок отъезда, конец отпуска.
За это время Женя встретила своего жениха и вышла замуж, а я возвращалась обратно одна. Здесь я немного отклонюсь и напишу больше о знакомстве с сестрой Женей. Называю ее «сестрой» по старинке. У нас в России до революции сестры милосердия назывались коротко: «сестра», а солдаты звали «сестрица». Слово «милосердия» вообще не упоминалось. Вот почему я часто пишу «сестра». Ни Женю, ни ее семью я раньше не знала, а после знакомства знала постольку, поскольку мне приходилось с ней работать вместе в лазарете и пройти часть Второго Кубанского похода. Иногда заходила к ней домой, где познакомилась с ее матерью. Встретилась и познакомилась с Женей у моих друзей, когда она уже была сестрой милосердия лазарета для военнопленных австрийцев. Я выразила тогда желание поступить сестрой в лазарет, но, к сожалению, очередные ускоренные курсы сестер милосердия военного времени еще не были открыты. Женя мне посоветовала обратиться к старшему врачу их лазарета с просьбой разрешить работать волонтеркой у него в лазарете. Я последовала ее совету, и доктор разрешил. Проработала я в лазарете три месяца, а за это время открылись ускоренные курсы сестер милосердия при Общине св. Николая. По окончании курсов после короткого отсутствия, о котором напишу позже, с согласия старшего врача меня утвердили в этом же лазарете. Таким образом, я с Женей не расставалась до момента ее замужества.
Итак, двинулась я в обратный путь. До Маныча надо было ехать на пароходе. Придя на пристань, я не застала парохода. Не могу вспомнить – в этот день пароход или не шел, или уже ушел. На пристани я встретила еще одну сестру милосердия, Тоню Аверкиеву, которая также ехала из отпуска на фронт и тоже не застала парохода, как и я. Мы уже решили возвращаться домой до следующего дня, но неожиданно она увидела своего, проезжающего на тачанке, знакомого станичника-офицера, который возвращался из отпуска на фронт. Остановив его и познакомив нас, она рассказала ему, что мы не застали парохода. Узнав, куда мы едем, он предложил довезти нас до места на тачанке, так как ему это по дороге. Так мы втроем и поехали. Наступил вечер, ночь была темная, безлунная, наш возница заблудился, и дорога привела нас прямо в усадьбу Черновых. Там нас встретил управляющий имением или приказчик – не знаю, но очень неприветливо (как оказалось, он был заядлый большевик и офицеров ненавидел). Это мы узнали от горничной, которая угощала нас молоком. Едва дождавшись рассвета, мы поехали дальше. Вскоре мы приехали в станицу Торговую, и я отправилась в лазарет. Прошло еще несколько дней, и добровольческие войска заняли станицу Тихорецкую. Сразу же перебросили туда и наш лазарет, под который было занято помещение гимназии. С переездом в станицу Тихорецкую стало намного лучше. Прибавилось несколько докторов и сестер милосердия – легче стало работать. Здесь было электричество, оборудованы ванные комнаты, а ночные дежурства выпадали реже и не такие напорные. Не буду описывать станицу Тихорецкую, известно, какая она – почти город.
В то время под Екатеринодаром шли сильные бои, и раненые поступали беспрерывно. Их было так много, что лазарет не мог вместить всех, и даже коридоры были ими полностью заняты. Многие оставались на станции железной дороги в ожидальных помещениях на полу, на соломе. Чтобы разгрузить вокзальные помещения, заняли здание народной школы, где было только две небольших комнаты и одна маленькая для перевязочной, а в передней разместилась кухня, куда приносили и где распределяли обед. Раненых, за неимением коек, клали на полу, на соломе. Ходячих было мало, больше лежачих, раненных в ноги или в грудь. В это отделение назначили меня, фельдшера и двух санитаров. (Назначение я получила от старшей сестры.) Мне сказали, что доктор будет делать обход утром и вечером, а меня будут сменять на ночное дежурство другие сестры. За пищей ходили санитары в кухню лазарета. Фельдшер сделал раз утренний обход и больше не приходил, по всей вероятности, задержали в лазарете, так как фельдшеров было очень мало и их больше посылали в полки – на фронт. Врачи были заняты в операционной, и никто из них ни разу сюда не показался, может быть, им и неизвестно было об этом маленьком отделении. Обещанная смена сестер на ночное дежурство также не приходила. Пробовала я послать санитаров сообщить, что здесь нужна медицинская помощь и я жду доктора, но мои сообщения были гласом вопиющего в пустыне. Санитар, как нижний чин, не мог ничего добиться. Написала записку в канцелярию, но и это не помогло. Казалось, что о нашем отделении там не имеют понятия. Так прошло трое суток, и я решила на следующее утро сама пойти в лазарет.
Я старалась как-то сгладить создавшееся положение, чтобы раненые не волновались. Надо отдать справедливость терпению раненых – все они покорно переносили эту ситуацию и, наверное, зная все от санитаров, не задавали мне никаких вопросов. Делала все, что было в моих силах и знании, – перевязывала, подбинтовывала промокшие раны, подбадривала. Особенно было трудно ночью – приходилось также бороться со сном и усталостью. Санитарам я разрешала спать, так как с утра у них было много работы, но, когда мне нужна была их помощь, я их будила. Утром им приходилось бегать на кухню, помогать мне кормить лежачих, подавать сосуды, умывать, исполнять просьбы больных и т. д. Так прошло трое суток, бессменно и без сна, и я не смела оставить раненых без присмотра, чтобы самой сходить в лазарет.
На четвертый день утром нагрянул с обходом доктор Трейман Федор Федорович, помощник начальника санитарной части Н.М. Родзянко (сына знаменитого отца). [18]18
М.В. Родзянко (1859–1924) – руководитель партии октябристов, депутат III и IV Гос. дум, председатель IV Гос. думы. – Прим. ред.
[Закрыть]Я обрадовалась его приходу. Он заметил, что я очень плохо выгляжу, спросил, не больна ли я. Когда я ему объяснила положение, он удивился и моментально распорядился всех лежачих раненых отправить в лазарет. Доктор Трейман сочувственно отнесся ко мне, расспросив санитаров и больных и узнав, что я трое суток была без смены, приказал немедленно меня сменить. Сразу же появились врач и сестра и даже фельдшер. Доктор Трейман сделал выговор старшему врачу лазарета, допустившему такой беспорядок. Но, как оказалось, мои донесения до него не доходили. Канцелярия ему почему-то не докладывала. Я вернулась в главный лазарет и там встретилась с новой сестрой милосердия – Лисицкой Варварой Митрофановной. Мы очень быстро подружились, и она ко мне относилась с любовью, как к младшей сестре, – она была немного старше меня. Вскоре к нам в лазарет была назначена еще одна сестра милосердия – Леонова Магдалина Митрофановна, племянница донского атамана А. Богаевского. Мы трое сошлись по характеру и крепко сдружились. Друг друга называли уменьшительными именами: Линочка, Зиночка, Вавочка. Имя Вавочка мы дали Варваре по нашумевшему роману Вербицкой [19]19
А.А. Вербицкая. Вавочка. – «Жизнь», 1898, № 25–36. – Прим. ред.
[Закрыть].
Была с нами в дружбе еще и экономка лазарета Олимпиада Семеновна. Она почему-то только нас трех выделила из всех сестер лазарета. Уже немолодая, сухая, высокая, она была жительницей Тихорецкой, по нраву добрая, ласковая, милая, каких можно было много встретить на Руси в старое доброе время. Она нас баловала вкусными домашними сладостями, которые приносила из города. В уголке проходной комнаты она устроила свою «канцелярию», как она называла свой стол, где делала ежедневные записи в приходо-расходную книгу, а в углу стоял ее заветный шкаф, в котором она хранила свои запасы домашнего печенья, варенья, сухих фруктов и т. п. Иногда мы втроем, ради шутки, заглядывали в этот шкаф полакомиться в ее отсутствие. Когда она обнаруживала утечку – ловила нас и выговаривала: «Ах! Так вот вы какие! Опять «похрумали» сладенькое. Ах вы, сладкоежки!» Мы ее обнимали, целовали, и ее сердце смягчалось. С милой и доброй улыбкой она нас приглашала к себе на чай, после ужина. Относилась к нам, «тройке», по-матерински. Но недолго продолжалось наше счастье заглядывать в ее заветный шкаф. В станице вспыхнула эпидемия холеры, и было строго запрещено принимать подарки в виде продуктов от родственников раненых. Принимались только фрукты и овощи, которые сразу же поступали в котел. Нам, сестрам, строго запрещалось прикасаться к приносимым продуктам, нужно было сразу отправлять их к заведующему хозяйством. Дыни, арбузы и домашние печенья не принимались вовсе.
Опять я получила палату тяжелораненых. Помню, на одном из ночных дежурств возле умирающего от ран капитана сидела его жена в отчаянии, и время от времени ее приходилось успокаивать. А у меня еще были два тяжелобольных с высокой температурой. Две кровати рядом. На одной лежал раненый из Запорожского полка, а на соседней койке лежал тоже тяжелобольной с высокой температурой – громадного роста широкоплечий донской казак. Когда я подходила к запорожцу, казак волновался и кричал: «Не трогай сестрицу!» Когда я поворачивалась к казаку, пытаясь положить на голову компресс, он вскакивал, пытаясь драться с запорожцем, и мне больших усилий стоило (маленькой в сравнении с ним) уложить его и успокоить. Запорожец был меньше казака и слабый от болезни, подниматься не мог, только едва слышно выкрикивал: «Ты не смей трогать сестрицу!» – и хватал меня за руку. Так пришлось мне в узком проходе между кроватями примирять враждующих, успокаивать то одного, то другого, положив по руке на обоих. Каждый держал мою руку и успокаивался. Оба были в бреду… Так провела я с ними эту тревожную ночь. А к утру они оба, один за другим, отправились в лучший мир, и капитан тоже. На меня эта картина ужасно подействовала, и я долго и тяжело переживала эту трагедию. Доктор Трейман, застав меня в слезах, сказал, что я сестра и должна хладнокровней относиться к таким сценам и привыкнуть к ним.
Глава 3. ЕКАТЕРИНОДАР (1918)
Сколько времени мы простояли в Тихорецкой – сейчас не могу вспомнить; помню только, что это был уже конец лета. Наконец пришло известие, что Екатеринодар взят и красные далеко отогнаны, что город в безопасности и наш лазарет переводится в Екатеринодар. Радость была неописуемая. Начались сборы. Для перевозки раненых и лазарета приготовили поезд из товарных вагонов. Всех раненых погрузили в теплушки, и в каждом вагоне поместился кто-нибудь из медицинского персонала. Врачи и сестры, которые и раньше работали в Тихорецкой, остались, а также нам пришлось распрощаться (к сожалению, навсегда) с нашей милой экономкой, Олимпиадой Семеновной. Вава, Лина и я были вместе в одном вагоне с тяжелоранеными. После полудня поезд прибыл в Екатеринодар. Какая была встреча нашему поезду – описать трудно. Здание вокзала было украшено гирляндами снаружи и внутри. Поезд встречали дамы-патронессы, девушки с цветами и масса народу. Кричали «ура!». Сколько было искренней радости и радушия, сколько было радостных слез! Все эти раненые были защитниками Екатеринодара, и многие родные встретили своих дорогих воинов. У меня и теперь, когда я вспоминаю эту встречу, невольно слезы напрашиваются. Народ сразу же начал выносить раненых из вагонов. Нас, сестер, буквально вынесли на руках и не дали прикоснуться к своим раненым, чтобы им помочь. Накормив раненых, сразу же развезли их по лазаретам, где были оставшиеся после ухода красных врачи. Для легкораненых и медицинского персонала в помещении вокзала были накрыты столы со всевозможными закусками, пирожными и разными вкусными вещами, чего очень долго не видели в походе и по чему соскучились.
Дамы и девушки были очень любезны и внимательны, очень мило за нами ухаживали и усердно угощали. Такой сердечной встречи мы не видели ни до Екатеринодара, ни после. Наконец, когда все закончилось и раненых развезли по лазаретам, народ разошелся, а нас, медицинский персонал, отвезли в помещение учительской семинарии и предложили оборудовать новый лазарет. Помещение было огромное, с дортуарами, которые послужили общежитием для сестер милосердия. Нам, «тройке», предоставлено было право, как «старым сестрам», выбирать себе комнату. Мы выбрали очень удобную комнату на втором этаже, в центре и близко от всего: от палат, перевязочной, аптеки и др. Лазарет был устроен по-настоящему – прекрасно оборудован на 300 коек, богатая аптека, бельевая, полная белья, много палат, а здание было двухэтажное и выходило на две улицы с садом. В нижнем этаже находились палаты, канцелярия, дежурка врачей, столовая и много других помещений.
Доктор Трейман предложил нам выбрать среди нас старшую сестру, и мы выбрали Лисицкую (Вавочку).
Работа закипела. Приготовили палаты для приема раненых, распределили сестер и санитаров по палатам. Вскоре стали прибывать раненые. Лина взяла палату на верхнем этаже, я – на нижнем. Вава, как старшая, палаты не имела. Новые врачи и сестры все прибывали. Старший врач лазарета доктор Покровский почему-то пробыл недолго, и его заменил доктор Кожин. Человек сугубо штатский, он был плохой администратор и не мог справиться с таким большим лазаретом. Из-за мягкого характера он не мог поддерживать дисциплину, и его не все слушали. Но доктор Трейман часто наведывался в лазарет, и это немного сдерживало расхлябанность административного персонала. К нам прибыло уже несколько врачей, среди них был хороший хирург доктор Морозов. Уже немолодой, строгий, держался со всеми, кроме врачей, на расстоянии, с достоинством; жил в городе. Ему во время операций помогал доктор Кондюшкин, очень несимпатичный и никем не любимый, грубоватый и с большим апломбом. Он остался в городе после ухода красных и всех уверял, что благодаря ему остались склады медицинского материала, что неверно, так как красные просто не успели вывезти многие склады.
К нам в комнату, за неимением места в общежитии сестер, попросилась фельдшерица Вера Эйслер. Крупная, не первой молодости, здоровая, интеллигентная, приветливая. У нас было еще одно место, мы ее приняли и скоро сдружились. Теперь нас была не «тройка», а «четверка». Она имела прекрасный голос – меццо-сопрано – и очень хорошо пела русские песни. Особенно хорошо у нее получалась, и она ее любила, песня «Матушка-голубушка…». Так за ней и осталось прозвище Матушка-Голубушка. У нас в комнате стоял хороший рояль, и мы часто, в свободные от работы часы, развлекались: Вера пела, я ей аккомпонировала, а за дверью нашей комнаты собирались обитатели лазарета, слушали. Иногда я играла соло на рояле, и из палат собирались раненые, слушали, просили еще играть и даже приносили мне ноты.
Так мы и жили, дружно. Прошло некоторое время. И вот однажды приходит доктор Трейман и говорит, обращаясь ко мне: «Вы поработали и заслужили отдых. Сестра Лисицкая и вы можете воспользоваться отпуском». Мы с Вавой были очень довольны возможностью проехаться домой, но не придали значения такому вниманию. Мы попросили и за Линочку, и это было разрешено. Вера не могла воспользоваться отпуском, так как фельдшериц было всего две на весь госпиталь, к тому же она недавно поступила и никаких «заслуг» за ней не числилось. Так мы втроем и уехали. Лина поехала в станицу Кавказскую, где временно проживала ее мама, а я и Вава поехали сначала к ней домой в станицу Тихорецкую, где у нее была старшая сестра – врач, и младшая, еще гимназистка. Погостив немного у Вавы (семья ее произвела на меня хорошее впечатление, и мне даже жаль было с ними расставаться), мы поехали в Ростов к моей семье. Мои родные и знакомые встретили нас радостно. Моя родная сестра Маруся была за хозяйку дома, брат Сережа, малыш, учился, а другой брат, Анатолий, шестнадцати лет, ушел добровольцем. Наши обрадовались, что я смогла их так скоро снова посетить. Ведь никакие письма не шли ни туда, ни оттуда, и они ничего обо мне не знали.
В Ростове жизнь кипела по-прежнему, войны не чувствовалось. Кафе и рестораны были полны военной и штатской публикой. Много было беженцев из России. Кто был с капиталами, старался выбраться за границу. На Садовой улице в районе «Чашки чаю» и кондитерской Филиппова народу всегда было много, как на гулянье.
Посетила свою подругу детства Нину Костанди, которая за время моего отсутствия вышла замуж. Мы с ней раньше часто проводили время у нее или у ее старшей сестры Нади, которая была замужем за донским помещиком Безугловым. Жили они в Ростове, а в имении оставались родители.
Проведя свой отпуск в Ростове, мы с Вавой вернулись в Екатеринодар, где нас уже ждала Лина. По приезде в лазарет нас ожидал сюрприз: назначены новый старший врач и новая старшая сестра. Старший врач – доктор Мокиевский-Зубок Лев Степанович – мой старый знакомый по Галиции. Тогда он был полковым врачом 9-го Киевского гусарского полка. Его полк стоял в районе лазарета, и он лазарет посещал и иногда в нем работал. Там я с ним познакомилась.
Должна вернуться немного назад. Когда я окончила курсы сестер милосердия, то было предложено желающим ехать на фронт. Я предложение приняла и поехала на фронт, но долго там не оставалась. В то время начался развал Русской Армии, как следствие Приказа № 1 Временного правительства и Керенского [20]20
В Приказе № 1 говорилось о подчинении воинских частей Советам рабочих и солдатских депутатов, об избрании в частях и подразделениях солдатских комитетов и о передаче оружия под их контроль. Это способствовало деморализации армии. – Прим. ред.
[Закрыть], и разъезд войск был неминуем. Доктор Мокиевский посоветовал мне без промедления уезжать обратно. А их полк уходил на стоянку в район Киева. Я последовала его совету и при первом удобном случае уехала в Ростов. По приезде в Ростов я обратилась, с согласия старшего врача лазарета для военнопленных австрийцев, в Земский союз с просьбой назначить меня в этот лазарет и, как уже известно, получив назначение, проработала там до 1918 года.
Главный врач нашего Екатеринодарского (армейского □ 5) лазарета доктор Мокиевский-Зубок (мой будущий муж) принял нас приветливо и сообщил, что Санитарным управлением, в отсутствие сестры Лисицкой, старшей сестрой назначена сестра Романова. Только теперь мы поняли, почему нас выдворили в «отпуск». Не смели снять одну старшую сестру и назначить другую без всякой к тому причины, поэтому сделали это при помощи законного отпуска.
Доктор Мокиевский-Зубок был заслуженный военный врач с боевыми наградами и орденами начиная от Св. Анны с надписью «За храбрость» и красным темляком на саблю вплоть до Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Эти ордена, как и остальные награды, он получил во время Первой мировой войны, которую закончил в чине (по военным чинам) полковника.
Роста немного выше среднего, шатен, близорукий (носил очки), он был крепкий, энергичный, справедливый, но и строгий человек. Подчиненные его ценили и любили. Доктор Трейман Федор Федорович был очень похож на доктора Мокиевского, так же близорук, но носил пенсне, и волосы у него были русые. Они очень походили друг на друга и в другом отношении – одинаково заботились прежде всего о раненых и больных. Они оба окончили Императорскую военно-медицинскую академию в Петрограде и были на «ты». О жизни доктора Треймана я знаю немного. В каких частях он находился в Великую войну – не знаю. Знаю, что семья его жила в Екатеринодаре, а в Добрармию он попал с отрядом генерала Покровского, присоединившегося к ней под Екатеринодаром, и проделал с ней Ледяной поход.
Старшая сестра Романова (имя забыла) была родственница нашего Государя Николая II. Она была сестра милосердия, и нужно было ей дать подобающее место. А так как наш армейский лазарет был на хорошем счету, то ее и пристроили к нам. Она была немолодая, с рыжими волосами, худая, стройная, всегда с поджатыми губами; ни с кем не общалась, жила в данной ей маленькой, как келья, комнатке одиноко. В общей столовой ее не видели – она кушала в своей комнате. Когда она спала, никто не знал, потому что и днем, и ночью, и на заре видели, как она делает обход, проверяя сестер, чтобы те не заснули. При ней у нас не было дежурной комнаты для сестер. Дежурили всегда две сестры – одна на верхнем этаже, другая внизу. И, по ее правилам, сестры должны были всю ночь бродить по палатам и длинным коридорам, делая обход. Во всякое время можно было неожиданно столкнуться с нею. Она появлялась внезапно и бесшумно. Если она заставала дежурную сестру сидящей в коридоре на скамейке и ежащейся от холода (школьные коридоры были очень длинные и не отапливались зимой, а двери в палаты, где топились печи, были закрыты на ночь), то делала замечание: «Сестра, нельзя сидеть, так можно заснуть!»
Очень редко она заходила к сестрам в общежитие, оставаясь там недолго, – вероятно, заходила по обязанности. Зашла как-то и в нашу комнату, когда я играла на рояле в свободные часы после ночного дежурства. Ей понравилась пьеса, которую я играла. Она прослушала и попросила меня сыграть что-нибудь в палате для лежачих раненых (50 человек). Я отказалась играть в палате, так как там находились тяжелобольные, которым, может быть, помешала бы музыка. Согласилась на то, что буду играть у себя при открытых дверях, а дверь нашей комнаты была против двери в палату. Она была сестрой Кауфманской общины в Петрограде, где властвовал очень строгий режим, и оттуда она перенесла полумонашеские правила в наш лазарет, к чему сестры военного времени не приучены. Ее поведение в отношении окружающих объяснялось еще и тем, что она тяжело переживала семейную трагедию Романовых и потому не хотела никакого общения с окружающими, оставалась наедине со своим горем. Но она долго не задержалась в лазарете. Скоро она получила ожидаемую визу во Францию и уехала. Лазарет ей устроил хорошие проводы, все с ней мило простились, она к каждому подходила прощаться. Нам было искренне ее жаль, но тем не менее все вздохнули облегченно.
После проводов сестры Романовой Вавочке было предложено снова занять место старшей сестры, но Вава, задетая, отказалась от такой чести и сделалась палатной сестрой, взяв себе палату больных с переломами ног и рук. Когда мы с Вавой приехали из Ростова, сестра Романова назначила меня в очень тяжелую палату «черепных» – здесь лежали раненные в голову и послеоперационные больные. Нас в этой палате было две сестры – одной было трудно справиться. Помню, в день моего Ангела (11 октября по ст. стилю) я получила от своих раненых поздравительное письмо, подписанное всеми, кто тогда там лежал. Это письмо с немногими документами каким-то чудом сохранилось до сих пор. Чудом потому, что все мои вещи пропали в Лиенце по окончании Второй мировой войны во время ужасной трагедии – насильственной выдачи казаков англичанами советскому командованию [21]21
В соответствии с соглашением, подписанным на Крымской конференции руководителями трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4-11 февраля 1945 г.), западные союзники выдали Сталину два с лишним миллиона русских беженцев. Подробно о выдаче англичанами казаков в Лиенце см. в кн.: Н.Д. Толстой. Жертвы Ялты. М., 1996, с. 181–208. – Прим. ред.
[Закрыть].








