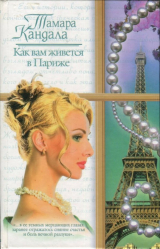
Текст книги "Как вам живется в Париже"
Автор книги: Тамара Кандала
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Тут Ксенька замахала, как мельница, руками – в галерею вошёл высокий светловолосый парень приятной наружности. Это и был её «кадр». Он направился в нашу сторону, раскинув в приветствии руки и улыбаясь во весь рот белозубо-сахарной улыбкой. Схватив Ксеньку в охапку, он приподнял её и облобызал. Приземлившись, она нас познакомила. Саша́ с итальянской непосредственностью облобызал и нас с Никой.
– Ну что, – сказал он по-французски, с милым южным акцентом, – если вы здесь уже нааперитивились, может перейдём в соседнее заведение, где кормят. Культура живота намного важнее, чем культура ума. Особенно для итальянца. – Мы с Никой замялись и попытались отойти. Но Ксенька ничего не хотела слышать.
– Не смущайтесь, курочки, – сказала она нам по русски, – он богатый и щедрый. Ему не жалко. Итальянско-русская кровь. Это вам не французские зануды.
И она потащила нас к выходу.
– Позвольте мне хоть взглянуть на шедевры! – воскликнул Саша́, – где я ещё такое увижу!
Он обошёл выставку, внимательно всё рассмотрел, потом подошёл к художнику и долго тряс ему руку, балабоня что-то на смеси французского и итальянского. Художник смотрел нервно и просил перевести. Подошла одна из хозяек.
– Этот человек говорит, что он тоже продаёт произведения искусства, – перевела она художнику.
– Так вы арт-диллер? – обратилась она, уже к Саша́.
– В какой-то степени, – ответил тот.
– И что же вы продаёте? – настаивала очаровательная хозяйка.
– Унитазы!! – громовым голосом объявил Саша́.
Настала неловкая тишина. Неловкая для всех, но только не для него.
– И положил начало этому, между прочим не я, – продолжал он радостно, – а ваш незабвенный Дюшан, да будет земля ему пухом. Разница только в том, что мои клиенты пользуются ими по назначению, а не выставляют в музеях. Сегодня, чтобы стать известным концептуальным художником, надо быть не просто идиотом, а концептуальным идиотом! – заключил он.
Ксенька была в восторге.
– Видишь! – дёрнула она меня за рукав, – я же тебе говорила, что он образованный.
Оставив за собой клубиться редеющую толпу, мы выбрались на улицу.
– Какие будут предложения? – спросил нас Саша́. – Какую будем выбирать кухню?
– Китайскую! Китайскую! – закричали мы хором.
– Очень хорошо, – сказал он. – Я знаю тут, за углом, один симпатичный китайский ресторанчик.
И повёл нас в «Дьепп», дорогущий ресторан на улице Шарон, «très branche»[1]1
очень модный (фр.)
[Закрыть], где можно встретить разных шоу-знаменитостей, арабских шейхов со свитой, русских манекенщиц в последних коллекциях от Дольче-Габана, а также молодую деловую элиту в строгих костюмах.
Мы провели чудный вечер, слопали немыслимое количество китайских пельменей на пару и выпили много вина, что, в тесном союзе с предыдущими аперитивами, и вызвало настоящее веселье. Саша́ вёл себя с нами так, как будто знал нас всю жизнь. При этом он всё время весело кадрился к Ксеньке, доверчиво призывая нас подтвердить её «радиоактивное обаяние». Она пофыркивала на него довольно, урчала как кошка, и трижды объявляла нам, что он больше чем на десять лет её моложе:
– Ну что я буду делать с этой крохой! – корчила она довольные гримасы.
– Не волнуйся, – сказала я, – он сам найдёт, что с тобой делать.
Она и не волновалась.
Потом мы с Никой откланялись и оставили их вдвоём. Ника была на машине и предложила подвезти меня. Моя Булонь была по пути в её Нёйи, и я согласилась.
По дороге я расспрашивала, как у неё дела. Она сказала, что всё нормально, «рутина», как она выразилась. Робин очень много работает, стал ведущим хирургом. Уходит рано. Приходит поздно. По выходным и праздникам часто дежурит. Она преподаёт в частной балетной школе, работает с детьми всех возрастов. Недавно получила интересное предложение от самого Бежара – вести классы в его балетной компании.
– Это очень заманчиво, – сказала она, – но это в Швейцарии, в Лозанне. А Робин в Париже. Мы и так с ним редко видимся, а так и вовсе семья превратится в символическую, – сказала она, – но я всё-таки съезжу, попробую договориться на четыре дня в неделю.
Потом она спросила про Машку, которую помнила белокурым, несколько своенравным ангелом. Я рассказала, что ангел превратился в длинного угловатого подростка в прыщах и с кольцом в пупке, которое делает ее похожей на гранату – дёрни и взорвётся. А внутри у Маши сидит вредный маленький чёртенок, который умудрился поссорить её со всем миром, а особенно, видимо, науськивает против меня. Отца, которого она обожает, дома почти никогда нет (поэтому и обожает) и справиться с ней практически невозможно. «Не думай, что ты такая умная, – сказала она мне, например, вчера, – иметь дело с «понимающим» гораздо важнее, чем с «умным». И намного приятней».
– Ну, ты слышала что-нибудь подобное в устах подростка? – Я вспыхнула, вспомнив, с каким видом она мне это сказала!
– По-моему она абсолютно права, – рассмеялась Ника. – Вообще. Не по отношению к тебе, конечно.
– Да, но она-то говорила именно обо мне!
– Не расстраивайся, это временное, – сказала Ника. – У Маши очень сильный характер и завышенные требования к себе и людям. Жить с этим тринадцатилетнему подростку очень тяжело.
– Почти четырнадцать. Психологи говорят, что ещё года два будет корёжить. Какое счастье, что у тебя нет детей, – сказала я и осеклась, прикусив губу. Я знала, что у Ники были какие-то проблемы. – Извини, – пробормотала я.
– Ничего. У меня теперь их полно, целых два класса и ещё частные уроки – больше дюжины.
Пока она говорила и вела машину, мне было очень удобно за ней наблюдать. Я всегда отмечала в ней этот феномен – спокойное и одновременно очень живое лицо, которое отражает целую бездну чувств. А обещает ещё больше. Как айсберг – семь восьмых под водой. Поражает своей силой. И своим потенциалом. По крайней мере, меня. На мой взгляд, она относилась к тем личностям, в присутствии которых всё маленькое и незначительное становится большим и важным. И было непонятно, как ей это удавалось при её сдержанности в отношении с людьми. Расставаясь с ней, хотелось увидеть её снова, и как можно скорее.
Мы распрощались с Никой у моего дома и, как всегда, договорились видеться почаще.
3Утром я проснулась от того, что что-то мокрое и холодное тыкалось мне в лицо. Догадаться было не сложно – это была наша собака Долли, трёхлетняя далматинка, обычно свято чтившая сон хозяев. Она неистово колотила хвостом по кровати и укоризненно поддевала меня своим мокрым носом. Я, улучив момент, обхватила её за сильную мускулистую шею и поцеловала в лоб. От неё, как всегда, удивительно вкусно пахло сеном и парным молоком, по крайней мере, мне так казалось, как будто это была не собака, а корова. Она фыркнула и отскочила – не любила фамильярностей.
– Подумаешь… я тоже не люблю, когда меня будят, например, – сказала я ей.
Я посмотрела на часы – было уже десять. Ничего себе! Накануне я заработалась до двух часов ночи, потом не могла заснуть, в три приняла таблетку снотворного, уговаривая себя, как всегда, что это в виде исключения и я ещё не «подсела». Сейчас я с трудом выныривала в действительность.
Наверное, Машка не выгуляла собаку, подумала я, вот она и нахальничает. Утренняя прогулка с Долли была её святой обязанностью, главным условием, которое мы поставили, согласившись взять собаку, которую она выклянчивала у нас целый год. Но иногда она просыпала и убегала в школу, оставив мне объяснительную записку.
Долли нервно гавкнула, напоминая о себе. Я с сожалением покинула тёплую постель, такую несказанно уютную в утренние часы, и поплелась на кухню. Записка была на месте, приклеенная к холодильнику. «Собака выгуляна, но не накормлена – кончился корм. Сегодня задержусь. М.», – говорилось в ней. Тон записки я нашла вызывающим. Правда, покупать корм было моей обязанностью.
– Теперь мне понятны твои справедливые претензии, – сказала я собаке и дала ей хлеба с молоком. – Только не говори Машке об этом безобразии (ну не бежать же было спозаранку в магазин за кормом).
Моя дочь, которая страшно жалела толстых собак и ненавидела их хозяев за то, что они «калечат» животных, держала Долли на строжайшей собачьей диете. Она у нас не знала вкуса сахара, зато уплетала все овощи, фрукты, салаты, бахчевые, лук, чеснок, лимоны и всё остальное. При этом всегда была голодной, но отличалась необыкновенной прытью и поджаростью.
Она мгновенно опустошила миску и подняла на меня вопрошающий взгляд: – И это всё?! – Разочарованию её не было предела. Только тут я поняла, что выглядит она как-то странно. Взгляд её, обычно наивно-вопросительный, превратился в нагло-игривый. Мне даже показалось, что она мне подмигнула. Вглядевшись, я поняла в чём дело. На её белой, в чёрный горох, морде были нарисованы густые соболиные брови вразлёт, сраставшиеся на переносице. Это делало её похожей на престарелую проститутку, пытающуюся соблазнить выгодного клиента. Или на мексиканскую художницу Фриду Калло. Ну, конечно, Машкины штучки и наверняка моим дорогущим шанелевским карандашом, раздражилась я. Но вид у собаки был такой одновременно вызывающий и нелепый, она до такой степени не подозревала о своей метаморфозе, продолжая изображать нормальную собаку, что я расхохоталась.
Выжав в стакан пол-лимона и разбавив сок горячей водой, я добавила ложку мёда и выпила эту смесь с удовольствием. Говорят, помогает от простуд и способствует умственной деятельности. И то и другое всегда для меня актуально. Потом заварила себе крепкий кофе прямо в чашке, как я люблю, сделала тостик с джемом и, поставив всё на поднос, отправилась в гостиную. Там я устроилась с ногами на диване и включила новости по телику.
Там показывали, как беспечное человечество занимается системным самоистреблением, уничтожая, по ходу дела, всё живое на земле отбросами своей жизнедеятельности. Властелины мира вели подковерные игры, в борьбе за нефть, за власть, а человечество катилось своим собственным путём прямиком к глобальной катастрофе. Войны, голод, эпидемии новых болезней (и не только человеческих), наводнения, цунами, землетрясения стали рутиной. Страны сотрясали социальные проблемы, семьи потрясали внутренние конфликты, а индивидуумы страдали сами по себе. Казалось, весь мир превратился в гигантскую русскую рулетку. Жестокость стала обыденностью, а милосердие организованной акцией.
Двойственность ощущения нестабильности вообще и стабильности этой конкретной минуты (в собственной уютной квартире, на мягком диване, с чашкой дымящегося кофе перед теликом, который можно в любой момент вырубить и отключиться тем самым от мировых скорбей) для меня лично, была близкой к шизофренической.
Но, устроившись поудобнее, я продолжала заниматься мазохизмом и переключилась на имеющийся у меня российский канал.
Там вовсю шёл диспут на тему, надо ли убивать иностранцев в России и не виноваты ли они сами в том, что становятся жертвами. В передаче участвовали журналисты, учёные, депутаты Государственной Думы и просто «население». Для депутата Митрофанова (у него было такое лицо, как будто он его отсидел) вина самих избитых, покалеченных и убитых была очевидна. «Население» его явно поддерживало. Ведущий был не на высоте. Вот уж, воистину, если споришь с идиотом, постарайся удостовериться, что он не делает того же самого.
Год назад, приехав в Москву и включив телевизор, я наткнулась на этого же самого Митрофанова, призывающего немедленно сбросить атомную бомбу на Америку. Причём, он настаивал на том, что сделать это нужно обязательно ночью, пока их генералитет и военное командование «находятся в отключке, наколовшись и нанюхавшись». А наше, по его глубочайшему убеждению, несмотря на количество выпитой водки, всегда находилось в боевой готовности. Не зная в лицо российских избранников и решив, что это юмористическая программа с клоуном, одетым под депутата, я очень веселилась. Пока не поняла, что всё взаправду. Стало страшновато, причём, мне, а не Америке.
Я переключилась на французский платный канал. Там крутили выборочные куски из программы «Куклы»[2]2
Les guignols (фр.)
[Закрыть]. Французские остроумцы развлекались вовсю, издеваясь над всем и всеми подряд, не щадя ни своих, ни чужих. Больше всех доставалось дебильной кукле Буша, у которой в консультантах по всем вопросам (политическим, экономическим, военным) была одна и та же кукла – Сильвестра Сталлоне. Последний всё время пенял президентской кукле за то, что тот ковыряет в носу, наложил в штаны и не знает точно, кто президент Соединённых Штатов Америки.
Потом кукла диктора первого, государственного, канала назвала будущую жену принца Чарльза, Камиллу, кобылой с яйцами. Дальше показали куклу агонизирующего Папы Римского в окне своей резиденции, издающего неприличные звуки, вместо воскресного благословения (потом, после его смерти, когда будут выбирать нового Папу и весь христианский мир будет, затаив дыхание, следить за цветом дыма из трубы, где заседал конклав – белый или чёрный, выбрали или нет – эти же куклы остроумно предположат, что дым пойдёт голубой, так как, на этот раз, наверняка изберут Папу-педофила, намекая этим на недавний скандал в одной из епархий). Следующим номером программы был Бен-Ладен в чалме, трясущий своей козлиной бородкой и нагло издевающийся над всем немусульманским миром. И, напоследок, всласть поиздевались над своим собственным французским президентом (за пафосность и бессмысленность его речей) и его женой, кукла которой изображала престарелую уродину в мини-юбке, бегающую по всем светским раутам и обнимающуюся с эстрадными и кинознаменитостями.
«Вот это да! – подивилась я. – Вот это демократия!» Я представила, как вместо Папы они измывались бы над каким-нибудь аятоллой (это было ещё до «карикатурного скандала»), а вместо куклы Буша куклу российского или китайского президента. Скандала было бы не избежать. Похоже, что есть страны, политические режимы и религиозные конфессии которых обладают разной чувствительностью к насмешкам. И всё это у них называется «чисто французским картезианством» и они гордятся этой своей способностью издеваться над всем на свете, не имея (и не желая иметь) ничего святого. Не зря французов так не любят в мире. А с другой стороны, кого любят?! Немцев? Русских? Американцев? Или, может быть, евреев с арабами? Я вспомнила армянское землетрясение и реакцию азербайджанцев на него – радость целого народа по поводу катастрофы, унесший десятки тысяч жизней другого народа.
А как люди умудряются ненавидеть друг друга внутри своих же сообществ!
Эти мои грустные размышления, которыми почти всегда заканчивались утренние просмотры новостей, были прерваны телефонным звонком.
– Она, конечно, очень милая, твоя Ника. Но совсем не так проста, как кажется. – Это была Ксения, которая, как всегда, продолжала по телефону уже начатую с самой собой дискуссию.
– А она простой совсем и не кажется.
– Вот именно. Есть в ней какое-то высокомерие. Как если бы она слегка презирала всех вокруг.
– Ну не выдумывай. Ты же её совсем не знаешь. Она просто сдержанна по натуре. Это тебя кидает из одной крайности в другую.
– А иначе и жить скучно. А у неё, думаю, просто не хватает воображения (это в Ксенькиных устах было серьёзным обвинением).
Я видела Нику совершенно по-другому. Она не была искательницей приключений. Наоборот, она сознательно или бессознательно старалась их избежать. И делала это не от недостатка воображения, а из чувства самосохранения, подозревая в себе те самые залежи нерастраченных чувств, которые и сработали детонатором в последующих событиях.
Но всего этого говорить Ксении я не стала.
– В общем… я хочу сказать, что не к чему придраться, но и ухватиться не за что.
– А тебе зачем хвататься? – удивилась я.
– Ну, так…новое лицо, неохваченный субъект, подруга моей подруги. Вы ведь с ней близкие подруги?
– Ксень! Ну какие мы близкие подруги? Видимся два-три раза в год.
– А мы вот с ней виделись несколько раз только за последний месяц. Пока у тебя была твоя медовая неделя. – Она имела в виду короткое пребывание дома моего мужа. – И, потом, ты знаешь, у нас с ней много общего. У неё ведь тоже не сложилась её артистическая судьба – она мечтала быть балериной, но её карьеру разрушил несчастный случай. Но зато потеряв балет, она, как и я, нашла Францию.
И здесь Ксения была не совсем точна. Ника не просто мечтала, она была балериной, восходящей звездой в «Мариинке», танцующей ведущие партии в «Дон Кихоте» и «Спящей красавице». У неё было всё – успех, овации, поклонники и обещание блестящей карьеры. Она работала с ведущими балетмейстерами страны. Её даже пытался переманить к себе Английский Королевский Балет. И это всё я знала не от неё (она на эту тему говорила очень неохотно), а от знакомого музыкального критика.
Но, и этого я не стала говорить Ксении.
– По крайней мере, ты можешь быть уверена, что она не «faux cul»[3]3
фальшивка (фр.)
[Закрыть] и не будет за твоей спиной водить жалом, как большинство твоих «светских» подруг, – уверила я её.
– Я это поняла сразу. Ты же знаешь, я чую настоящих и всегда могу отличить их от лживых сучек. А общаться приходится, к сожалению, не только с теми, с кем хочешь, но и с теми, с кем нужно, – она вздохнула. – Хотела вот приобщить её немного к светской жизни. Ей бы тоже не помешало для её рода деятельности. Но она диковата. Никого до себя особенно не допускает. Живёт с закрытым забралом.
– И правильно делает! – сказала я с чувством. Для меня моё «открытое забрало» всегда было проблемой.
– Послушай! Я тебе звоню по другому поводу. Арсик просит найти ему помещение под офис в Париже. Недалеко от дома. Поможешь поискать?
Мы с семьёй недавно перебрались в квартиру, в которой живём сейчас, на поиски которой я потратила почти два года. С тех пор я считалась у Ксении большим специалистом по недвижимости.
– Недалеко от твоего дома?
– Ну, да. А какого же? У него пока другого нет.
Арсик – это был Ксенькин сын Арсений, которого я знала практически с пелёнок, самая большая удача в её жизни. В данный момент Ксения жила в прекрасной квартире, подаренной ей сыном год назад, где у него была своя спальня и маленькое бюро. Он пользовался ими во время своих коротких набегов в столицу нашей новой родины.
– Он, что, собирается перебираться сюда? – спросила я с надеждой.
– Перебираться – нет, но бывать будет чаще.
– И когда мы его увидим, нашего звёздного мальчика?
– Точно не знаю, но обещал появиться в ближайшее время.
– Ну, естественно, помогу. Может, со временем и переберётся?
– Я тоже надеюсь, – сказала она и, быстро попрощавшись, повесила трубку. Я успела услышать, как где-то в глубине квартиры зазвонил её мобильный.
Господи, подумала я в который раз, бывают же такие дети! Сплошная, ничем не омрачённая радость. Вот уже целых двадцать шесть лет. И рос ведь, как трава, без всяких потуг на воспитание. Ни тебе вредного периода детства, ни трудного переходного возраста. Не говоря уж о том, что в свои младые годы он стал для матери абсолютной финансовой опорой. Может, и правда, что в лотерее с детьми всё решает то, как фишка ляжет. Вернее, как выпадет ген.
Долли сидела, вперившись в меня своим жгучим цыганским взглядом под разлетающимися бровями, как будто собиралась предсказать мне судьбу. На самом же деле она пребывала в нервном ожидании своей порции утреннего кофе. Остатки из моей чашки были вылаканы тотчас, вместе с гущей.
Телефон зазвонил снова. Милый женский голос предлагал переделать в квартире все оконные рамы.
КСЕНИЯ
1Ксения происходила из знаменитой московской актёрской семьи. Имя её отца было известно всей стране, а после его ранней смерти и вовсе стало легендой. Такой же легендарной была красота её матери. Ксения была единственным ребёнком в семье, и будущее её было предопределено с детства. Она унаследовала изумительную красоту матери и весёлое, лёгкое обаяние отца. Сниматься в кино она начала в пятнадцать лет. В семнадцать она была уже известна всей стране, её именем были исписаны стены в школах и подъездах, а её фотографии висели в кабинах водителей-дальнобойщиков.
Сразу после школы она поступила в «Щуку». И там ей впервые безжалостно дали понять, что театр – это не кино и здесь внешность для актрисы ещё не всё. Что к её редкой красоте хорошо бы ещё немного таланта. Но Ксению, с её целеустремлённостью и опытом победительницы, не так-то просто было сбить с толку. Она считала, что всему можно научиться, и что «не боги горшки обжигают».
Она стала брать уроки у известнейшего театрального педагога, друга своего отца. Это был породистый седовласый старик, ещё вполне крепкий и не потерявший своего мужского обаяния. Кроме школы Станиславского он изучил все существующие современные театральные школы и был своего рода гением. О нём говорили, что он может научить играть стул.
Ксения в своей, в общем-то короткой, хоть и насыщенной жизни, ещё никогда не имела дела с такими людьми. Арсений Петрович был красив той внутренней благородной красотой, которая в те советские времена была уже полным анахронизмом. Своими аристократическими манерами, рокочущим тёплым басом и изысканным чувством юмора он больше походил на английского лорда, чем на советского педагога, пусть и театрального.
– Ну что же, милое создание, – сказал он ей мягко, – я могу научить вас всему, чему можно научиться, но я не смогу вложить в вас то, чего не вложил Он, – Арсений Петрович указал пальцем в небо, – уж не обессудьте.
– Я готова, – сказала Ксения, – я готова на всё!
Сначала он поставил ей голос, научил её владеть им во всех регистрах, обучил тончайшим его модуляциям. Потом объяснил ей, с точки зрения актёрской, все диапазоны человеческих эмоций. Научил пользоваться всей клавиатурой чувств, находить и нажимать в себе соответствующие клавиши, чтобы привести себя в нужное состояние. Научил плакать и смеяться на сцене так, чтобы этому вторил зал. Научил быть гордой и униженной, красивой и уродливой, высокой и горбатенькой, грациозной и неуклюжей, старухой и ребёнком.
Оказывается, существовала виртуознейшая техника игры и этой технике можно было обучиться почти в совершенстве.
Училась Ксения страстно. И так же страстно она влюбилась в своего учителя. Арсений Петрович отнёсся к её буйному чувству достаточно снисходительно, так как давно привык к бесконечным влюблённостям в себя студенток. Роль Пигмалиона ему давно приелась, она стала частью его профессии.
– Ксюша Александа-а-вна, – говорил он ей, слегка картавя, когда она пыталась с ним заигрывать, – вы оча-овательное дитя, но я уже в том возрасте, когда мне пора думать о душе, а не об этом маленьком хулигане, которого я почти усмирил.
Но Ксения не сдавалась. Она со своим опытом всегда получать желаемое встала, как Диана-Охотница, на тропу завоевания. Разница в возрасте более чем в сорок лет её ничуть не смущала.
– Я не выношу этих глупых, наглых и закомплексованных мальчишек, которые меня окружают. А вы… вы в ореоле…
– В ореоле приближающегося конца.
– Не смейте говорить о смерти! – возмущалась она.
– Почему же, – улыбался он, – всякая жизнь есть всего лишь бег к смерти. И чем раньше ты это поймёшь, тем лучше проживёшь отпущенное тебе время.
– Тогда я хочу быть вашей лебединой песней, – заявила она со всей бескомпромиссностью молодости.
– Вот и будь ей, в качестве моей ученицы.
– Мне этого мало. Я люблю вас.
Он долго не поддавался, слишком хорошо зная, чем такие истории кончаются. Даже клеветал на себя, уверяя, что необходимый для любви орган у него уже давно находится в «миролюбивом полёте». Но Ксения не верила и продолжала наступать. Она интуитивно понимала, что голос рассудка в конце концов капитулирует перед зовом плоти. Особенно такой плоти!
В один прекрасный вечер, после урока, Ксения вытащила из его холодильника бутылку шампанского, которую предусмотрительно сама туда же и засунула два часа назад, и заявила, что вчера ей исполнилось восемнадцать и что она собирается отметить это с ним в «интимном кругу». Он достал из своего, огромных размеров, старинного буфета хрустальные бокалы и коробку хорошего шоколада, которую всегда держал, на всякий случай. Разлив игривую жидкость по фужерам, он встал, поклонился и церемонно поцеловав ей руку, поздравил с официальным вхождением во взрослый мир.
– Ну вот! – заявила она, когда они выпили по бокалу, – это будет нашим венчанием. Перед Богом. Я видела, у вас в спальне и икона висит.
– Это икона моей покойной жены. А венчаться я не могу, так как сделал уже это однажды, сорок лет назад.
– Это не важно, – на этот раз она решила ни за что не дать сбить себя с толку, – тогда это будет нашей оргией! И вообще, – произнесла она заготовленную накануне фразу, – девственность ещё не значит непорочность. Иногда это просто невостребовательность. Я хочу, чтобы вы меня её лишили!
Он захохотал. А она уселась к нему на колени, обвила своими тонкими руками его, всё ещё крепкую, шею и стала покрывать поцелуями его лицо.
Перед таким натиском не устоял бы и ангел. Не устоял и Арсений Петрович.
Их связь длилась почти год. И они оба были счастливы. Ксения тем, что добилась своего, а Арсений Петрович… она действительно стала его лебединой песней. Такой бури чувств он не ожидал от себя сам. Она разбудила в нём некую силу, которую он давно уже считал благополучно почившей, и целый калейдоскоп абсолютно новых ощущений, от неловкости – к нежности, и к мучительной страсти.
– После любви с тобой я похож на старого кота, потрёпанного в половых разборках, – говорил он ей смеясь.
– Не смей произносить слово «старый», – требовала она, – у меня на него идиосинкразия.
– Это слово обозначает вовсе не то, что ты думаешь, – иронизировал он. – А у тебя просто ярко выраженный Эдипов комплекс.
– Не смей надо мной смеяться, – обижалась она, понятия не имея, кто такой Эдип, но понимая, что он над ней подтрунивает.
– Отчего же, – возражал он, – одна единственная капля юмора спасает порой от бесчисленных мук и нелепостей.
– Ты гений секса! – пыталась выглядеть она опытной женщиной.
– Секс – это только акт проникновения в чужой организм, как способ доставить друг другу удовольствие. И я, слава богу, не гений. Быть гением очень неудобно, так как ему совсем не на кого положиться.
Их отношения были полной тайной для всех. Это было его условием. Ксения была согласна. Её будоражил сам факт наличия «тайной жизни».
Однажды вечером он позвонил ей и попросил не приходить.
– Я сегодня не в форме, – сказал он, – позвоню тебе завтра утром.
Назавтра он не позвонил, а когда звонила она, трубка отзывалась длинными гудками. На следующий день ей позвонили из Боткинской сообщить, что он в реанимации, с обширным инфарктом и просит её прийти. Она примчалась в больницу, где он лежал в отдельной палате, и, зарыдав с порога, бросилась к нему на грудь.
– Тихо, тихо, девочка, – прошептал он. – Не плачь. Смерть не трагична, трагична жизнь. И умирать совсем не страшно, раз уж умерли такие великие… и разные… А ты подарила мне столько счастья, что сделала мой конец светлым.
– Пожалуйста, не умирай, – всхлипывала она, – не смей умирать! Я не могу второй раз потерять самого близкого мне человека. Как я буду жить без тебя?!
– Ты будешь жить очень хорошо, – тихо сказал он. – Я благословляю тебя на счастье. Но ты должна быть готова в этой жизни не только к победам, но и к потерям. Научись оборачивать поражения в свою пользу. И тогда ты всегда будешь победительницей. Ты ведь любишь быть победительницей, – улыбнулся он ей в последний раз и закрыл глаза.
Она просидела с ним всю ночь, гладя его руку и смачивая влажной салфеткой его пересохшие губы. Он умер в тот момент, когда утром она вышла сполоснуть опухшее от слёз лицо, как бы не желая её пугать этим переходом на ту сторону бытия.
Первые недели после его смерти Ксения прожила как под наркозом, автоматически участвуя в каждодневной жизни, но отказываясь иметь дело с реальностью. Вынырнула она из этого состояния только тогда, когда обнаружила, что беременна.
Мальчик родился в положенный срок и в «рубашке», то есть в родовой плёнке, которая по всем поверьям обеспечивает жизнь, полную счастья и удач. Она назвала его в честь отца, Арсением.
На следующий год она закончила училище и, сдав ребёнка на поруки бабушке и няне, поступила в самый модный по тем временам театр Москвы.








