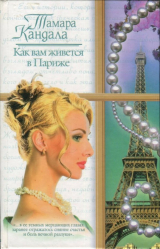
Текст книги "Как вам живется в Париже"
Автор книги: Тамара Кандала
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
В это момент меня точно подбросило и я, в каком-то немыслимо нелепом прыжке, в последнюю долю секунды бросилась между ними.
Ксенькин удар, потеряв поступательную силу в ту долю мгновения, когда она, краем глаза, засекла моё движение, пришёлся мне по уху. Было не больно, но в голове зазвенело.
Я увидела огромные тёмные Никины глаза, наполненные ужасом, и сощуренные по-кошачьи, Ксенькины, полные бешеной жёлтой злобы, и в изнеможении опустилась на стул.
Ника повернулась и, не оглядываясь, пошла прочь.
Я об этой сцене никому никогда не рассказывала. Ника, видимо, тоже.
ххх
Как оказалось потом, в тот же самый день Арсений встречался с Робином. По просьбе последнего.
Они сидели в какой-то маленькой забегаловке, ближайшей к госпиталю. И Робин рассказывал. Обычно немногословный, сейчас он просил его не перебивать. Было видно, что этот рассказ стоил ему немалых душевных усилий.
Арсений узнал следующее.
Это был первый год работы Ники в Кировском театре, в Ленинграде. И первые большие гастроли, в Киеве. Успех. Цветы. Пресса – «новое молодое дарование» – и, конечно же, первое романтическое увлечение партнёром. Три последних дня у неё выдались свободными. А у партнёра, как назло, нет. И она приняла предложение своей подруги по труппе – милой Танечки – поехать на эти дни к её родственникам, в «настоящее украинское село».
Поездка оказалась замечательной. Хозяева, поражённые худобой девушек, на их, привыкший к другим канонам красоты, взгляд, казавшейся болезненной, пытались изо всех сил их откормить. А спать положили, по их же просьбе, на сеновале под открытым небом, благо дни стояли тёплые. Целыми днями они с Танечкой гуляли в лесу, собирали грибы и ягоды, которыми тут же и лакомились. И даже искупались в теплой ещё речке.
Арсений напряжённо, не перебивая, слушал и никак не мог понять, какое этот буколический рассказ имеет отношение к происходящему. Что во всём этом было такого уж таинственного? Почему Ника отказывалась говорить с ним «про Киев» и «про Танечку»? Почему Робин смотрит на него так серьёзно, рассказывая эту белиберду!
– Вы понимаете, о чём я пытаюсь вам рассказать? – наконец спросил Робин.
Арсений отрицательно покачал головой. Ему, на секунду, даже пришла в голову Дикая мысль, что может эта «милая Танечка» была лесбиянкой? И приставала к Нике? Но кому это может быть сейчас интересно?
Робин помолчал. А потом, накрыв вдруг своей ладонью руку Арсения, сказал:
– Всё это происходило двадцать восьмого апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. И река, в которой они купались, была Припятью.
Арсений, по-прежнему, ничего не понимал. Он мысленно подсчитал – в этот момент Нике было двадцать лет, а ему шесть, и он с матерью уже жил в Париже. Никаких других ассоциаций у него не возникло.
– Ну, конечно, – сообразил наконец Робин. – Вы были ещё так малы, что эти даты и названия ни о чём вам не говорят. Ну хоть о катастрофе в Чернобыле вы слышали?
– Ну конечно!
– Так вот, она произошла двадцать шестого апреля, то есть за два дня до этих их «римских каникул». Примерно в тридцати километрах от того места, где они находились.
– Это значит… – У Арсения в голове возникла страшная, почти апокалипсическая картина – радостная, ничего не подозревающая Ника в густом радиоактивном облаке. – Но… но ведь это произошло почти двадцать лет назад! – В его голосе была мольба, как если бы сейчас это зависело только от Робина – вынести или не вынести приговор.
– Это значит, что они нахватались радиации, почти как в эпицентре Хиросимы. А последствия могут сказаться сразу, а могут и затаиться в организме, как бомба замедленного действия. Радиация – штука очень коварная. И до сих пор ещё до конца не изученная.
– Но как же их не предупредили? Ведь прошло уже целых два дня с момента взрыва!
– Вы забыли, где они жили. «Империя зла» – это был не просто образ. И, в первую очередь, это касалось своего собственного народа. Катастрофу пытались скрыть, как от своего населения, так и от всего мирового сообщества, как можно дольше. Вместо того, чтобы немедленно давать людям дозы йода и объяснить им, что они должны оставаться в домах, укрытиях, они вывели детей на первомайскую демонстрацию. Если бы не международный резонанс, жертвы бы насчитывались уже сотнями и сотнями тысяч.
– Так значит Никина болезнь сегодня – это последствия тех страшных двух дней!
– С большой долей вероятности, – сказал Робин.
– А то лечение, которое ей проводят – оно эффективно?
– Тот факт, что она отказалась делать химиотерапию, в несколько раз снижает эффективность лечения.
– Я пытался с ней говорить. Она не слышит никаких доводов. Отказывается наотрез. Из-за ребёнка.
– Я знаю. Теперь по поводу ребёнка… Я должен предупредить вас… как врач.
Арсений сцепил руки так, что у него побелели косточки пальцев – он был готов к худшему.
– Я не буду приводить вам страшную статистику уровня детской смертности, никогда не виданные доселе аномалии новорожденных в первые годы после катастрофы. Но расскажу вам историю Танечки, той самой, с которой была в эти дни Ника. Она вскоре вышла замуж и родила ребёнка. Ребёнок родился с такими ужасными отклонениями, что его не хотели даже показывать матери. Но она настояла. И решила забрать это непонятное существо домой, хотя ей предлагали оставить его в больнице при роддоме. Такая вот мужественная женщина. Через несколько месяцев ребёнок, к счастью, умер. Через несколько лет она забеременела опять. И решила рискнуть. Родилась девочка. На этот раз без явных патологий. Они проявились гораздо позже, к пяти годам. Она несколько раз приезжала с девочкой к нам, в Париж. Я показывал её самым лучшим педиатрам. Не буду вводить вас в детали, но у ребёнка оказались изменения на хромосомном уровне – поражено большинство внутренних органов. Девочка полный инвалид. Помочь ей невозможно. Медицина в таких случаях бессильна, она ограничивается только ослаблением постоянных болей, с помощью всё большего количества лекарств.
Он замолчал. Выпил залпом заказанный им коньяк. Потом продолжал.
– Поэтому, когда у Ники случились подряд два выкидыша, и я клещами вытянул из неё эту историю, я подумал, что это даже к лучшему. И вот теперь…
– Вы хотите сказать, что Ника может умереть ради того, чтобы дать жизнь больному ребёнку? Оставив его потом без матери?.. Но почему вы не рассказали мне об этом раньше?! Сейчас уже слишком поздно. У неё слишком большой срок. И время для химиотерапии уже потеряно. Она и по поводу второй операции сомневается, боится, что это тоже может повредить ребёнку.
– Поздно было уже в тот момент, когда она приняла решение. А решение она приняла в тот момент, когда узнала, что беременна. Я достаточно хорошо знаю свою бывшую жену, чтобы понять, что её решение было бесповоротно. На все случаи. Недаром ведь она ни разу не согласилась сделать экографию, чтобы понять, как идёт развитие ребёнка. И не забывайте, что она с самого начала, как никто, отдаст себе отчёт в том, о чём вы только что узнали. Но учтите, если она не согласится на следующую, двойную операцию, шансов выкарабкаться у неё не останется совсем. На данный момент анализы у неё такие же плохие, как и перед первой пересадкой. Ребёнку это повредить не должно, так как вся радио и химическая обработка её костно-мозговой жидкости будет проводиться вне её тела, а введённая потом обратно в её позвоночник, она будет оздоровлять её организм естественным путём. Я решил рассказать вам всё это для того, чтобы вы тем не менее были готовы ко всему.
Потом Робин сказал, что он должен идти, и, попрощавшись, направился к выходу. Арсений нагнал его в последний момент, когда тот был уже у самой двери.
– Мне очень жаль, – сказал он, положив руку на его плечо, – что случилось так, что мы любим с вами одну женщину. Именно вас мне не хотелось бы заставлять страдать.
– Мне бы тоже было гораздо проще, если бы вы оказались «злодеем», – криво усмехнулся Робин. – Я бы вас просто убил.
ххх
Через несколько дней Ника легла в госпиталь. Она решилась всё-таки на эту вторую операцию – пересадку её собственного, оздоровлённого костного мозга. Она была уже на шестом месяце беременности. Несмотря на все заверения, она понимала, что вся эта процедура была достаточно опасна, как для матери, так и для ребёнка. Для неё требовались пять-шесть недель, в течение которых пациент должен был находиться в полной изоляции от внешнего мира, то есть в специально обработанном, практически герметически закупоренном стерильном помещении со строго определённой температурой. Естественно, к ней никого не пускали, даже ближайших родственников. Единственная возможность общения с ней была через толстое, звуконепроницаемое стекло её палаты, где посетителей ей было видно только до плеч, и исключительно знаками.
Несмотря на всё это, Арсений выглядел гораздо более уравновешенным по сравнению с последним разом, когда я его видела. Только глаза были красными и воспалёнными. Он сказал мне, что совершенно перестал спать – не помогают никакие таблетки.
Мы сидели с ним в маленьком садике при госпитале, на жёсткой коричневой лавке. Под ногами была каша из последних, уже сгнивших листьев, смешанных с грязью почти недельных холодных дождей. Я пыталась говорить ему в утешение что-то банально-ободряющее.
– Знаешь, – сказал он мне, – за эти шесть месяцев Никиной болезни я понял про жизнь гораздо больше, чем за предыдущие двадцать шесть лет. До этого я был просто претенциозным сосунком. Я повзрослел сразу на несколько жизней.
– Тебе должно быть очень страшно, – сказала я. По крайней мере, мне за него было очень страшно.
– Нет, «страшно» – слово очень неточное. – Он помолчал. – Знаешь, нас учили на факультете астрофизики – каждое явление стоит подозревать в вероятности более чем одного толкования. Это относится и к жизни. Даже самые страшные, трагические события можно толковать по-разному.
– Что ты хочешь сказать? – я понимала, что он, как паучок, готов уцепиться за тончайшую паутину, сотканную им же и висеть на ней, сколько будет надо.
– Я попытаюсь поделиться с тобой одной теорией. Она не моя, а английского астрофизика Дэвида Бома. В ней действуют иные законы времени и пространства, позволяющие объяснить многое. Она достаточно сложна, но я попробую объяснить её тебе в популярной форме.
– Ну да, я профан, конечно…
– Я не хотел тебя обидеть. Сегодня даже в науке все профаны, в том что не относится к узкой специализации. Так вот, одной из самых сенсационных идей нашего времени стала эта самая бомовская теория о мире и вселенной, как необъятной голограмме. В которой «всё пронизывает всё». Где каждая частица, помимо себя самой, содержит всю голограмму в целом и неразрывно связана с остальными частицами, из которых состоит единая ткань мира. В этой Суперголограмме есть абсолютно всё – энергия, материя, измерения. В ней есть все войны и революции с их победами и поражениями; есть этот зимний пейзаж с этой скамейкой, на которой мы сидим; есть Гитлер, Сталин и Моцарт с Толстым, все сумасшедшие гении и террористы, все боги и антихристы; есть Никина болезнь, а также моя мать, с её припадочной правдой. Ты понимаешь, о чём я тебе говорю? Есть всё, видимое и невидимое простым глазом. При этом прошлое, настоящее и будущее существует одновременно. И наше сознание лишь частица этого фантома. Частица, вмещающая целое. Капля воды, из которой состоит океан. Понимаешь?
– Пытаюсь… Может быть, этим и объясняется способность «вспоминать» случившиеся не с нами, не здесь и не сейчас? И нагни сны? И то, что уходя, мы продолжаем жить в сознании других, порой ярче, чем живые.
– И это в том числе. В ней действуют иные законы времени и пространства, чем можно объяснить и многие паранормальные явления. Нострадамуса. Бабку Вангу. Вольфа Мессинга. Провидцев и «вспоминающих внезапно» древние языки, о существовании которых «вспомнящие» даже не имели понятия. Достаточно самого крошечного смещения в нашем разуме, вызванном шоком, болезнью, чем угодно, и, вдруг кому-то дано увидеть то, что невидимо другим. Всё это объяснимо, если допустить, что наша память всего лишь проявляет плёнку.
– Мне это знакомо. Правда, тут же забывается.
– Это срабатывает механизм мировой самозащиты. Представляешь, какой бы бардак случился, если бы все могли видеть голограмму в целом. Жизнь потеряла бы всякий смысл. В первозданном значении этого слова. Лучше уж пусть потеряет «смысл» или разум случайно увидевший. Как это случилось с моим индийским сокурсником, например.
– Но если кто-то умеет «увидеть» будущее, значит можно, наверное, на него повлиять?
– Никоим образом. Способность «видеть» совсем не означает умения влиять на течение событий. Наоборот, ты чувствуешь себя ещё более беспомощным, – он помолчал. – И, знаешь что, ты знай это, но пожалуйста не пытайся себе этого представить. Иначе с тобой может случиться то же, что и с моим индийским другом, о котором я тебе рассказывал. А он был намного более подготовлен к умственным потрясениям.
– Зачем же тогда знание, если ты не можешь этого понять?
– Чтобы победить тот самый страх. Страх смерти. Ужас потери. Для этого же и существуют все религии мира. И все философские учения. Остаётся только выбрать, что из них тебе ближе.
– А… Ника? Ты делился с ней этой теорией?
– С Никой я делился всем.
– Может быть, именно поэтому она так и упрямится в… в этой ситуации, что считает, что всё уже существует в Голограмме? Может быть она «видит», что всё кончится хорошо?
– А, может быть, наоборот.
Der Weltenplan vollzicht sich unerbittlich (Всемирный план осуществляется неумолимо) – фраза-мантра Рудольфа Штейнера, отца антропософии.
ххх
У меня есть отвратительная черта характера, в которой я полностью отдаю себе отчёт – я злопамятна. Но есть и другая сторона той же медали – я помню и благодарна до конца жизни не только за добро (даже за самое хлипкое), сделанное мне, но также и за попытку его сделать.
Кто-то сказал, что злопамятность – это своеобразный внутренний санитар, который ограждает нас от ненужных, а порой и вредных для нашего окружения людей, иногда на чисто интуитивном уровне.
И память у меня как у жирафа – доходит долго (по длинной шее) и застревает навсегда (в маленькой головке).
Всё вышеизложенное относится к следующему событию.
В этот день дождь, с самого утра, лил с библейской неукротимостью. Ксенькин звонок застал меня в машине. Мы с Машей возвращались от ветеринара, возили к нему собаку (у неё болело ухо).
– Не хочешь заехать ко мне, выпить чаю? – предложила она совершенно нормальным голосом, совсем как раньше.
Я уточнила, что я с Машей и собакой. Это её не смутило.
Был почти полдень. Но она, похоже, только недавно встала. В шёлковом белом халате, надетом на такую же пижаму, она позёвывала, готовя нам цветочный ароматный чай.
Где-то в глубине квартиры что-то шуршало и издавало странные звуки. Оказалось, что это был её Кумейка.
– Он что, у тебя живёт? – удивилась я.
– А где же ему ещё жить? Я ни с кем им делиться не собираюсь. Ты только посмотри, что он со мной сделал! Привёл в порядок душу и тело. У меня ощущение, что я помолодела на двадцать лет.
Выглядела она и вправду очень хорошо. Правда, на мой взгляд, набрала килограммов пять, но это, похоже, совсем ей не мешало. Хотя в прошлом она боролась с каждым лишним граммом.
– Ксения, ну пожалуйста, покажи своего колдуна! – взмолилась любопытная Машка.
– Да нет, он не любит быть на людях – это его отвлекает.
– От чего? – удивилась Маша.
– От главного! – отрезала Ксения.
– А… а… а… – пришлось смириться моей дочери.
В этот момент в комнатах послышался шум и что-то разбилось.
– Пошёл, пошёл вон отсюда… – заверещал кто-то визгливым детским голосом, – Шайтан проклятый!
Раздался собачий лай и рычание.
Машка, первая сообразившая, что Долли что-то натворила и, воспользовавшись этим, как предлогом, выскочив из кухни помчалась в глубину квартиры. Мы последовали за ней.
В спальне, на Ксенькиной огромной кровати лежало нечто, закрывшееся с головой одеялом. А наша собака пыталась это одеяло стащить, полная решимости увидеть, что под ним лежит.
Из-под одеяла высунулась большая растрёпанная голова с плоским лицом и сильно раскосыми глазами.
– Убирайте шайтана, – потребовала голова.
Долли обрадовалась, решив что с ней играют, и громко, заливисто залаяла.
Это было так смешно, что мы все, включая Ксению, расхохотались.
Возле кровати, на светлом паркете, валялись осколки разбитой фарфоровой чашки и темнело пятно разлитого кофе (опять разбитая чашка и разлитый кофе, пронеслось у меня в голове).
– Это он разбил, хвостой, хвостой, – проверещала голова.
Машка бросилась собирать осколки, а я, ухватив собаку за ошейник, выпроводила её из комнаты.
– Он что, спит с тобой в одной постели? – не удержалась я, когда мы оказались с Ксенией вдвоём на кухне.
– Бестактный вопрос, – холодновато ответила она. И прибавила: – Так нужно.
– Ну что ж, если это способствует твоему равновесию…
– Вот именно! – отрезала она.
На кухню вошла Маша, выбросила осколки в помойное ведро под раковиной, вытащила оттуда совок со щёткой и опять вышла.
Я всё это время безотчётно ждала и боялась какого-нибудь вопроса или замечания на болезненную тему. Как-то не верилось, что после всего она пригласила меня на чай просто так.
И дождалась.
– Так значит, эта сучка собирается родить моему сыну больного ребёнка?
– Я не буду разговаривать с тобой в этих… терминах и в этом тоне.
Она посмотрела на меня каким-то странным презрительным и одновременно угрожающим взглядом.
– Оставим в покое мой тон. Так, да? Или, нет?
– С чего ты взяла, что это будет больной ребёнок?
– А что ещё она может родить с её диагнозом? Раковым больным должно быть запрещено законом рожать детей. А мой сын идёт у неё на поводу… вернее ползёт. А я держала его за настоящего мужика. Как горько так ошибаться в людях! Особенно в близких, – и она опять посмотрела на меня этим новым странным взглядом. – А ты, значит, ходишь у них в близких поверенных, – констатировала она.
Я не знала, что сказать. Сидела и молчала, как дура.
– Ну, что ж! Придётся прибегнуть к услугам моего Кумейки.
– В каком смысле? – обалдело спросила я.
– То, чего не могут, или не хотят, сделать врачи, ему вполне по силам.
– Ты сошла с ума! По настоящему! – в ужасе воскликнула я, тут же представив себе кривоногого Кумейку, с кинжалом за поясом, прокравшегося в Никину палату. – Я предупрежу Арсения! И врачей в госпитале – ей выделят охрану.
Ксенька рассмеялась. Закончив смеяться, она посмотрела на меня, как на дебилку.
– Ему для того, чтобы… мм… скажем… нейтрализовать врага, совершенно не нужно передвигаться.
– Это кто твой враг?! Шестимесячный эмбрион в животе смертельно больной женщины?
– Вы все, – спокойно ответила она.
Она позвонила мне на следующий день, в семь часов утра.
– У меня пропало кольцо, подарок Графини, – сказала она ровным голосом, – вчера.
– То есть, как? – не поняла я спросонья.
– Вчера утром оно ещё лежало на столике, возле кровати. Я положила его туда накануне вечером, поленившись запереть в сейф… – она замолчала.
– И что дальше? – спросила я, чувствуя как холодеет в груди.
– А то, что вчера, до вашего прихода, оно ещё было на месте. Я его видела утром.
– И что? – опять тупо спросила я.
– А потом оно исчезло. После вашего ухода, – в её голосе не было ни капли сомнения.
– Может быть, оно упало? Собака могла сбросить его хвостом. Ведь разбила же она чашку, – предположила я слабым голосом.
– Я вчера весь день потратила на поиски – его нигде нет. В квартире, кроме вас, чужих никого не было.
– Ну, не думаешь же ты, что его могла взять я, – ужаснулась я вслух этой дикой мысли.
– Ты – нет. А твоя дочь могла, – вывод её звучал категорично, как приговор судьи к высшей мере.
– Ты сошла с ума! Ты не понимаешь, что ты говоришь, – выдохнула я, – Маша этого сделать не могла. Думай уж лучше на меня.
– Очень легко обвинять в сумасшествии того, кто расходится с тобой во мнениях, последнее время ты только этим и занимаешься. А своих детей, как выясняется, мы знаем очень плохо. Они теперь в её возрасте поголовно балуются наркотиками. А на них нужны деньги. Ты же сама мне рассказывала, что она связалась с каким-то подозрительным типом.
– Он подозрителен мне только тем, что гоняет на мотоцикле.
– Ты должна обыскать её комнату, – сказала она непререкаемым тоном.
– У нас это не принято, – ответила я, пытаясь попасть ей в тон.
– Ну, так введи это в обычай. Я хочу получить своё кольцо обратно, – сказала она жёстко и повесила трубку.
Это было уже слишком. Я физически почувствовала, как кровь бросилась мне в голову – мою дочь заподозрили в воровстве!
Я встала и поплелась на кухню. Маша допивала свой чай и едва надкушенный тост, с которого Долли не сводила заворожённого взгляда, сиротливо лежал на тарелке. Я тоже налила себе чаю и села напротив.
– Кто это звонил в такую рань? – спросила Маша.
– Ксения…
– Что-нибудь случилось?
– У неё пропало кольцо. Очень дорогое.
– И она звонила по этому поводу нам? В семь утра?
– Вот именно. Оно пропало с прикроватного столика. Вчера, после нашего ухода.
– Ты хочешь сказать, что она подозревает тебя? Или меня?
– Она подозревает тебя.
Маша помолчала. Я не могла заставить себя поднять на неё глаза. Наконец она сказала, почти шепотом:
– Кольца я не брала. И не видела. А о твоей подруге не хочу слышать больше никогда в жизни.
Она встала и, позвав собаку на прогулку, вышла из кухни. Через несколько минут я услышала, как за ними хлопнула входная дверь.
Свою комнату Маша никогда не закрывала на ключ. Проходя мимо, я повернула ручку и поняла, что она не заперта и на этот раз. Но входить не стала.
Ксения позвонила на следующий день.
– Ну что?
– Она сказала, что кольца не брала и не видела. И я ей верю.
– А я нет, – отрезала Ксенька. – Ты обыскала её комнату?
– Нет. Я этого делать не буду.
– Тогда я приеду и сделаю это сама. Выбирай.
У меня не было выхода. С некоторых пор я знала, что она способна на всё.
– Хорошо, – сказала я, – я это сделаю. Но я прекращаю с тобой общаться.
– Мне нужно кольцо, – спокойно ответила мне на это моя подруга.
И я потащилась в Машину комнату.
Первое, что я увидела с порога, было это самое проклятое кольцо. Оно лежало на письменном столе в прозрачном целлофановом пакетике.
И тут на меня нашло затмение – на какое-то мгновение я поверила, что моя дочь воровка. Я не прощу себе этого никогда в жизни.
У меня потемнело в глазах и я разрыдалась, сев на пол прямо на пороге комнаты. Господи, пронеслось у меня в голове, всё пропало. Как я буду теперь с этим жить? Мой мир, который я так тщательно строила и всеми силами оберегала, рухнул в одно мгновенье. У меня было чувство такой страшной потери, как если бы самый близкий человек внезапно умер прямо на моих глазах.
Собака проскользнула в комнату мимо меня, скорчившейся на пороге и, встав на задние лапы, стала внимательно обнюхивать целлофан, видимо, неплотно закрытый.
Я поднялась и приблизилась к письменному столу. И только тут я заметила записку, на которой лежал пакет. Я поднесла её к глазам и начала читать сквозь слёзы.
«Мама, – было нацарапано в ней Машиным почерком, – я знала, что ты придёшь в мою комнату с обыском. И была права. Кольцо я нашла вчера вечером в Доллиных экскрементах. Так как, в отличии от тебя и твоей подруги, поняла, куда оно могло деться. Если ты мне не веришь, значит у нас с тобой есть огромная проблема. А на твою подругу мне плевать навсегда! М.»
У меня от счастья чуть не разорвалось сердце. А в следующее мгновенье, от стыда. Мне никогда ещё не было за себя так мучительно стыдно. Как будто это меня только что схватили за руку, пойманную на воровстве при всём честном народе.
Открыв пакет, я увидела, что кольцо вымазано чем-то коричневым и, понюхав, поняла, чем.
И здесь я совершила один из самых трусливых поступков в своей жизни. Я положила записку на место, на неё пакет и, постаравшись замести все следы моего пребывания, вышла из комнаты.
Вечером, вернувшись из школы, зажав двумя пальцами проклятый пакет, Маша зашла в мою комнату, где я сидела за компьютером.
– Вот оно, ваше кольцо! – сказала она брезгливо. – Я нашла его вчера в Доллиных какашках. Потому что знала, где оно должно быть (она сделала ударение на этих двух словах, давая мне понять, что именно они были самыми важными).
– Ну и хорошо, – сказала я спокойным голосом (тщательно подготовившись к этому заранее). – Я знала, что оно найдётся где-нибудь. Иначе и быть не могло.
Я тут же отвезла пакет, в том виде, в каком он был, Ксении, написав ей, уже от себя, краткое письмо с объяснениями (добавив, что мне всё равно, верит она в них, или нет) и объявлением о разрыве наших отношений. Я вручила это всё ей молча, прямо на пороге её квартиры, потом, повернувшись села обратно в лифт, дверцу которого я предусмотрительно оставила незакрытой, и уехала. Она даже не попыталась меня задержать.
Это был последний раз, когда мы виделись по личному поводу. В дальнейшем нам пришлось ещё увидеться несколько раз, но исключительно в силу обстоятельств, требующих нашего взаимного присутствия. Это был конец нашей двадцатипятилетней дружбы.
Должна признаться, что для меня это было большой потерей. Думаю, что она отнеслась к этому гораздо проще.
Неужели и это всё заранее существовало (существует и всегда будет существовать) в этой бесчеловечной Суперголограмме?








