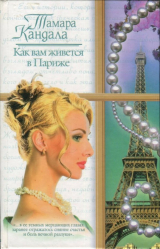
Текст книги "Как вам живется в Париже"
Автор книги: Тамара Кандала
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Дальше наступает самая грустная часть моего повествования. Я принималась писать ее несколько раз, каждый раз бросая от беспомощности, понимая, что не в моих это силах выразить словами невыразимое. Да и вправе ли я пытаться выразить чувства других в трагические, экстремальные моменты их жизни пером на бумаге, глядя на происходящее со стороны. Оставив попытки лирических отступлений и каких бы то ни было эмоциональных свидетельств, я решила описать в этой части только факты, прибегнув к хроникёрскому стилю репортажа.
Нике сделали первую часть операции – забор её собственного костного мозга. И теперь она ждала второй, главной части – обратной подсадки.
Арсений буквально валился с ног. Он проводил там, у её окна, почти всё время. Они общались записочками, причём его, перед тем как попасть к ней, предварительно обрабатывались. Иногда мне удавалось вытащить его поесть в ближайший пищеблок или посидеть в маленьком парке при госпитале.
Он пребывал в каком-то пограничном состоянии, в который, говорят, погружают пациентов для медицинского гипноза (я даже подумала, не поработали ли с ним) – между сном и реальностью, в котором чувства переставали существовать, застыв на точке, когда их ещё можно было вынести; минута превращалась в бессчетное множество часов и, наоборот, день пролетал как мгновение.
– Когда-то, много лет назад, я был счастлив. А Ника была здорова, – сказал он мне как-то, когда мы сидели с ним всё на той же коричневой лавке под окнами Никиной палаты. И, помолчав: – Вечность – это разделённые чувства. – И вдруг, схватив меня за руку, и с отчаянием в глазах: – Ты думаешь я могу умереть… если умрёт она?.. Имею право?
– Нет! Нет! И нет! – я понимала, что вопрос был риторическим, что он не спрашивает совета, а говорит с самим собой. – Что бы ни случилось, это твоя жизнь. И ты должен прожить её до конца.
– До счастливой старости? – усмехнулся он. – И кому это ведомо, где он, этот конец?
– Я уверена, что Ника поправится – материнство очень сильный стимул, включатся все силы её организма.
Он посмотрел на меня с выражением взрослого человека, понимающего, что есть вещи, которые ребёнку объяснить невозможно. Да и незачем. В его глазах была такая тоска, что казалось, он видит не только обозримое будущее, но и намного дальше.
– А ребёнок? Неужели тебе не интересно, каким он вырастит?
– Нет. Не интересно. Я анормален. Я не хочу детей. Во всяком случае, своих. Я готов был усыновить и воспитать некоторых из тех несчастных, которые уже родились в этом бессмысленном, коварном и жестоком сообществе, называемом человечеством, но никак не добавлять в него своих.
– Но ты не можешь говорить об этом всерьёз! – взмолилась я. – Сегодня не кончают жизнь из-за любви!
Он опять посмотрел на меня этим своим отстранённым взглядом.
«Жизнь есть только сон, увиденный во сне», – процитировал он кого-то. И потом: – Самое смешное, что я с самого начала знал, что мы с ней не жильцы на этом свете, каждый в отдельности. А уж вместе, тем более.
И я подумала, кто я такая, чтобы судить? Чтобы искать резоны и объяснения тому, что было выше моего понимания, тому, что мне, к счастью (или к несчастью), не дано было пережить самой. Это было явление не из обыденной жизни.
И я, уже в который раз, подумала, что та его история про «индийского друга», не была ли она его собственной историей? Я ведь действительно тогда на время потеряла его из виду. А Ксения – тем более. Может, это он жёг себе руки? Может, это его увезли в психиатрическую клинику, где он провёл несколько месяцев в вегетативном состоянии? И потом, вылечившись (или подлечившись), рассказал свою историю, но про «другого»?
И я его спросила. Не свою ли собственную историю он мне рассказал? Ну, за исключением анатомических подробностей.
Он посмотрел на меня удивлённо.
– Ну, знаешь, у тебя такое воображение, что ты могла бы писать сценарии к индийским фильмам. Ты что же, воображаешь, что я просидел несколько месяцев в психушке? Да и руки у меня целые – посмотри, – и он протянул мне руки, ладонями вверх. И при этом улыбнулся так обезоруживающе, что мне и вправду стало неловко за мои вымыслы.
На ладонях же у него, тем не менее, были шрамы странного происхождения.
Мы посидели некоторое время молча, думая каждый о своём. Потом он вдруг хмыкнул.
– Хочешь я расскажу тебе о моем первом сексуальном опыте? Тебе, как собирателю дурацких историй, должно быть интересно.
Я кивнула. Ещё бы! И приготовилась услышать душещипательную историю с дефлорацией.
– Мне было шестнадцать лет. Уже в Гарварде. После вечеринки меня затащила к себе студентка. Когда случилась первая фаза сексуального акта, она была очень удивлена: «Но ты же совсем не шевелишься! Ты что, уснул?» Дело было в том, что я и понятия не имел, что надо ещё и «шевелиться». Я вошёл в неё и просто ждал, когда «это» случится.
Как мы хохотали! Прямо под окнами Никиной палаты.
ххх
Моменты с привкусом вечности.
ххх
Шанс представился неожиданно.
В один из этих тяжёлых дней, когда я только что вернулась из госпиталя от Ники, раздался звонок. Говоривший представился главным художественным руководителем национального театра в столице одной из наших бывших Советских республик и назвал своё, известное всему театральному миру, имя. Он сказал, что прочёл мою пьесу и влюбился в неё (так и сказал «влюбился»), и хотел бы её поставить в своём театре. Прямо в этом сезоне.
– Ну, что ж, валяйте, ставьте, – сказала я развязным тоном, думая, что меня кто-то нагло разыгрывает. – Не забудьте только пригласить меня на премьеру!
Голос хмыкнул. Потом попросил взять ручку, записать его номер телефона и перезвонить. Что я и сделала.
Код действительно соответствовал названной стране и городу. И ответил тот же голос.
Выяснилось, что Б.С. (художественный руководитель театра и, одновременно, один из самых востребованных актёров всего «постсоветского» пространства) был всего неделю назад проездом (с какого-то международного фестиваля) в Париже, в компании друзей-актёров, один из которых, услышав, что тому нечего читать в самолёте, вручил ему мою пьесу (уже не помню даже, как у него и оказавшуюся). Результатом был этот звонок. Как в романе, ей богу.
Мы согласовали условия и он сказал, что хочет выпустить спектакль ровно через три месяца.
Я спросила, могу ли я приехать познакомиться с ним лично и с труппой. Он любезно предложил вставить этот пункт в контракт, также как и приглашение нас с мужем на премьеру.
Забегая вперёд скажу, что «сказка стала былью». Ровно в указанный срок (что в мире театра граничит практически с чудом) всё и случилось – премьера в одном из самых красивых театров Европы, полный зал, цветы, овации, я на сцене вместе со всеми участниками спектакля и растроганный до слёз муж, снимающий всё это на плёнку. Ну чем не индийское кино!
ххх
Нике сделали вторую часть операции – подсадили её собственную, оздоровлённую субстанцию, исключительно хорошо прореагировавшею на химическую и радиообработку. Теперь она должна была вытеснить все больные клетки и остановить болезнь. Было похоже, что и Никин организм «правильно» реагирует.
Сказали, что через неделю к ней начнут пускать посетителей.
В этот день Ника особенно хорошо выглядела и была в явно приподнятом настроении. Мне удалось уговорить Арсения пойти поспать и принять душ – он выглядел гораздо хуже Ники. Пообещав ему продежурить всё это время за окном и не спускать с неё глаз, я практически его вытолкала из госпиталя.
Я показывала Нике через стекло книгу, которую она просила меня принести – мой любимый «Александрийский квартет». Теперь книге предстояло пройти обработку, не знаю уж чем, и только потом попасть Нике в руки. Она смотрела на меня, улыбаясь, и горделиво поглаживала свой шести-с половиной-месячный живот.
И вдруг лицо её изменилось, черты резко исказились от боли, в расширившихся зрачках отразился ужас и она, закрыв почему-то ладонями уши, закричала. Через звуконепроницаемое стекло я крика не слышала, но поняла, что он ужасен.
Я ринулась за медсестрой. Сбежались врачи, и её немедленно увезли на каталке в двери, на которых было написано, что посторонним вход категорически запрещён.
На мои вопросы никто не отвечал. Звонить Арсению? Жалко. Он, наверное, только что прилёг. Да и что он мог сделать? Куда не пустили меня, не пустят и его. Значит, ждать. Я решила подождать пока одна.
Наконец из-за дверей, куда её увезли появился человек в белом халате, в котором я узнала ассистента-стажёра. Я буквально повисла у него на руке и потребовала ответа.
– Начались роды, – сказал он.
– Как! Ей ещё рано! Ведь ребёнок не выживет!
– Сейчас речь идёт о её жизни, а не о жизни ребёнка. У неё сильное кровотечение.
Я стала набирать номер Арсения. Но в этот момент он сам показался в конце коридора. Он махнул мне рукой, показав жестами, что теперь он чистый (делал вид, что обнюхивает свои подмышки и потом, растянув рот в обезьяньей гримасе, удовлетворённо бил себя кулаками в выпяченную грудь).
Увидев Никину палату пустой, он ринулся в те двери, куда её увезли.
Через некоторое время я увидела бегущего по коридору Робина, на ходу закатывающего рукава рубашки. Ну да, вспомнила я, у них же одна редкая группа крови. Я встала ему навстречу, но, не обратив на меня внимания, он скрылся всё за теми же дверьми.
Я не знаю сколько времени я там просидела – час, три. Про меня абсолютно все забыли, считая, видимо, что я давно ушла.
Наконец двое санитаров под руки вывели Арсения. Они почти насильно усадили его в кресло и сделали укол в предплечье.
– Это вас успокоит, – сказал один. – Вы мешаете врачам.
Потом один из них обратился ко мне.
– Попробуйте увести его отсюда. Его пребывание здесь бессмысленно. В операционную его всё равно не пустят. В палату интенсивной терапии тоже. До завтра ему не удастся её увидеть. К тому же у него поднялась температура. Возможно от перевозбуждения, но, возможно, и инфекция. Он не понимает, как это может быть опасно для его жены. Он вообще ничего не понимает. Неадекватен. Так что самое лучшее что вы можете сделать, это увести его отсюда, – повторил он.
Арсений наблюдал за нами взглядом загнанного зверя. Взглядом волка, оскалившегося в последний раз перед неминуемой гибелью.
– Я никуда отсюда не уйду, – почти прорычал он.
Мне стало страшно. Я, на какое-то мгновение, оказалась вдруг в его «шкуре» и физически почувствовала, что чувствует он – у меня внутри как-будто разорвался снаряд, разворотив мне все внутренности. Это было физически невыносимо. И здесь я совершенно чётко поняла одну вещь – он не переживёт смерть Ники. Клинически не переживёт. Это было то, о чём врачи ещё не имели понятия – речь шла сразу о двух жизнях. Вернее о трёх. Ведь был ещё и ребёнок. Неизвестно, живой или мёртвый.
– Господи, а что же с ребёнком? Он родился? Жив?
– Ей стимулируют роды. Кесарево делать поздно. В этом и проблема.
В результате, почти в два часа ночи я отправилась домой одна. Арсений отказался покинуть территорию госпиталя. Его уложили в какой-то палате, где, после лошадиной дозы снотворного, он забылся на несколько часов.
На следующий день была суббота. Я ехала по маршальским бульварам из своей Булони в пятый округ, где находился госпиталь. Проехать было практически невозможно, бульвары были наполовину перекрыты – строили (уже который год) трамвайную линию. Чертыхнувшись, я резко свернула влево, решив попытаться проехать через город. Здесь было ещё хуже – толпы народу, машины, преимущественно с непарижскими номерами, еле двигались. Сезон распродаж (любимого развлечения французов) был в разгаре.
У меня в голове вертелась картинка, увиденная накануне по телику – выброшенная на шикарный пляж Тенерифе лодка с потерпевшими очередное крушение сенегальскими беженцами. Чёрные, измождённые многодневным голодом и жаждой полуживые тела в полусгнивших одеждах, и всполошившиеся отдыхающие – сисястые тётки топ-лесс (в основном, немки), их толстопузые мужья и обгоревшие дети, а также весёлая молодёжь – пытающиеся оказать первую неловкую помощь потерпевшим бедствие. Они спешили к ним со всего пляжа, кто с водой, кто с яблоком, а кто и с банкой пива в руках, накрывали их своими полотенцами, клали их головы к себе на колени, забыв одеться и развесив над ними голые сиськи, от которых потерпевшие (если были в сознании) старательно отводили глаза. Дети, окружившие корчившуюся в последних муках, умирающую у них на глазах женщину. Всё это комментаторы показывали как фон для дебатов о незаконной эмиграции.
В коридоре отделения, где лежала теперь Ника, было довольно оживлённо. Сновали медсёстры и посетители с цветами и фруктами в руках. Никина палата находилась в самом конце коридора, за двумя двухстворчатыми дверьми, маленьким «предбанником» и ещё за одной, плотно закрытой дверью.
Ника лежала высоко на подушках. Её тонкий заострившийся профиль как никогда напоминал бледную, нежнейшей резьбы камею. Такие же бледные, почти с голубизной тонкие руки лежали вдоль тела поверх одеяла. Глаза были прикрыты, но веки подрагивали. По обе стороны от неё сидели Робин и Арсений.
Арсений поднял на меня измученные глаза и кивнул головой. Робин тихо, одними губами поздоровался.
У противоположной стены комнаты стоял небольшой столик. И там, под стеклянным колпаком, обвитое тонкими проводками с присосочками, шевелилось крохотное розовое существо, похожее на креветку.
Я застыла в остолбенении. Ника открыла глаза и улыбнулась в мою сторону слабой улыбкой.
– Подойди к ней, – прошептала она едва слышно.
Я приблизилась к столику. Ребёнок был крохотный, но абсолютно сформировавшийся. Это была девочка. Она лежала, зажмурив глазки и по-паучьи шевелила конечностями.
– Её осмотрели педиатры, сказали, что у ребёнка нет никаких отклонений. Правда, Робин? – Робин кивнул.
Я подошла к Никиной кровати и, так как оба стула были заняты, присела на её краешек.
Ника, поочерёдно посмотрела на обоих мужчин умоляющим взглядом и они, как по команде, встали и вышли.
– Ника… Милая… – сказала я. – Я тебя поздравляю. Всё случилось, как ты хотела.
– Почти, – сказала Ника. – Я не хотела умирать.
– Ты выздоровеешь, – сказала я растерянным голосом.
Она слабо покачала головой.
– Я умираю, – она говорила тихим ровным голосом, без всяких эмоций. – И Арсений об этом знает. Все об этом знают.
У меня полились слёзы из глаз и я ничего, ничего не могла с этим поделать.
– Не плачь… – сказала она, – послушай меня…
Я молча кивнула, давясь слезами.
– Девочка остаётся совсем одна. Арсений её не любит.
Я попыталась что-то сказать, но она остановила меня глазами.
– Он считает её причиной моей смерти. И ничего не может с этим поделать. Он ещё не созрел для отцовства. Все чувства, которые у него были, он отдал мне. Я не знаю, что он намерен делать… но догадываюсь.
– Что? – еле слышно всхлипнула я.
Она покачала головой и дрогнула ресницами, как бы прося не перебивать.
– Сейчас он думает, что не сможет без меня жить. И он не хочет, чтобы ему помогали. Ему никто не нужен. Он сам себе не нужен. И девочка ему не нужна.
– Но… но не бросит же он своего ребёнка?..
– Не бросит, – сказала Ника. – Он её пристроит со всеми своими деньгами. А сам уйдёт умирать. Но смерть коварна. Она не там, где её ждут. Поэтому, что бы ни случилось, я прошу тебя не терять её из виду.
Я кивнула.
– И ещё… Там, в шкафу, мои блокноты. Я хочу, чтобы ты их взяла… и сохранила… для неё. Можешь прочесть – там обрывочные заметки о счастливых совместных снах.
Я открыла шкаф, вынула оттуда две тонких тетради и положила к себе в сумку.
Потом я взяла её руку и поцеловала. Контакт моих сухих шершавых губ с её, удивительно тёплой и какой-то искрящейся кожей показался мне почти кощунственным.
Ника лежала с открытыми глазами, как будто всматриваясь во что-то, видимое только ей одной.
– Мне нужно понять, зачем всё это, – опять заговорила она, как бы с самой собой. – Почему я должна уйти именно сейчас? В самый счастливый и высокий момент моей жизни. Есть ли в этом какой-то смысл? И, если есть, то какой? И почему никто из уже ушедших мне не может подать никакого знака? Я так надеялась на… – она не сказала на кого.
– Тебе… страшно? – Я не могла не задать ей этого вопроса. Для меня он всегда был самым важным в ожидании смерти.
Она прикрыла глаза. Чуть сжала мою руку своей.
– Я изо всех сил пытаюсь представить, как это – перестать существовать… здесь… и не могу. Хотя это уже так близко… так близко… Но я хочу перейти «туда» в сознании… хоть на короткой вспышке сознания…
Потом она забормотала что-то невнятное – «… принцип неопределённости… спроси у Арсения, он объяснит… если сейчас, то не здесь… А если здесь, то не сейчас…». Мне показалось, что она бредит. Но это было не так, она была в полном сознании, ей просто трудно было говорить, силы были на исходе. А речь шла о «принципе неопределённости» Гейзенберга.
Она опять помолчала, собираясь с силами.
– Я бы очень хотела увидеть Машу, – наконец сказала она. – Если ты не возражаешь… – Я кивнула. – …и если она успеет.
Я вышла из палаты. Арсений стоял один в маленьком предбанничке, прислонившись спиной к стене и не сводя глаз с двери, из которой я только что вышла.
Я взяла его за руку. Рука была безжизненной, вялой, пальцы ледяными.
– Она хочет видеть Машу, – сказала я. – Я пойду позвоню.
Он безразлично кивнул, отнял свою руку и, толкнув дверь плечом, вошёл в палату.
Маша примчалась через час. Ещё полчаса у меня ушло на то, чтобы её как-то подготовить. Она знала, что Ника больна, но никак не подозревала о серьёзности положения.
Потом она мне рассказала, что когда она вошла в палату, Арсений, сидя на кровати, держал Нику за руку, и они улыбались друг другу счастливо и спокойно. «Как перед алтарем, – сказала Маша, – как будто они только что сказали друг другу «да» перед Богом». Она остановилась на пороге, как вкопанная, не зная как себя вести. В сторону ребёнка ей почему-то было страшно даже смотреть.
– Поди сюда, Машенька, – позвала Ника.
Маша подошла и села на свободный стул.
– Видишь, Маша, – сказал Арсений, не выпуская Никиной руки, – мы с Никой уходим, – и… улыбнулся.
Машка наклонилась к Нике и стала покрывать ей поцелуями лицо, заливая его своими слезами. Ника погладила её свободной рукой по волосам.
– Не плачь, – сказал Арсений. – Здесь нельзя плакать. Ника расстроится. А ей нельзя. Мы должны уйти счастливыми.
Маша с испугом посмотрела на Арсения, ей в этот момент показалось, что он потерял рассудок.
– Не бойся, Маша, я не сошёл с ума, – сказал Арсик, легко прочтя её мысли. – Я сейчас выйду, чтобы вы могли попрощаться. Только ты не плачь. Обещаешь?
Маша мелко закивала головой, изо всех сил сдерживая слёзы, которые всё равно катились из глаз.
Арсений вышел.
Ника положила её голову себе на грудь и стала шептать ей на ухо, как бы боясь, что их могут услышать.
Маша наотрез отказалась мне потом рассказать, что ей сказала Ника.
– Это наша с ней тайна, – непреклонно сказала она. – Если бы она хотела, она сказала бы это тебе.
Когда мы вышли с ней на улицу, скупое зимнее солнце заваливалось за крыши домов, освещая последним рассеянным светом голые деревья, воробьёв, скачущих в поисках корма и старушек на лавочках. Жизнь продолжалась. Люди спешили по своим делам, делали покупки, сидели в кафе, ели, пили, болтали ни о чём (а может, о чём-нибудь важном) и понятия не имели о том, что Ника умирала. И рядом с ней умирал Арсений.
– Неужели Ника умрёт и в мире ничего не изменится?! – сказала моя дочь. – Это нечестно.
Счастливая, она могла ещё рассуждать такими категориями – честно-нечестно.
Я обняла её за плечи. Этим худеньким хрупким плечикам было не под силу выдержать груз этой первой серьёзной утраты.
– Конечно, изменится, – сказала я. – Миру придётся жить без Ники. И тебе. И мне.
И вдруг она, прямо посреди улицы, завыв каким-то нечеловеческим голосом, кинулась мне на шею. – Мамочка, пожалуйста, не умирай… – захлёбывалась она утробными рыданиями. – Обещай мне, что ты никогда не умрёшь… Ну, пожалуйста… обещай…
Ника умерла на следующий день, рано утром. Арсений, державший её руку вторые сутки без сна, на минуту прикрыл глаза и провалился в короткий, минутный сон. Он открыл глаза на её последнем, коротком, судорожном вздохе. И успел увидеть, как она закрыла глаза и чуть нахмурила лоб, как бы удивившись чему-то. Это выражение лёгкого удивления так и застыло на её прекрасном, даже после смерти, лице.
Прощание состоялось через три дня, в крематории. В очень узком кругу. Урну с прахом предполагалось захоронить в фамильном склепе Робина.
В самом конце краткой церемонии открылась дверь и вошла Ксения – вся в чёрном, на высоких каблуках, в облаке дорогих духов.
Она подошла к Арсению и попыталась взять его за руку, заглядывая при этом, почти по-собачьи, в глаза. Он отнял руку и, даже не повернув в её стороны головы, отошёл на два шага.
Я видела его в первый раз со дня смерти Ники. На протяжении всех этих трёх дней я пыталась представить, что с ним происходит. Он же где-то находился всё это время, дышал, существовал. Как он выносил эту боль? Эти, самые страшные, первые часы и дни? Мне казалось, что он должен чувствовать нечто подобное пассажиру стремительно падающего самолёта, понимающего, что он живёт последние мгновения своей жизни, что вот сейчас сию минуту произойдёт страшный взрыв, и его тело разорвёт в куски, и он перестанет существовать… вот сейчас… через мгновение… И это мгновение длится и длится.
Я пыталась дозвониться ему в эти дни, но оба его телефона были отключены.
И вот теперь он стоял, замурованный в непроницаемое одиночество, с глазами, затянутыми изнутри светонепроницаемыми стальными шторками, и никто не осмеливался подойти к нему с соболезнованиями.
Он вышел тут же после окончания церемонии, так же молча, как и вошёл.
На улице Ксения направилась было в нашу сторону, но моя дочь крепко взяла нас с мужем под руки и, развернув в противоположном направлении, решительно потащила прочь.
«Мёртвые всемогущи – им нечего бояться», – сказал проходящий мимо незнакомый человек.
ххх
Через две недели мне принесли, прямо в квартиру, заказное письмо на моё имя. На конверте, на крупной печати стоял адрес адвокатской фирмы. В письме содержалась официальная просьба прийти в назначенный день и час по указанному адресу. В конце отпечатанного текста рукой Арсения было приписано «Приди, пожалуйста! Это моя личная просьба. Извини, что в такой форме. А…»
В назначенный день я немного задержалась (как всегда не могла припарковаться). Секретарша проводила меня в большой, обитый деревом и уставленный тяжёлой английской мебелью, кабинет. Там все уже были в сборе. Кроме Арсения и Ксении, сидящих по разным концам огромного стола, там было ещё двое мужчин, представившиеся мне адвокатом и нотариусом.
– Ну, вот, теперь все в сборе. Можем начать, – официально-вежливым голосом низкого, красивого тембра произнёс адвокат. Он открыл папку, достал оттуда листки и тем же бестрепетным тоном стал зачитывать содержимое.
Суть дела заключалась в следующем:
Арсений, при жизни, «находясь в твёрдом уме и здравой памяти», завещал всё своё состояние своей дочери, которое она должна была получить в день своего совершеннолетия. Состояние же это было достаточно большим. Он продал свою, основную, часть компании своему младшему партнёру, деньги надёжно вложил, а акции распределил (здесь я услышала имя своей дочери, на имя которой он оставил некоторое количество акций, в качестве подарка к её совершеннолетию). Свою лондонскую квартиру, опять же до совершеннолетия дочери, он отдавал под офис одного из отделений организации «Врачи без границ».
Опекунство же над девочкой, ровно до этого дня, он поручал своей матери. При этом она имела право распоряжаться частью (очень значительной) этого капитала на своё усмотрение, при условии…
Дальше шёл целый список условий, достаточно кабальных, которые должна была принять Ксения, в случае своего согласия. Среди условий были, например, отказ от брака и «от официального сожительства с кем бы то ни было под одной, с ребёнком, крышей», а также отказ Ксении от длительных отлучек из дому (больше недели), независимо от того, связаны ли они с её профессиональной деятельностью, или нет. Отныне её жизнь должна была быть посвящена исключительно воспитанию девочки. Условия жизни и воспитания ребёнка будут строго контролироваться. Сделаны были мельчайшие распоряжения по всем мыслимым и немыслимым поводам, предусмотрены и оговорены все мелочи, вплоть до отказа Ксении от крепких алкогольных напитков и курения; изучения ребёнком двух иностранных языков с раннего возраста, запрещения его вывозить в Россию и практически постоянного (кроме ночных часов) присутствия в доме третьего лица, в качестве «связующего звена с теми, кому поручен контроль».
Когда адвокат закончил читать, в комнате повисло тяжёлое молчание. Слышно было только дыхание Ксении, бесконечно затягивающейся (может быть последней) сигаретой и тяжело выпускающей дым.
– Я на всё согласна, – сказала она наконец, нервно ввинтив окурок в пепельницу.
– Ну, вот и хорошо, – подытожил адвокат. – Теперь все присутствующие, включая свидетеля (то есть меня) должны подписать бумаги.
Что мы и сделали.
Когда всё было закончено, все встали.
– Что… что ты собираешься теперь делать? – Ксения в умоляющем жесте протянула к сыну сцепленные руки, не решаясь сделать ни шагу в его сторону.
– Я ухожу, – сказал он спокойно.
– Куда?! – она подняла на него глаза, в которых было столько же боли, сколько и отчаяния.
– Совсем, – сказал Арсений. – И не пытайся меня искать – это будет бесполезно. Я изменю имя, фамилию и все остальные данные… так, чтобы тебе не отдали даже моего тела… если его найдут.
Потом я узнала, что он уговорил Робина отдать ему урну с прахом Ники, убедив того, что он единственный, кто знает, где Ника хотела, чтобы прах был рассеян. Робин сказал, что не мог ему отказать.
Я так полагаю, что ещё примерно с неделю он оставался в городе. Так как в конце следующей недели я вынула из своего почтового ящика ещё один конверт. На этот раз конверт был без адреса, на нём просто было написано «Для Шоши». Это могло значить только одно – кто-то положил его в ящик сам, своими руками, без помощи почты. В толстом конверте была маленькая плоская коробочка и записка. «Шошка, – было написано на тонком листочке бумаги, – это тебе от Ники. Извини, что забыл отдать сразу. Спасибо тебе за всё. А…» Я открыла коробку. Там, в чёрных бархатных выемках, покоились серьги с зелёными камнями в форме слезинок. Те самые, в которых была Ника, когда они встретились в самолёте и потом, в тот самый, памятный вечер, в ресторане.
По крайней мере, у него хватило вкуса не написать этого страшного слова «прощай», подумала я.
И всё. Потом он исчез. И мир остался существовать дальше. Без Ники и Арсения.
Мир, но не я. Я решила сохранить в себе надежду. Вопреки всему. Вернее, во имя всего.
ххх
Девочку Ксения назвала Никой.
Париж. 2006








