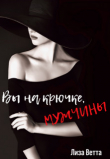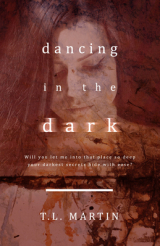
Текст книги "Танцующий в темноте (ЛП)"
Автор книги: Т. Л. Мартин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)


– Я хочу быть внутри твоего самого темного всего.
– Фрида Кало

Я задерживаюсь в дверном проеме, опираясь плечом о косяк. Шаги
Гриффа приближаются слева от меня, но я остаюсь сосредоточенным на зрелище передо мной. Глаза Эмми распахиваются. Она неуклюже выпрямляется, перенося вес своего тела с цепей на ноги. В отличие от первой фотографии, которую прислал мне Райф, цепи теперь достаточно ослаблены, чтобы ее локти легко сгибались.
Ее ноги дрожат, она замечает Обри, которая наматывает повязку на ее левую ступню. Затем ее взгляд останавливается на одной из секретарш Гриффа, когда она убирает все с поверхности стола. И затем она находит Райфа. Он сидит в углу комнаты, слишком занятый телефонным разговором, чтобы в полной мере насладиться сценой, которую он, должно быть, создал вручную после того, как я ушёл этим утром.
Я заставляю себя снова посмотреть на Эмми, сжимая кулаки в карманах от усилий, которые требуются, чтобы не смотреть прямо на ее обнаженное тело. Я не буду смотреть. Я знаю, что случится, если я уступлю соблазну, который будет манить меня до тех пор, пока я не потеряю разум. В конечном итоге Райф получит то, чего он добивался с тех пор, как она приехала.
Тем не менее, краем глаза я вижу это, пусть и смутно. Пленительные изгибы, плавные линии и соблазнительные выпуклости. Блеск пота, отражающийся от гладкой фарфоровой кожи.
Жар разливается по венам, пока не обжигает. Прошло много времени с тех пор, как я позволял себе такое простое удовольствие. Мои мышцы напрягаются и дрожат от напряжения под одеждой при одной только мысли об этом.
Один взгляд вниз, и я бы увидел все. Эмми Хайленд в самом уязвимом ее проявлении. Десять легких шагов, и мы могли бы оказаться кожа к коже. Ее пот у меня на языке. Волосы в моем кулаке. Изгиб ее нежной шеи между моими зубами, черные пряди, обернутые вокруг костяшек моих пальцев.
Моя челюсть двигается из стороны в сторону, я внезапно ощущаю прохладу моего ножа между пальцами. Чем дольше я смотрю, тем больше все это смешивается. Темные волосы, бледная кожа, эти гребаные глаза.
Жар, проходящий через меня, усиливается до обжигающего кипения, и по совершенно другой причине. Кровь Хьюго все еще покрывает пол подвала. Ощущение его ужаса до сих пор вибрирует в моих костях. Только что моими руками произошло убийство. Живое в моем сознании.
Темные воспоминания и яркие белые огни захватывают, пока не затуманивают зрение. Сдавленные крики прошлого пронзают мои барабанные перепонки и оседают в груди. Я смотрю на человека, беспомощно прикованного к моей люстре, и вижу ее.
Женщину, которая все разрушила.
Держала меня взаперти в клетке, заставляла наблюдать.
Как она освежевывала, потрошила, украшала.
Сделала фотографию и установила ценник на ее искусство.
Каждое утро, каждую ночь в течение 721 дня.
Локоть толкает мою руку, и я рычу. Грифф кривится и проходит мимо меня, направляясь прямо к столу. Прямо к ней. Он проводит рукой по паху и поправляет брюки, его намерения столь же открыты, как гребаные окна в офисе Феликса.
Мои шаги становятся шире, когда я понимаю, что иду с ним шаг в шаг. Мой взгляд прикован только к одному человеку. Ее голова поворачивается ко мне, затем к Гриффу. Ее отяжелевшие глаза расширяются, и дрожь проходит по всему телу. Обри и какая-то секретарша, спотыкаясь, отступают назад, освобождая дорогу. Я протягиваю руку, снимаю один наручник с ее запястья, и ее рука безвольно падает вдоль туловища. Я открываю следующую и ловлю ее влажное тело, прежде чем она упадет на землю, затем крепко прижимаю ее к себе.
– Джентльмены.
Веселый голос Райфа подобен далекому зову, пробивающемуся сквозь крики, все еще звучащие в моей голове.
– Руки прочь от моей секретарши, пожалуйста, и спасибо вам.
Мое плечо задевает пиджак Гриффа, когда я игнорирую его, и выхожу из столовой с ней на руках и иду по коридорам. Они оба окликают меня, но я едва различаю их голоса. Я не знаю, какого хрена делаю, или что собираюсь сделать – задержать новую сотрудницу или убить ее, просто чтобы прекратить крики. Мой пульс колотится так сильно, что я чувствую его, блядь, повсюду — в голове, шее, груди, и в других местах, где ему не следует пульсировать.
Я меняю положение, чтобы держать её обеими руками, и её голова опускается, упираясь в моё плечо. Она все еще дрожит, но это самое большее, на что она, кажется, физически способна. Я смотрю прямо перед собой, делаю большие шаги, проходя дверь за дверью как в тумане, пока не вхожу в ее комнату в женской стороне.
Стоя над ее кроватью, я отпускаю ее из своей хватки, как будто мои пальцы горят. Это не нежно, то, как ее тело ударяется об одеяло, и она издает тихий стон, прежде чем свернуться в клубок.
Раздраженный, я набрасываю тонкую накидку на ее обнаженное тело, чтобы сдержать жгучее искушение, затем делаю шаг назад. И еще один. Смотрю прямо перед собой на черную стену над ее подушками, у нее над головой. Моя кожа горячая, в груди стучит так, как бывает, когда проходит слишком много времени с тех пор, как я совершил убийство. Это не имеет смысла. Мое дыхание становится неровным в неподвижном воздухе.
Я должен уйти.
Мне нужно уйти.
Я знаю это так же хорошо, как знаю, что солнце встает каждое утро, но мое тело не двигается.
Я собираюсь сунуть руки в карманы, чтобы удержаться на земле, когда вспоминаю о своем ноже и опускаю их по бокам. Лучше держать оружие подальше от моей руки, пока я не выясню, какого черта делаю в ее комнате. Костяшки пальцев сжимаются до побеления.
Наконец, я опускаю взгляд вниз. Мимо стены, к верху наволочки, к длинным прядям волос, веером, разметавшимся у нее за спиной. Ее глаза открыты, когда она лежит на боку, уставившись прямо перед собой в открытую ванную комнату напротив, но на самом деле она не смотрит. Ее радужки – голубое стекло, полупрозрачное и отстраненное. Что-то в выражении ее лица заставляет ритм моего пульса немного нормализоваться. Мне нравится, что на самом деле ее здесь нет.
Я делаю медленный шаг вперед, мои штаны задевают изножье кровати. Опускаю взгляд к ее розовым губам, затем к мягкому изгибу щеки, подбородка.
Так она выглядит по-другому. Свернувшаяся калачиком и отсутствующая.
Я не могу определить, что сдавливает мои плечи и горло при виде ее такой, но смутное узнавание шевелится внутри. Я чувствовал это раньше, даже если годами не позволял своим мыслям блуждать так далеко в прошлом. Сейчас я ненавижу это чувство так же сильно, как и тогда. Возможно, даже больше.
У меня и моих братьев много общего, включая наше общее презрение к Катерине. Мы все были заперты в клетке. Мы все были в камере смертников, ожидая превращения в бесплотные произведения искусства, выставленные на витрине. Наблюдая, как другие приходят и уходят. Но между ними и мной было одно существенное различие.
Я был единственным предметом, который Катерина хранила в своей студии. Моя клетка стояла в пяти футах от ее рабочего стола. Я был единственным человеком, который наблюдал за всем этим – за каждой гребаной вещью – день за днем. Единственный, кто провел почти два года с лицом, освещенным рядами безжалостно ярких огней, пока она работала, и работала, и работала.
Единственный – на первый год.
На второй год моего перебывания в студии появилась еще одна. Еще одна с черными волосами, бледной кожей и этими завораживающими небесно-голубыми глазами. Еще одна, кто одной мыслью заставляет мою кровь закипать по совершенно другим причинам.
Но нет. Я не буду думать о ней. Я не буду делать этого ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра.
Она не такая, как Катерина. Они никогда не будут в одной категории. Она не сжигает мои вены глубокой ненавистью. Я могу с этим смириться. Черт, я преуспеваю в этом. Ненависть – это топливо, которое поддерживает во мне жизнь. Но София… то, что она разжигает в моей груди, темнее этого. Грубое. Поврежденное. Все, от чего я слишком зависим, чтобы забыть.
Ради сохранения моего хаоса запертым в разуме, плотно упакованным туда, откуда он не может вырваться, я намерен никогда больше не думать о ней.
Мой взгляд скользит вниз, к плавному изгибу тонкой шеи Эмми, ее выступающей ключице. Хрупкий наклон ее левого плеча, влажного и опущенного вперед. Мои пальцы сжимаются в кулаки по бокам. Я расправляю их веером и отвожу напряженные плечи назад. Прежде чем мой взгляд может переместиться ниже, я разворачиваюсь на каблуках и выхожу за дверь. В этом доме есть много мест, где я должен быть прямо сейчас, но ни одно из них не здесь.


– Даже самая темная ночь закончится и взойдет солнце.
– Виктор Гюго, «Отверженные»

(Тринадцать лет)
Горло горит, как будто я проглотил зажженную спичку. Я вздрагиваю, когда делаю глубокий вдох, переворачиваюсь на другой бок, но не утруждаю себя тем, чтобы открыть глаза и проверить, есть ли вода в дозаторе. Одиннадцать месяцев сижу здесь взаперти, а у меня до сих пор сводит зубы от того, что я использую пластиковую бутылку ручной работы, прикрепленную проволокой к железным прутьям, как в клетке для чертова хомяка. И в любом случае, уже полтора дня никто не заходил в студию. Так что некому наполнить эту штуку.
Странно быть одному. Я так сильно хочу почувствовать облегчение в тишине и покое. Наконец-то поспать несколько часов и ненадолго забыть обо всем. Но все, что это дает, – выбивает меня из колеи. Нервирующее чувство движется вверх по позвоночнику от странного отсутствия в воздухе, и мне это совсем не нравится.
Секунды ползут незаметно, каждая из которых напоминает мне, что я все еще здесь, и никогда не выберусь.
За дверью раздается глухой удар, за которым следует равномерное вращение колес. Я даже не моргаю. Я знаю, что означает этот звук.
Новые поступления.
Бедный парень. Я помню, как был новеньким. Проснулся внутри замкнутого и тесного ящика. Меня погрузили на тележку и катили по узкому, пахнущему гнилью коридору. Привезли в комнату, заполненной еще большим количеством ящиков, таких же, как мой. Еще больше детей, таких же, как я.
Но это было другое время. Другой я. После всего дерьма, через которое я уже прошел, пытаясь выжить на улицах, всего того, чему был свидетелем и в чем участвовал, я был уверен, что видел худшие стороны зла и убежал от них.
Оказывается, я никогда раньше не видел настоящее зло вблизи. И вы не можете убежать от того, чего не видите.
Пройдет некоторое время, прежде чем новенького приведут в студию. Ради него я надеюсь, что это будет долгое время.
Медленно двигаясь, я использую предплечья, чтобы оттолкнуться от рваного шерстяного одеяла, расстеленного на стальном полу. Я знаю по опыту, как быстро потеряю сознание, если буду двигаться слишком быстро после того, как так долго пробыл без еды. Как только сажусь, я прислоняюсь спиной к холодной стене для поддержки, уставившись в пустую клетку напротив меня. Две недели прошло с тех пор, как ее там установили, и в ней до сих пор никого нет.
Я еще не понял, почему она здесь. Либо Катерина решила, что ей надоело иметь только одного "питомца", либо эта штука была создана, чтобы дразнить меня дерьмом, которого у меня никогда не будет.
Новая клетка больше моей, она занимает половину длины стены вместо одной трети. Здесь также есть небольшой встроенный туалет и раковина, а шикарно выглядящая детская кроватка с одеялами, держу пари, может согреть тело даже в такой холодной комнате, как эта.
Я прижимаю ноги к груди, затем обхватываю руками колени, прищурив глаза. Через секунду заставляю себя отвести взгляд, но только перевожу его на витрину вдоль стены справа от меня.
Мои плечи опускаются вперед, когда я воспринимаю все это, как я делаю каждый день. Отсюда предметы за стеклом можно принять за произведения искусства. Я никогда не ходил в школу и мало что смыслю в этом предмете, но в Нью-Йорке полно голодающих художников, разбивших лагерь прямо на улицах с перевернутыми шляпами в ожидании чаевых.
Некоторые предметы за стеклом большие, как черепа. Другие меньше, как пальцы, или длинные, как руки. Некоторые одеты в шкуры животных, некоторые в перья. Большинство раскрашены – в темный готический или светлый величественный цвет. Некоторые украшены драгоценными камнями, из-за которых богатые люди сходят с ума. Такие драгоценности я бы украл при первом удобном случае, если бы все еще был на свободе.
Перед каждым произведением находится записка размером с карточку в рамке со сценическим псевдонимом и каким-то дерьмовым стихотворением. Я не могу прочесть, что там написано, с такого расстояния, да и не думаю, что хочу это делать в любом случае.
Есть такая бразильская поговорка: нет ни добра, которое длится вечно, ни зла, которое никогда не заканчивается. Я был еще маленьким, когда моя мама сбежала из Бразилии и нелегально иммигрировала со мной в Америку, но несколько лет назад я увидел это выражение на наклейке на бампере, и оно приелось. Наблюдая за Катериной в студии, я понимаю, что это чушь собачья. По крайней мере, последняя половина.
Мои губы скривились, и знакомое беспокойство шевельнулось в груди. Взгляд метнулся к рабочему столу недалеко от меня. Серебряная поверхность девственно чистая, вся сияет. Точно так же, как стены и полы в этом месте.
Я не знал, что ад может быть таким безупречным.
Дверь со скрипом открывается, и кожу на затылке покалывает, когда Катерина входит внутрь. Подняв руку, она щелкает множеством выключателей рядом с дверью. Пространство заполняет самый яркий свет, который я когда-либо видел до приезда в это место. Я щурюсь от резкости. Если она нажимает только на две верхние, это означает, что она просто заходит. Но весь коммутатор? Это означает, что она здесь, чтобы работать.
Смесь отвращения, смятения и дурных предчувствий разливается в животе. У меня такое чувство, что если мне придется остаться в этом месте еще немного, одни эти лампы над головой сведут меня с ума.
Она делает еще один шаг, и дверь за ней захлопывается. Я жду, зная, что за этим последует.
К моему удивлению, она не одна.
Маленькая девочка высовывает голову из-за ног Катерины. Ее крохотные ручки обвиты вокруг бедра женщины, глаза сканируют комнату взглядом, который напоминает мне о предчувствии, которое я испытываю. Катерина гладит ребенка по волосам, и обжигающий гнев вспыхивает у меня внутри.
Что за черт?
Я вскакиваю на ноги, и когда накатывает волна головокружения хватаюсь за одну из перекладин для равновесия. Катерина игнорирует меня, уводя девочку налево – к пустой клетке.
Горло сдавливает, дыхание становится прерывистым, пальцы сжимаются вокруг железной перекладины. Этого не может быть. Девочке не может быть больше пяти или шести лет. Катерина никогда не берет их такими маленькими.
Как только девочка устраивается за решеткой, Катерина ставит большую сумку, которую я раньше не заметил. Она открывает ее, затем опускается на колени и начинает доставать предметы один за другим. Старые, использованные плюшевые мишки, куклы со спутанными волосами, упакованные детские снеки, которые я никогда не ел даже до того, как оказалась здесь. И последнее – большой набор масляных карандашей.
Катерина наклоняется и обнимает девочку. Мне приходится протереть глаза, чтобы убедиться, что я вижу ясно.
– Ты полюбишь это место, как только адаптируешься, – говорит она мягким голосом. – Теперь у мамочки много работы, и она не может больше пропускать ни одного дня, хорошо?
Мамочка? У дьявола есть гребаный ребенок?
Я прищуриваюсь и наклоняю голову. Конечно, именно так и есть. Смените потрепанное белое платье на гладкое черное, и маленькая девочка будет выглядеть точно так же, как она. Их прямые черные волосы спускаются ниже талии, а у девочки они растрепанны, как будто их никогда раньше не стригли. Их голубые глаза напоминают мне цвет неба, который я не видел уже одиннадцать долгих месяцев. Их кожа одинакового бледного оттенка, как будто они никогда не видели солнца.
Девочка смотрит на меня, затем снова на Катерину. Она кажется невозмутимой, несмотря на тюремные решетки, за которыми мы сидим, порванную одежду, грязные волосы и запах, который, я знаю, исходит из моей камеры. Это заставляет меня задуматься, на что, черт возьми, была похожа ее жизнь до сих пор, если она была такой равнодушной.
Она кивает.
– Спасибо.
Катерина чмокает ее в нос, затем встает и подходит к витрине. Она открывает один из шкафчиков внизу и что-то достает, затем возвращается к клетке девочки.
– Малышка. Тебе все еще нравится раскрашивать, не так ли?
Девочка снова кивает.
– Ну, ты же знаешь, что мама тоже играет с цветами. И сегодня мы обе будем играть. Разве это не весело?
Когда девочка только продолжает кивать, беспокойство распространяется по моему телу. Почему она ничего не говорит?
– Я сделала это изделие на прошлой неделе.
Катерина откладывает предмет, и мой пустой желудок сводит, пока я сдерживаю рвоту.
Это предплечье, только кость, без кожи.
Я так долго наблюдал за "работой" Катерины, что в конце концов научился скрывать свои реакции в ее присутствии. В некоторые дни я даже перестаю обращать на это внимание. Но видеть, как она протягивает чью-то часть тела – семнадцатилетнего парня, который жил и дышал в этой студии всего на прошлой неделе, – своему собственному ребенку, это отвратительно на совершенно новом уровне.
– Этот мальчик был очень живым, – продолжает Катерина, – но эта его частичка говорила со мной не так, как другие. Знаешь, я думаю, у тебя неплохо получилось бы рассказать его историю с твоими замечательными новыми принадлежностями для рисования.
Она раскладывает карандаши по цементному полу и кладет кость между ними и ребенком.
– Ты сделаешь это для мамочки, София, детка?
Еще один кивок.
– Хорошая девочка.
Когда ребенок с любопытством оглядывается на меня, взгляд Катерины следует за ней. Женщина улыбается, и это заставляет мою кожу гореть от ярости.
Я стискиваю зубы, но не отворачиваюсь. Пристально смотрю на нее сверху вниз. Катерина движется ко мне почти грациозно, ее шаги мягкие. Дойдя до моей клетки, она останавливается и проводит пальцем по прутьям, пока ее ноготь не дотрагивается до костяшки моего пальца. Я почти отдергиваю руку, но умудряюсь удержаться, когда рычание вырывается из моего горла.
Ее улыбка становится шире, и она наклоняет голову, ее глаза блуждают по каждому сантиметру моего лица.
– Вот этот, моя сладкая девочка, наш милый-прехорошенький питомец.
Гнев в моей крови закипает до боли. Сердце бешено колотится в груди, а каждый мой выдох сотрясает неподвижный воздух. Я перевожу взгляд на маленькую девочку, и, кажется, впервые вижу, как в ее глазах мелькает страх. Я не уверен, это из-за слов ее мамы или из-за яростного выражения моего лица, но я рад это видеть.
Страх означает, что, возможно, она все-таки не совсем равнодушна. Возможно, для нее все еще есть надежда.
– В искусстве некоторым произведениям требуется немного больше времени, чтобы выявить их наиболее уязвимые места, – бормочет Катерина, все еще обводя глазами черты моего лица. – Но ведь все самое лучшее требует времени, не так ли? В конце концов, он будет готов. Процесс нельзя торопить.
Мышца на моей челюсти напрягается. Я знаю, что Катерина имеет в виду под этим. Она хочет, чтобы я плакал, умолял, как другие. Она хочет видеть мой страх. По ее мнению, страх – это искусство, и без него у нее ничего нет.
Чего она не понимает, так это того, что я не боюсь смерти.
Находясь в этой комнате, я почти с нетерпением жду этого.


– Наблюдай за мной. Я отправлюсь к своему собственному солнцу.
И если меня сожжет его огонь, я полечу на опаленных крыльях.
– Сеговия Амиль

Иногда мне кажется, что я родилась с душой, расколотой ровно пополам. Каждая половина – это другой человек. С разными чувствами, разными реакциями, разными импульсами. Хуже всего то, что каждая грань настолько истрепана, что я не думаю, что когда-нибудь смогу сшить их обратно. В человека, который функционирует как все остальные. В человека, который имеет смысл, как и все остальные.
Мама сказала бы, что это потому, что я принадлежу дьяволу.
Фрэнки сказала бы, что я именно такая, какой должна быть.
Я не уверена, что кто-то из них был бы неправ. И это, возможно, то, что беспокоит больше всего.
Длинные ногти касаются лопаток, пока Стелла застегивает мое платье.
– Ты уверена, Эмми? – ее голос отражается от стен ванной.
Я киваю и убираю волосы с шеи, чтобы она могла поправить мой шарф. Я не отрываю глаз от движений ее рук. Золотистый материал туго обтягивает горло, когда она завязывает его аккуратным узлом с одной стороны. Такой элегантный воротник.
– Да.
Она наблюдает за моим отражением в зеркале перед нами.
– Было бы совершенно нормально взять выходной после такого насыщенного событиями утра, как у тебя. В конце концов, уже вечер. Пока твой хозяин не зовет тебя, это приемлемо, даже рекомендуется, сделать перерыв.
Она смотрит вниз, на место ниже моей лодыжки, где я наложила свежую повязку на ожог первой степени.
Я была слугой Райфа меньше двадцати четырех часов. Если сегодняшний день что-то значит, мне нужно изменить свой подход. Я не могу ожидать, что он опустит свои стены, если все, что он видит во мне, – это кого-то, кого он хочет заставить страдать. Возможно, мне никогда не удастся заставить его смотреть на меня так, как он смотрит на Стеллу, но даже небольшая часть этого может быть полезна для завоевания доверия, чтобы заставить его раскрыть то, чего он иначе не раскрыл бы.
Наконец, я качаю головой. Я не могу позволить себе отступить.
Я прекрасно понимаю, что Райф достал меня трюком, который он выкинул сегодня утром. Прошло семь часов, а я все еще не совсем пришла в себя. Странная пустота укоренилась в животе, когда я была прикована к люстре, и это чувство неуклонно проникает в нервные окончания даже сейчас. Но онемение, которое распространилось по пальцам этим утром, исчезло, что означает, что мое тело работает просто отлично. Мне не нужно мысленно присутствовать, чтобы кого-то соблазнить.
– Я в порядке, – говорю я еле слышно. – Я бы хотела его увидеть.
После паузы она сжимает мои предплечья, и ее лицо светится. Она шепчет:
– Ну, он действительно любит сюрпризы.

Голос Райфа тихий, приглушенный из-за разделяющей нас стены. Может быть, он разговаривает по телефону. Что делает такой парень, как Райф, когда секретарша прерывает его? Радует ли его видеть кого-то из нас, или это злит его? Я замедляю шаг позади Стеллы, когда она останавливается у двери, которая осталась приоткрытой. Она поднимает руку и тихо стучит.
Кто-то прочищает горло.
– В чем дело? – рявкает Райф.
От его тона крошечные волоски у меня на затылке встают дыбом.
– Хозяин, это Стелла.
Она смотрит на меня через плечо.
– Я принесла тебе сюрприз.
Сквозь приоткрытую дверь просачивается шепот, слишком тихий, чтобы я могла разобрать, затем он зовет:
– Войдите.
Входит Стелла. Я жду в дверях, наблюдая, как она скользит по темному офису и подходит к Райфу. Я не знаю, как она всегда такая спокойная и собранная, но я не могу представить ее какой-то другой.
Райф сидит в одиночестве за большим письменным столом. Плотные шторы справа от него блокируют дневной свет, оставляя его силуэт такими же затененными, как и остальную часть комнаты. Маленькая лампа позади высвечивает серьезное выражение его резких черт лица, выражение, которое смягчается только тогда, когда Стелла подходит к нему. Она наклоняется вперед и проводит пальцами по его щеке, шепча что-то ему на ухо. Она начинает выпрямляться, прежде чем он хватает ее за конский хвост и тянет обратно вниз. Я не слышу, что он говорит, но вижу, как он лижет – или кусает – ее шею, прежде чем отпустить.
Когда Стелла выпрямляется, она поправляет подол платья и поворачивается ко мне, ее розовые щеки и застенчивую улыбку освещает лампа. Она направляется в мою сторону, затем кивает и подмигивает, проходя мимо меня по коридору в том же направлении, откуда мы пришли.
Я не спускаю с нее глаз, когда ее силуэт исчезает за углом, а затем смотрю на пустое пространство где она исчезла. Я знаю, что встала, пришло время действовать, но моя шея внезапно затекла, а пятки приклеились к мрамору.
– Ну, не стесняйся, любимая, – тихо говорит Райф. – Я надеюсь, ты зашла не для того, чтобы просто потратить мое время.
Моя голова поворачивается к нему сама по себе. Что-то в его голосе, в его словах раздражает меня.
Нет, я пришла сюда не для того, чтобы тратить чье-либо время. Я не уверена, что у Фрэнки есть время, чтобы тратить его впустую. И нечего стесняться, когда мне нужно предложить этому мужчине не себя, а свое тело.
Мои губы кривятся, хотя я знаю, что в моих глазах отражается пустота, все еще разъедающая меня. Я делаю один шаг в его кабинет и закрываю дверь. Делая еще один шаг, я завожу руку за спину и начинаю неторопливо расстегивать платье.
– Стесняюсь? – бормочу я, делая еще один шаг. – Вовсе нет.
К тому времени, как я добираюсь до Райфа, все пуговицы уже расстегнуты. Платье соскальзывает на пол, открывая черное кружевное бюстье, которое я обнаружила в своем шкафу, в сочетании с подходящими стрингами и прозрачными чулками до бедер. Не в моем стиле, но я подумала, что этот наряд был в моей комнате не просто так.
Райф откидывается на спинку стула, его брови приподнимаются, а уголки рта растягиваются в ухмылке.
Обогнув стол, я проскальзываю между его ног и сажусь на его левое бедро, затем наклоняюсь и шепчу:
– Если только ты этого не хочешь.
Мой голос страстный, несмотря на то, что я ничего не чувствую от его близости. Ни желания, ни учащенно бьющегося сердца, ни даже страха.
Я провожу рукой по его шелковистому галстуку, затем позволяю пальцам блуждать ниже, пока не начинаю массировать его длину через брюки костюма.
Он издает наполовину стон, наполовину смешок и смотрит через мое плечо. Мои брови хмурятся, когда он продолжает смотреть мимо меня, веселье омрачает выражение его лица. Как только я собираюсь повернуться, чтобы посмотреть, на что он смотрит, то взвизгиваю от того, что он резко притягивает меня к себе, так что я оказываюсь на нем верхом. Беспокойство скручивает внутренности, но я скрываю это медленной полуулыбкой.
Я не знаю, чего я ожидала, но точно не это. Основываясь на его отношении ко мне до сих пор, я подумала, что мне, по крайней мере, придется немного потрудиться, чтобы добиться от него такого внимания.
Когда я опускаю губы к его шее и провожу кончиком языка до уха, он стонет, и мой разум кружится от его реакции. Это первый признак, который он подал, что я действительно могу справиться с этим. Возможно, я смогу уйти отсюда сегодня вечером с Райфом Мэтьюззом, видящим во мне того, кого можно желать. Как человек, с которым он потенциально мог бы расслабиться и, возможно, даже пригласить в свою спальню – в одной комнате в доме, я готова поспорить, нет камер. Что может быть лучше, чтобы спрятать свои секреты?
Его дыхание обдувает мое ухо, прохладное и мятное, когда он спрашивает громче, чем следовало бы:
– Ты готова сделать для меня что угодно?
Я зажмуриваю глаза, образы этого утра проносятся в голове. Зажимая зубами мочку его уха, я подношу пальцы к его галстуку и начинаю ослаблять его.
– Все, что ты захочешь…
Боль пронзает кожу, когда мою голову откидывают назад. Одна рука хватает меня за талию, а затем меня разворачивают. Его твердый член упирается в мою задницу, и моя спина прижимается к его груди.
Мое дыхание становится быстрым и прерывистым. Я пытаюсь рассмотреть его оффис с нового ракурса.
Единственная лампа в комнате теперь позади меня, и она достаточно мала, чтобы превратить все передо мной в дезориентирующее море черного и серого. Когда предметы мебели обретают форму, я мысленно запоминаю каждый закрытый ящик на случай, если когда-нибудь окажусь в этой комнате одна и у меня будет время пошарить. Только когда мой взгляд перемещается вправо, другая, более крупная фигура тоже медленно обретает форму. Я прищуриваюсь, когда холодная рука Райфа скользит вниз по моей талии, затем обхватывает бедро. Он запускает пальцы под ткань моих стрингов, но я больше сосредоточена на человеке, которого теперь вижу, сидящем по диагонали от меня, в дальнем правом углу.
Мое сердце колотится о грудную клетку.
Все вокруг замирает, когда я смотрю на него. Густые темные волосы падают ему на лицо. Его сжатая челюсть. Широкие плечи. Его рука покоится на подлокотнике кресла. Я наблюдаю, затаив дыхание, как его пальцы уверенно движутся вверх, вниз, вверх, вниз.
Тук-тук-тук.
Я с трудом сглатываю сквозь пересохшее горло. Я пришла сюда готовая к встрече с Райфом Мэтьюззом.
Не с его братом.
Я сжимаю рукава костюма Райфа, когда два длинных, тонких пальца жестко проникают внутрь меня. Черт. Боль набухает между ног. Мягкий, хрипловатый смешок Райфа эхом отдается в моем левом ухе, и постукивание по комнате прекращается. Тяжелое молчание звенит в воздухе долгое, затянувшееся мгновение.
Пальцы Райфа все еще внутри, неподвижные, когда он зовет:
– Я заключу с тобой сделку.
Понятно, что он обращается не ко мне, поэтому я держу рот на замке и раздвигаю ноги. Полагаю, именно так ему это нравится.
– Договорились.
Глубокий, ровный голос Адама скользит мимо моих ушей и обжигает низ живота, заставляя меня сжаться вокруг пальцев Райфа. Мое сердце колотится быстрее.
– Я слушаю.
Свободной рукой Райф теребит низ моего бюстье.
– Возможно, я буду готов пойти на компромисс в отношении Мерфи. – Он поднимается на сантиметр выше, пока не поглаживает изгиб моей левой груди. – Возможно.
Когда Райф не вдается в подробности и вместо этого обхватывает мою грудь, а затем медленно двигает пальцами внутри меня, рука Адама медленно сжимается в кулак. Его взгляд находит мой, и он проводит языком по нижней губе, затем приподнимает подбородок. Я прикусываю собственную губу, чтобы удержаться от ерзания, когда неожиданная дрожь пробегает между моих бедер. Райф двигается быстрее, но глаза Адама прикованы к моим, удерживая меня в плену, пока все, что я вижу, все, что я чувствую, – это он. Напряжение волнами покидает его тело. Электрические импульсы, посылают теплую дрожь через меня каждый раз, когда пальцы Райфа скользят внутри.
Нетерпение сочится из голоса Адама, и каким-то образом это только заставляет меня сжиматься крепче.
– Что за чертова сделка, Райф?
Мое дыхание учащается, и я позволяю своей голове откинуться на изгиб плеча Райфа, лишь бы освободиться от хватки Адама. Холодное чувство пытается проникнуть в мое нутро – беспокойство, вина, замешательство. Испытывать удовольствие – это нормально, напоминаю я себе. Это необходимость довести Райфа до того момента, который мне нужен. Не имеет значения, от кого это – от какого брата или как, пока Райф думает, что это он меня заводит.