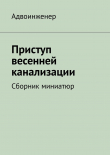Текст книги "Однажды весенней порой"
Автор книги: Сьюзен Хилл
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
– "И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло".
И теперь она знала, она поняла, как понимала тогда, в церкви. Она заплакала, но то были слезы не облегчения, а благодарности.
Джо тихонько постучал в дверь и, когда она откликнулась, вошел и стал поодаль.
– Джо?
Стемнело. И сон и свет таяли.
– Ты что?
Она услышала свой голос, и он звучал как обычно. Она поглядела на Джо. Увидела не то оторопелость, не то испуг на его лице. Он медленно подошел к ее кровати, опустился на колени и ткнулся головой в ее плечо.
– Что это было, Рут? Что-то случилось?
– Все в порядке.
– А что произошло? Я был на кухне и... Я не знаю, что это было.
– Не надо ничего пугаться, Джо.
– Я не знаю, что это.
– Ничего плохого не случилось.
– А ЧТО это было, Рут?
Она молчала. В комнате стало уже совсем темно.
Она сказала:
– Я сама не знаю, что это было. – И сказала правду.
– Ты чувствуешь себя лучше?
– Да. Я спала.
Она протянула руку и коснулась его головы. Волосы были густые и жесткие. Не такие, как у Бена. Он, значит, что-то понял или почувствовал ее сон передался ему, но лишь на краткий миг и испугал его. Рут спрашивала себя, не будет ли и с ней так же, и вспоминала, как бывало раньше, как она, забыв сон, старалась его вспомнить... и не могла. Значит, все будет по-прежнему, и все опять станет нестерпимо реальным, бесцветным и тусклым. Но, может быть, что-то возвратится? Да, если она не будет ничего ожидать, стараться вернуть. А если все же нет? Если ничего не было?
Нет, было. И если это был лишь сон, все равно – и это немало, как передышка, затишье среди бури. Она всегда может заснуть и снова увидеть сон.
Она встала и пошла загнать кур, а потом постояла минуты две по щиколотку в сырой траве, поглаживая шею и нос осла, и все было тихо кругом, и на душе у нее было тихо.
Наступившая ночь и последующий день были самыми тяжелыми в ее жизни. Джо ушел домой. Рут налила себе чашку молока и стала пить, слушая, как дождь стучит по крыше и скатывается в траву. Она совсем закоченела, холод пронизывал ее до костей, и во рту у нее пересохло. Она думала: Бен мертв и лежит в могиле, и, значит, все кончено, от него не осталось ничего и лучше бы уж он никогда не родился на свет. Кому нужна была наша встреча, и любовь, и замужество, и наше счастье? Ничего нет, кроме этой жизни, с ее страданиями и нечаянностями – упало дерево, несчастный случай, и вот человека, который звался Беном, жил, думал, чувствовал, не стало; его опустили в черную яму, а он и не знал об этом, не знает и теперь. Его не существует. Так лучше было бы ему не быть вовсе, и всему этому миру тоже.
Теперь, когда сон не приходил, ей становилось дурно от страха при мысли, что вот как оно есть на самом деле, и сон ее ничего не означает, и свет, пролившийся на нее, тоже ничего не означает или, быть может, это была просто иллюзия, которую она создала себе для самоутешения, для самообмана. И она крикнула:
– Зачем ты послал мне это, если тебе нужно было тут же все отнять? Зачем ты дал мне Бена, а потом убил его? – И сама не знала, кого она обвиняет – бога, или жизнь, или смерть, или Бена.
И тогда в ней созрела уверенность, что ум ее болен и чувства обманывают ее – она была безумна, поверив в то, во что поверила. Она облокотилась о некрашеный стол и заплакала в голос, завыла, как животное, попавшее в западню, и слова, бессвязные обрывки слов и слезы – все смешалось, слилось в одно. Она снова и снова утирала слезы рукой, а потом, ища избавления, хоть как-то, хоть любой ценой, подошла к стене и ударилась о нее головой и кулаками и, ощутив боль, стала колотиться о стену еще и еще, потому что в ее власти было теперь только одно – искалечить себя, как был искалечен Бен.
Она не поднялась больше наверх, у нее не хватило сил; она легла на пол перед очагом и лежала, всхлипывая, прижавшись лицом к коврику, а дождь все шел и шел всю ночь.
Где-то среди ночи в полусне она пожалела, что крестной Фрай нет в живых, потому что только она одна на всем свете могла бы ей помочь. Крестная Фрай была верующей и как-то раз заговорила с Рут – и без всякого страха – о своей близкой смерти, близкой потому, что ей было без малого девяносто, и она доверчиво готовилась к ней. Всему, во что верила Рут, научила ее либо крестная Фрай, либо Бен, они были схожи в этом – в своем знании многих вещей, существующих за рамками обыденной жизни. Именно крестная научила ее тому, что пасхальные дни особенные – дни самопроверки и, хотя рождество и разукрашено мишурой легенд и детскими фантазиями, пасха – это не фантазии, это страдание, и смерть, и воскрешение, это отчаяние, и надежда, и достоверность.
Пасха была близка, но Рут не знала, принесет ли она ей что-нибудь теперь.
На заре она очнулась от своего полусна-полуомертвения, очнулась, вся дрожа от холода и муки, но и тут не могла заставить себя пошевелиться, и так и лежала все утро с открытыми глазами, уставившись на остывшую золу очага и впервые в жизни до конца познавая то, что зовется отчаянием.
Пришел Джо. Опустился на колено, тронул ее рукой. Она молчала. Он оставил ее, и она слышала, как он занимается своими повседневными делами, и подумала смутно, что надо бы ей встать, потому что он тоже нуждается в помощи, нуждается в любви и, быть может, ее состояние пугает его, даже внушает ему отвращение.
Она снова закрыла глаза, чтобы отгородиться от грубого, промозглого дневного света и от вида холодной золы, а потом зажала пальцами уши, чтобы не слышать бесконечного шума дождя. А в голове стучали все те же слова. Бен умер. Его больше нет. Его нет нигде. Он умер. Он умер. Она протянула вперед руки, сжала кулаки, словно стараясь ухватиться за что-то – за свою прежнюю надежду, за веру, быть может, и ощутила только пустоту.
Она все-таки встала, хотя и не видела в этом смысла, умылась, причесалась и застыла, уставившись на воду, лившуюся из крана; вода всегда казалась ей прекрасной в своей упругой прозрачности: любая вода – море, ручей, озеро, дождь... А теперь и вода омертвела, как все вокруг, и, глядя, как она, загрязненная, стекает с ее рук и волос, Рут испытала отвращение.
На кухне Джо стоял возле плиты, чувствовал излучаемое ею тепло, но оно не согревало: его пробирала дрожь, потому что он боялся за Рут – ведь он так любил ее и чувствовал свою беспомощность, не зная, что сказать, что сделать, не находя пути к ней. И не с кем ему было поделиться. В Фосс-Лейн ее имя не принято было произносить; мать его не проливала больше слез и только бродила из комнаты в комнату, и видно было, какая она старая, а отец ходил на работу и возвращался, ел, пил и молчал.
Что же ему делать?
– Господи, – произнес он, – господи, помоги...
Как? Он сам не знал. "Пусть ей будет снова хорошо. Пусть ей будет хорошо". Но в глубине души он понимал, что ей никогда уже не будет хорошо – без Бена, вне прежней жизни.
Он поглядел на розовый кварц, по-прежнему лежавший на столе, потрогал его и почувствовал – как в тот раз, когда впервые увидел его, – какую-то излучаемую им правду, заключенную в совершенстве его граней. И он не мог поверить в смерть. Он знал, что это не так, всегда знал. Но как рассказать об этом Рут? Как заставить ее поверить? А ведь он думал, что она тоже верит. Вчера, когда в доме воцарилась такая тишина и покой, и этот покой объял и ее, Рут, тоже, и был ощутим и в голосе ее, и в прикосновениях... Да, вчера у него полегчало на душе, потому что он видел – Рут оправилась, она что-то поняла, что-то произошло...
И вот сегодня...
Джо поставил чайник на плиту, вскипятил, заварил чай и, держа чашку в обеих руках, как миску, поднес ее к лицу, чтобы согреться. Он слышал, как затворилась дверь спальни, и не решился пойти туда, к Рут, отнести ей чаю, чувствуя, что ее страх и отчаяние могут передаться ему, заползти и в его душу и разрушить его веру, сломить силы.
И тогда он прибрал на кухне, поставил на стол еду, прикрыв ее тарелкой, написал записку и ушел – побрел под дождем через поля и за гряду холмов, где легче дышалось, где он мог снова обрести себя, где страх и чувство обездоленности понемногу улеглись. Потому что здесь он всегда чувствовал, что Бен рядом, и рана его затягивалась от соприкосновения с братом.
И он взмолился, глядя поверх окутанных туманом полей и черных лесов, о том, чтобы глубоко запрятанный в нем страх оказался ложным. О том, чтобы Рут не наложила на себя руки.
Она ни о чем не просила, ничего не ждала. И потому тот второй день был для нее как дар и она была сама не своя, хотя приняла его с благодарностью, и он всегда потом сиял для нее, словно золотая монета среди серых камешков.
Ее разбудило солнце; оно заливало комнату и сверкало на ее лице и закинутых за голову руках, и, подойдя к окну, она увидела мерцающее маревом синее небо и последние капли дождя, стеклянными бусинками рассыпанные по живой изгороди, а внизу, под кустами, – проглянувшие тут и там подснежники и акониты.
И внезапно ее охватил непреодолимый порыв вырваться отсюда, сбросить с себя бремя всех этих дней и ночей и слез и мыслей о смерти. Она умылась, оделась и почувствовала странное возбуждение, словно озноб пробегавшее по коже.
Джо шел по саду с миской, полной яиц, и, когда она окликнула его, остановился в нерешительности, потому что она почти не общалась с ним в последние дни, и он появлялся и исчезал как тень. И вот теперь она стояла на пороге в свежем синем платье, и лицо у нее было другим, черты смягчились.
Она выглядит счастливой, подумал Джо, счастливой. И ему захотелось плакать от радости, потому что "он увидел прежнюю Рут – такую, какой он ее знал, которая не отпугивала его. Она не покончила с собой. Ведь он каждое утро боялся подойти к дому, боялся того, что он может там обнаружить.
– Дюжина яиц, – сказал он. – И еще две курицы вроде как сидят на яйцах.
– Джо... – Нет, она не знала, как объяснить ему то, что она чувствовала, и как поблагодарить его за все: ведь он так преданно приходил сюда и исполнял домашнюю работу и никогда не задавал вопросов, никогда не был навязчив. Она любила его сейчас, как никого на свете.
Он протянул ей яйца.
– Джо, давай пойдем куда-нибудь.
Он нахмурился.
– Я не хочу сидеть здесь. Сегодня не хочу... Я так устала... быть там, наверху... и от этого бесконечного дождя. А когда проснулась и увидела солнце, мне захотелось уйти куда-нибудь.
– В Тефтоне сегодня ярмарка.
– О, нет.
Нет, только не туда. Ведь ей хотелось уйти от воспоминаний, хотелось, чтобы прошлое не воскресало каждый миг перед ее глазами, хотелось забыть его, забыть хотя бы на один день, уйти куда-то, где все другое, новое. Она знала, что этот день может никогда не повториться, что ее боль не иссякла, что это только передышка, чтобы она могла немного вздохнуть, немного прийти в себя.
– Джо, мы пойдем...
Она не договорила. Все, вся округа – поля, леса, долины, вплоть до самой реки, хранили воспоминания, были слишком полны прошлым.
– Мы поедем к морю.
– К морю? – В голосе его прозвучало сомнение.
– На поезде. До Тефтона дойдем пешком. И проведем целый день на заливе, в Хэдвелл-Бей.
– Мы туда ездили на каникулы. Я привез оттуда камешки. Из Хэдвелл-Бей!
Было совсем рано, семь часов. Еще должен быть какой-нибудь утренний поезд.
– Рут...
Они прошли в залитую солнцем кухню. Джо стал выкладывать яйца. Она обернулась к нему.
– Я боялся... Я боялся, что ты никогда не поправишься.
– Ах, Джо... прости меня. Я не подумала о тебе. Ты приходишь сюда каждый день, а я даже не разговариваю с тобой. Я...
– Нет, дело не в этом. – Он покачал головой.
– Приснилось что-нибудь?
– Нет.
– Так что?
– Иногда по ночам в доме так тихо. И они даже не знают, здесь я или меня нет. Они вообще ничего не знают. Тогда я думаю о тебе...
– А ты думаешь о Бене? Тебе трудно без него?
– Я... Это очень странно.
– Что странно?
– Я подымаюсь туда, на вершину гряды, и смотрю... и думаю о нем. Там, наверху, кажется, что все правильно. Я чувствую это. Бен был другой. Он не походил на всех нас.
– Да. Он был такой же, как ты.
– Когда мне было семь лет, я убил кролика. Один знакомый мальчик, который жил в Хеджли, выпросил у отца ружье... а может, просто взял его. Он сказал, что умеет стрелять, а я не умел. Я никак не мог научиться, и это меня злило. Я утверждал, что могу, что я могу все, что может он, все на свете. В общем, я должен был доказать это ему, и он дал мне ружье. Оно было очень тяжелое. Я не знал, что ружья такие тяжелые. У меня даже рука заныла. Но я увидел кролика – совсем невдалеке, и он сидел неподвижно. И я застрелил его, я слышал, как он запищал... И я... Это было единственное по-настоящему злое дело, которое я совершил за свою жизнь. Я до сих пор помню это – как он запищал. И я был тому виной.
Он стоял в нескольких шагах от нее, весь натянутый как струна.
– Ночью я заплакал, – сказал он. – Я все слышал этот писк. И кролик снился мне. Пришел Бен. И я рассказал ему. Больше я никому на свете не рассказывал.
Она не знала, что сказать, но почувствовала еще сильнее, чем прежде, как близки были друг к другу эти братья и что значила смерть Бена для Джо.
На кухне было тепло и пахло чем-то свежим, чистым. Рут поглядела по сторонам и увидела, какой порядок навел здесь Джо, как аккуратно расставил он сковородки и блюда по полкам и как до блеска начистил плиту. Что бы она делала, как бы могла жить без Джо?
Она сказала:
– Так поедем к морю?
– Если ты... Как скажешь, так и будет.
Он вгляделся в ее лицо, прочел на нем волнение и предвкушение удовольствия и прибавил:
– Да, конечно, поедем. – Потом порывисто шагнул к ней, обнял, и она услышала его голос. – К морю! – удивленно и радостно сказал он.
Солнце поднялось выше, раскаленный металлический диск сверкал в прозрачном небе.
Им казалось, что они одни на всем свете. Перед ними изогнутой линией уходил вдаль берег Хэдвелл-Бей, далеко-далеко, до самого горизонта расстилалось море, а здесь, у их ног, был гладкий бледный песок и сверкающие на солнце мокрые скалы, где в таинственных расселинах, словно в сложенных чашечкой ладонях, пряталась вода. Было очень тихо, тепло, и полоска неба на горизонте казалась серебристо-белой.
Джо стоял, смотрел и словно не мог поверить тому, что видел.
Он сказал:
– Все как было. И пахнет так же... Это... – Прижатые к бокам руки его напряглись, потом расслабились.
– Ну, что мы будем делать?
– Что хочешь. Тебе решать.
А для Рут весь этот день протекал как во сне; она как бы одновременно и присутствовала здесь, и наблюдала со стороны, стараясь вместе с тем не упустить ни единого мига, не дать ничему ускользнуть от ее внимания.
Они медленно-медленно приблизились к самой кромке воды, и песок жестко поскрипывал у них под ногами, а отпечатки их ступней бежали за ними, как маленькие ручные зверята. Ветра не было, только соленый запах моря и рыбы и – странно затхлый – морских водорослей, похожих на черные ленты, осыпанные крошечными пузырьками. Джо спустился к воде и принес их целую охапку.
– Возьми их, повесишь у входа; как пощупаешь, всегда будешь знать, какая ожидается погода – дождь или сухо.
После этого он снова оставил ее одну и стал взбираться на розовато-коричневые скалы, с которых, словно скользкие зеленые волосы, свисали дикие растения.
– Морские анемоны! – крикнул он, и она пошла туда, и, когда стала с ним рядом, они, наклонившись, увидели отражение своих лиц в набравшейся между скал морской воде – две бледные луны и горящие черные пятна глаз. И, снова вдохнув в себя запах моря, она подумала: я никогда этого не забуду и никогда больше не приду сюда – все ведь может стать другим, хуже. Она опустила палец в холодную воду и коснулась чашечки анемона, и та сплелась вокруг кончика ее пальца, словно губы младенца вокруг материнского соска.
– Они все чувствуют, – сказал Джо. – Это не просто растения, они как живые существа.
Он был счастлив, освободившись от тревоги и напряжения последних дней. И, глядя на него, Рут подумала, что если ей ничего больше не привелось сделать, то она хотя бы подарила ему этот день.
Они долго-долго брели по берегу моря, которое чуть заметно колыхалось, и солнце изливало свои лучи на них и на высокие скалы, и небо было распластано над головой, как тонкий свежий мазок голубой краски. Джо собирал мелкую гладкую розовую гальку и всевозможные ракушки, и один раз ему попалось морское ухо, и все это он рассовал себе по карманам. И тут у Рут даже не возникло желания, чтобы Бен был с ними. Ей сейчас было довольно того, что здесь Джо и их вместе обволакивает эта тихая солнечная ласка.
Они лежали на песке, и сквозь полуопущенные ресницы Рут видела сияющее слияние моря с небом, и казалось, что время остановилось и они пребудут в этом очарованном мире вечно.
Было уже темно, и сильно похолодало. Они поднимались по дороге, и Рут казалось, что ее тело плывет по воздуху, а в ушах стоял плеск волн; она чувствовала себя промытой соленым воздухом, солнечным светом, лучами солнца, отраженными от воды. Она словно пробудилась к жизни, и каждый нерв в ней трепетал, и каждый звук доносился до нее ясно и чисто, как звон колокольчика: стук их шагов по дороге, треск задетой ветки, шорох проскользнувшего в придорожной канаве зверька. И каждый вздох освежающим током проникал в ее кровь.
Полная луна, пепельно-бледная и целомудренная, как чистый лист бумаги, стояла в небе.
Джо устал и был молчалив, ревниво пряча свет и радость этого дня в себе. У подножья холма они остановились. Джо нужно было свернуть направо, к деревне, Рут – идти прямо и вверх, к выгону. Но, может быть, ей следует пойти с Джо в Фосс-Лейн, может быть, в этом состоянии духа она сумеет сказать им что-то, сломать барьер недоверия и враждебности?
– Они ведь не знают, где ты был. Мне надо бы пойти с тобой, рассказать им.
– Им все равно.
– Но...
– Никто не обратил внимания. Не надо, Рут, не ходи туда.
Как напряженно звучал его голос!
– Я должна поговорить с ними.
– Нет. Я не хочу, чтобы они что-нибудь знали о сегодняшнем дне. Это никого не касается. Я не хочу, чтобы он был испорчен, а если они узнают, то так и будет. Не ходи туда.
Она чувствовала, что он хочет защитить ее от них и что, помимо этого, у него были еще какие-то свои, тайные причины.
– Я приду завтра.
Он отвернулся, потом порывисто снова повернулся к ней и крепко ее обнял. Он сказал:
– Спасибо тебе, спасибо. – И, порывшись в кармане, достал одну из раковин – морское ухо – и протянул ей.
– Джо... Запомни сегодняшний день. Запомни все.
Ей не нужен был его ответ.
Он ушел, а она стояла, держа в руках раковину, прислушиваясь к звуку его шагов, и ей не хотелось возвращаться домой, потому что там этому дню сразу придет конец и все, что она сознательно гнала от себя, будет поджидать ее в пустых комнатах. И внезапно образ Бена, идущего ей навстречу через выгон, возник перед ней, и она громко вскрикнула, потому что его ведь не было, она стояла одна в темноте, а ей хотелось быть с ним, но к нему не было пути, не было пути.
Один путь был.
Поднявшись на вершину холма, она пустилась бежать, словно каждая минута была дорога, словно она могла опоздать и, прибежав, увидеть, что его уже нет. И она корила себя за то, что так долго была вдали от него, и стремилась теперь возместить все растраченные в пренебрежении к нему дни и ночи.
Она постоянно воображала его возле себя, в доме, а порой он уплывал куда-то, в недосягаемость, но теперь ей открылась единственная, неоспоримая истина: они принесли его туда и оставили там. Приходил ли кто-нибудь туда? При мысли о том, что, может, и приходил, в ней все восставало против этого, она хотела, чтобы это место было недоступным для других, как запертый на замок сад, ключом от которого владела она одна. Но оно было открыто для всех, каждый мог прийти и глазеть, как глазели они на него, когда он лежал в гробу.
Она прошла через покойницкую, ступила на траву и зашагала между старыми замшелыми надгробиями. Фасад церкви, сложенной из песчаника, свинцово поблескивал. Но ей не нужен был лунный свет, она безошибочно нашла бы свой путь, если б даже была слепой.
По правую сторону от церкви старые могилы стали сменяться новыми, и в конце их была его могила, последняя, самая свежая, а за ней – только трава.
Рут замерла на месте. Они унесли цветы, все до единого, – остался только голый продолговатый холмик, похожий на кротовину в дерне. Этот холмик мог принадлежать кому угодно, любому пришельцу. И она не могла принять правды – истинного значения того, что она стоит здесь и почему. В это невозможно было поверить. Бен мертв и никогда не будет ни дышать, ни двигаться, ни говорить... Это казалось бессмыслицей.
Она опустилась на колени в траву. И сказала:
– Мы были у моря – Джо и я. В Хэдвелл-Бей. И там был песок, небо и солнце, и мы шли, шли... И ты должен был бы идти с нами. Почему тебя не было там? Почему?
Безмолвие придавило ее к земле. Вязы и тополя казались колоннами, изваянными из камня.
Она подумала: что происходит с ним сейчас, какие перемены, каким он стал теперь? Она ничего не знала о том, как работает время. И, охваченная ужасом и неистовым желанием спасти его, освободить из этой земляной темницы и светлой деревянной коробки, вернуть к жизни, она вцепилась в дерн и стала разрывать его, а он легко поддавался под ее рукой, потому что не был утрамбован и не успел слежаться. Она выронила комья земли и не отряхнула прилипшей к рукам глины.
И увидела перед собой его тело – вытянувшееся, затихшее, лежащее там, в душной тьме, и уже тронутое кое-где у костей распадом, – и волосы, ставшие сухими и ломкими, и кровь, свернувшуюся в жилах. Она принялась твердить себе снова, и снова, и снова то, что знала прежде, будучи в здравом уме: все это, что лежит там, в земле, – ничто, это не Бен, это его старая, поношенная оболочка, его кокон, отслуживший свой век, ставший ненужным; Бена здесь нет.
Так где же он? Где? Ведь тело, которое она любила, и дыхание, не раз мешавшееся с ее дыханием, все, что было доступно ее зрению, ее слуху, ее прикосновениям, – все это здесь, у нее под ногами, но уже другое, ставшее ничем.
Если прежде она боялась подумать о том, что сделало упавшее дерево с телом Бена, то как это было ничтожно! Что это по сравнению с тем, что творит теперь с ним земля, и ее соки, и все живые создания, обитающие в ней. Как они разрушают, крушат его, превращают в ничто.
Какие-то слова, обрывки фраз кружились у нее в мозгу; из них четко выделилась одна, и Рут произнесла ее вслух:
– Время рождаться, время умирать, – и почувствовала правду этих слов. И все же если бы она, встретившись с Беном, знала, что его час пробьет так скоро, она бы тут же убежала от него, никогда не отважилась бы на этот отчаянный риск, именуемый любовью.
Убежала бы?
Она не знала ответа; она вообще ничего больше не знала.
Она преступила ту грань, за которой уже не было слез, и лежала на покрытой дерном могиле, чего-то ожидая, надеясь на что-то... И шли часы, и луна плыла по небу, а утешенье не приходило, спасенье не приходило, она чувствовала только проникающий в тело холод и влажность земли и трав. Она уже перестала винить все и вся – бога, жизнь, Бена, случай, упавшее дерево. Так случилось, так было предуказано, все обрело свое место. И все же она вскричала:
– Прошу тебя, прошу!.. – и сама не знала, о чем она просит.
О, если бы и она могла умереть – сейчас, здесь... Но она не умрет.
Она продолжала лежать, и море, и солнце, и тепло, и умиротворение этого дня казались чем-то далеким-далеким, из какой-то другой жизни.
После этой ночи она неделю за неделей приходила сюда, сидела или лежала возле могилы, и ее посещения не остались незамеченными, и слух о них пошел по деревне и распространился за ее пределами, и по всей округе толковали о ней. Что-то предрекали. Ждали.
6
– К морю? Что ты несешь? Ты рехнулся, сынок? К морю?
Джо стоял в отдалении, в глубине комнаты. В эту ночь они не ложились, ждали его, и в конце концов ему пришлось открыть им свой секрет. Потому что по какой-то непонятной причине мать настойчиво потребовала, чтобы он сказал, где был и что делал, хотя до этой минуты полностью забывала о его существовании.
– Ты должен рассказать мне, что это тебе взбрело на ум.
– Мы ездили к морю. На поезде из Тефтона. Вот и все.
– Допустим, она полоумная, но зачем ей понадобилось тащить с собой тебя?
– Не говори так о Рут.
– Ну вот, конечно, и ты туда же, и ты против меня. Все вы против меня. Больше от вас ничего не дождешься, хотя, видит бог, не знаю, чем я это заслужила. Я старалась, мучилась, тащила на себе этот дом, а разве для того я родилась на свет, как по-твоему? Думаешь, судьба не сулила мне куда больше, когда я была в твоих летах?
И так снова и снова, все одно и то же. Элис сидела как каменная, без всякого выражения на лице.
– Разве вы, хоть кто-нибудь из вас что-то понимает, беспокоится о чем-то? Что вы знаете о моих страданиях? О всех жертвах, которые я приносила? Нет, вы не знаете ничего. Только он один понимал, он был чуткий, и вот его отняли у меня. И что у меня теперь осталось?
Джо вертел в руке маленький камешек – один из тех, что нашел на берегу, – перекатывая его между большим и указательным пальцами.
– И почему это она совсем завладела тобой? Почему ты должен вечно ходить туда и делать все за нее? А для меня ты когда-нибудь что-нибудь сделал? И чем она лучше других? Жизнь идет своим чередом, и неужто никто не может вправить ей мозги? Разве я не могла бы тоже улечься в постель и лежать, не вставая? Она просто не в своем уме, и никто в этом не виноват, кроме нее самой. Она просто хочет использовать тебя. И этому надо положить конец. Нечего тебе ходить туда, торчать там чуть ли не весь день и всю ночь, взаперти с этой сумасшедшей.
– Она не сумасшедшая, не надо так говорить.
– Вот как ты разговариваешь со мной? И это мой родной сын? Ты это от нее перенял. Она гордячка, она сама отдалилась от нас. Ну и пусть, она для нас теперь никто.
– Для вас, но не для меня.
– Ну да, ты держишь ее сторону, она восстановила тебя против меня. Что ты можешь знать, сынок? Ты еще ребенок, ты не можешь знать всей правды о ней. И он не знал. Она отняла у нас его, а теперь хочет отнять тебя.
– Но ей нужен кто-то. Я нужен. Я должен ей помогать.
– Должен? А если я скажу – нет? – Дора Брайс отвернулась, направляясь в кухню. – К морю! Кто дал ей право швыряться деньгами, устраивать себе увеселительные поездки, развлекаться? К морю! И ты скажешь, она не бесчувственная? Сколько времени-то прошло? Четыре недели. Меньше даже. И она уже отправляется к морю. Бесчувственная, как есть бесчувственная.
– Нет, – тихо произнес Джо. У него было тошно на душе, но он не мог позволить обижать Рут, он должен был встать на ее защиту против них всех.
– А что будет дальше? Я тебе скажу. Да это всякий тебе скажет. Она или совсем свихнется и ее увезут в сумасшедший дом, или не сегодня-завтра найдет себе другого – и только ее и видели. Вот так.
Конец этому положила Элис. Не Джо, а Элис, у которой не было больше сил сидеть в этой душной комнате и выслушивать бесконечные жалобы матери на свою горькую судьбу. Она вскочила.
– Хватит уж, – сказала она, – оставь его в покое. Не все ли равно, куда он ходит? Какой от этого вред? Не можем мы, что ли, хоть на время забыть все и разговаривать как люди?
– И ты? И ты туда же? Ты тоже становишься на ее сторону, и ты против меня?
– Да никто не против тебя.
– Я могла бы стать Кем-то, мисс, могла бы жить настоящей жизнью, могла бы...
– Да все мы знаем, кем ты себя воображаешь. Настоящей леди! Мы всю жизнь об этом слышим, и ты думаешь, мы верим в это? Почему мы должны верить? Да и какая разница? Ты все это себе навыдумывала – разве нет? Прячешься от жизни за свои пустые фантазии, грезишь наяву. А что ты такое на самом деле? Пятидесятилетняя женщина, жена рабочего с фермы. И живешь ты здесь. Ну так почему ты не можешь успокоиться, почему не довольствуешься тем, что есть?
Дора Брайс стояла у стены и легонько покачивалась из стороны в сторону, прикрыв глаза рукой.
– А я больше не могу здесь оставаться. Не могу сидеть в этой комнате и слушать, как ты грезишь, строишь какие-то несбыточные планы, и ждать чего-то, на что-то надеяться. Все ждать, ждать – один год, другой, еще невесть сколько, до бесконечности, потому что, скорее всего, это никогда не кончится, и я не собираюсь стать тем, во что ты хочешь меня превратить, делать то, чего ты не сумела сделать, – я буду жить по-своему, найду себе что-то в жизни и буду радоваться, как бы ни обернулось дело. Ты не умеешь быть довольна, а я буду.
Джо хотелось заставить их замолчать, он не мог вынести жестоких слов, летевших от одной к другой с целью ранить, оставить надолго след. Но он ничего не мог поделать с ними. Они даже не заметили, как он выскользнул из комнаты и потом из дома. Поездка к морю была позабыта. Джо прошел деревней, вышел за околицу; комок в горле душил его, ему хотелось плакать от ненависти к Фосс-Лейн и к тому, что они там говорили о Рут, и от того, что не было больше Бена, который знал бы, как заставить их замолчать, и все расставил бы по своим местам.
Он шел своим обычным путем, через поля, потом поднялся на холм и только там дал себе волю, упал в траву и заплакал. Но он плакал не о себе. Он все вытерпит. Ему было жалко их и жалко этого волшебного дня у моря, который теперь, когда они узнали о нем, был непоправимо испорчен. Ему оставались только камешки. И он вынул их из кармана и прижал к щеке. Это было каким-то утешением.
Элис Брайс тоже вышла из дома и после минутного раздумья направилась в противоположную сторону – к Хармерс-Барн, где жил Боб Фолей, кузнец, который постоянно заговаривал с ней и поглядывал на нее, понятно как. Он желал ее. Она испытывала приятное волнение и чувство вины и отчасти страха и вместе с тем сознавала себя хозяйкой своей жизни и высоко несла голову, не заботясь о том, кто ее увидит и что скажет.
И потому на долю Артура Брайса, после того как он выпил свою кружку пива, выпали горькие упреки, и вновь хлынувшие слезы, и обвинения в том, что он – причина всех бед в жизни его жены. Он сидел, усталый, чувствуя старую боль в искалеченном плече и руке, и молчал. Какой смысл возражать? Но его мучило, что он не знает, как сделать жену счастливее, как изменить ее жизнь или заставить ее примириться с судьбой, потому что, невзирая ни на что, он любил ее.
Хотя кладбище невольно притягивало к себе Рут и она снова и снова ходила туда, было еще и другое, совсем, совсем другое место – Хелм-Боттом, – и там она находила утешение; все мысли и чувства, сжигавшие ее изнутри, когда она сидела у могилы, здесь, в лесу, утихали, и она снова становилась сама собой, ей дышалось легче, к ней слетались воспоминания, и они были светлыми.