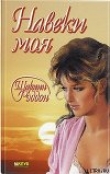Текст книги "Чума на оба ваши дома"
Автор книги: Сюзанна Грегори
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
V
ДЕКАБРЬ, 1348
Брат Пол, Август и Монфише были преданы земле на скромном кладбище за церковью Святого Михаила спустя два дня после визита епископа. Всем любопытствующим были даны официальные объяснения их смерти, и хотя толки не утихали несколько недель, настойчивое повторение всеми профессорами одной и той же истории начало приносить плоды. Бартоломью, когда его спрашивали в лоб, отвечал, что ничего не знает, хотя при любой возможности уклонялся от обсуждения этой темы. В конце концов страсти улеглись, и происшествие стало забываться. В октябре начались занятия, и, несмотря на то что из-за надвигающейся чумы студентов было меньше обычного, жизнь профессоров Майкл-хауза вошла в обычную колею: лекции, диспуты и чтения.
Бартоломью пытался забыть о потрясениях августа; даже если бы он что-нибудь и обнаружил, что он смог бы сделать? Он подумывал о том, чтобы поделиться своими соображениями с зятем, но боялся, что если он посвятит в это дело Стэнмора, то навлечет на него опасность. По той же самой причине он не желал впутывать никого из друзей.
Рэйчел Аткин оправилась после смерти сына. Кроме особняка в Трампингтоне сэр Освальд Стэнмор владел большим домом по соседству с его конторой на Милн-стрит; там жил его брат Стивен с семейством. Бартоломью убедил Стивена взять Рэйчел к себе прачкой, и она, похоже, неплохо прижилась в его хозяйстве.
Братья Оливеры по-прежнему оставались для всех головной болью. На лекции они являлись нечасто, и Уилсон выгнал бы их обоих, если бы привилегия обладания собственностью на Фаул-лейн не зависела от их успеваемости. Время от времени Бартоломью ловил на себе злобный взгляд младшего, Генри, но так свыкся с этим, что в конце концов перестал замечать.
Последние дни перед началом триместра он немало времени проводил в обществе Филиппы Абиньи. Они катались верхом по густым лугам Гранчестера и наблюдали за состязаниями лучников в Бартоне, иногда вдвоем, но чаще в компании Жиля и какой-нибудь очередной его пассии. Время от времени в качестве дуэньи выступали брат Майкл или Грегори Колет. Они благоразумно ускользали по своим делам, едва оказывались вне надзора бдительных монашек, благодаря чему Бартоломью и Филиппа оставались наедине. Роль дуэньи исполняла и Эдит, которая с превеликой радостью поощряла младшего брата в его ухаживаниях. Не один год она уговаривала его найти себе жену и остепениться. Бартоломью с Филиппой часто гуляли в живописных окрестностях монастыря Святой Радегунды, тщательно следя за тем, чтобы ненароком не коснуться друг друга, ибо им было известно: за изящными арками монастырских окон ястребиное око аббатисы не дремлет.
Несколько раз они отправлялись на шумную Стаурбриджскую ярмарку, которая длилась большую часть сентября и привлекала к себе толпы народа со всей округи. Они смотрели представления огнеглотателей из Испании, циркачей из Голландии и менестрелей из Франции, воспевавших героические деяния. Торговки и торговцы продавали с лотков пирожки, сладости, яблочный сидр, грубые деревянные флейты, наряды и ленты всевозможных цветов. Аромат жареного мяса смешивался с запахом отсыревшей соломы и конского навоза. Животные кричали и блеяли, ребятишки визжали от восторга, рыцари бряцали оружием, и повсюду одинокий голос выкрикивал предостережения о чудовищном море, который свирепствует в Европе и вскоре унесет всех, чьи деяния Бог сочтет нечестивыми.
Угроза надвигающейся чумы мрачной тенью легла на их жизнь. До Кембриджа доходили жуткие истории о селениях вроде Тилгарсли в Оксфордшире, обитатели которой умерли, оставив деревню безлюдной. Поговаривали, что в Бристоле население сократилось на треть, а в октябре первые случаи заболевания появились в Лондоне. Бартоломью часами обсуждал с коллегами-врачами и хирургами, как действовать, когда мор дойдет и до них, хотя правда заключалась в том, что на самом деле никто этого не знал. Городские чиновники пытались как-то установить контроль за теми, кто прибывал в город, в попытке предотвратить распространение болезни, но проследить за всеми было невозможно, и те, кого не пропускали в ворота, просто-напросто перебирались через рвы, переправлялись через реку вплавь или нанимали лодку.
Первый снег выпал раньше обычного, покрыв землю белой порошей еще до исхода ноября, и Бартоломью с каждым днем принимал все больше пожилых пациентов с грудными хворями, приключившимися из-за простуды. Потом, под самый конец триместра, он столкнулся с первым случаем чумы.
* * *
Утро было холодное, с болот дул пронизывающий ветер, вновь предвещая надоедливую морось, которая досаждала кембриджцам вот уже три дня. Бартоломью поднялся в пять, еще затемно, и отправился на короткую мессу отца Уильяма. Лекции начались в шесть, и его студенты, предчувствуя, наверное, какую роль им вскоре придется играть, забрасывали его вопросами. Даже Фрэнсис Элтем, из которого, по мнению Бартоломью, никогда не вышло бы врача, присоединился к бурному обсуждению.
Около девяти лекции закончились, еду подали в половине одиннадцатого. Была пятница, поэтому обед состоял из рыбы, свежего хлеба и овощей. Бартоломью перестал слышать голос студента, читавшего Библию, и задумался о дискуссии, которую он только что провел со студентами. Его мучил вопрос: как убедить их, что в том, как распространяются инфекционные заболевания, существует закономерность и что недуги эти – не просто наказание свыше. Если он будет разубеждать студентов, что заразными болезнями «поражает Бог», то рискует навлечь на себя гнев церковников. Нет уж, пусть сами головой поработают. «Бог поразил» – слишком удобный предлог для того, чтобы не доискиваться истинных причин.
После еды всем членам коллегии надлежало присутствовать на обедне в церкви Святого Михаила. Бартоломью возвращался в колледж с Майклом, который брюзжал по поводу холода.
– Верно! Я убегаю, – сказал Абиньи, который нагнал их сзади и хлопнул обоих по плечам. – В этом колледже чертовская холодрыга. Пойду к Святой Радегунде, у них там разводят огонь, чтобы погреть хорошенькие ножки. – Он вопросительно вскинул бровь, обращаясь к Бартоломью: – Пойдешь? Филиппа особо наказывала мне пригласить тебя.
Бартоломью улыбнулся.
– Скажи ей, что я приду попозже. Мне еще нужно навестить двоих пациентов.
Абиньи хмыкнул.
– Но станет ли она ждать, лекарь? Мне на ее месте не захотелось бы обнимать тебя после того, как ты побывал в жалких лачугах, куда так любишь наведываться.
– В таком случае, хорошо, что тебе никогда не представится этой возможности, философ, – парировал Бартоломью.
Майкл ткнул его.
– Иди, приятель. Больные подождут, а вот любимая может и не дождаться.
Бартоломью пропустил их шуточки мимо ушей и отправился к себе за кожаным мешком с лекарствами и инструментами. Направляясь к Трампингтонским воротам, он пребывал в отличном расположении духа, несмотря на пронизывающий ветер и собирающийся дождь. Первый вызов у него был от семьи лудильщика, которая жила неподалеку от реки; второй – с Бридж-стрит, у церкви Святой Троицы, от одного из бесчисленных родственников Агаты. Оттуда можно будет пойти прямиком в аббатство и навестить Филиппу, пока Абиньи все еще там, поскольку монашки не позволяли Бартоломью видеться с девушкой наедине.
Дождь уже накрапывал, когда он добрался до дома лудильщика. Стайка ребятишек ожидала его, стоя босиком в грязи. Он последовал за ними внутрь обветшалого нагромождения веток и глиняных кирпичей, которое представляло собой их жилище. Там было холодно, несмотря на огонь в очаге, чадивший так, что Бартоломью едва мог что-либо разглядеть. Он присел на утоптанный земляной пол рядом с ребенком, закутанным в грязные одеяла, и начал осмотр. Малышка была явно перепугана, и Бартоломью принялся болтать о пустяках, чтобы отвлечь ее. Остальные дети столпились вокруг, хихикая над его добродушными шутками.
Девочке было лет шесть, и, насколько понял Бартоломью, она страдала от обезвоживания, вызванного жестоким поносом. Он показал матери, как поить ее разведенным кипяченой водой молоком, и дал строгие указания, в каком количестве его давать. Как оказалось, два дня назад малышка упала в реку, и Бартоломью подозревал, что она нахлебалась грязной воды.
Пока он шагал обратно по Хай-стрит к Шумейкер-роу, дождь зарядил не на шутку, и, когда показалась церковь Святой Троицы, Бартоломью успел вымокнуть до нитки. За неделю он промокал уже третий раз, и у него кончалась сухая одежда. В колледже Уилсон позволял разводить огонь только в кухне, а в очень холодные дни – еще и в профессорской, и сушить одежду было негде. Бартоломью начал обдумывать возможность накалить в очаге камни, чтобы потом обернуть вокруг них мокрые вещи.
Дом родственницы Агаты, мистрис Боумен, представлял собой маленькое каменное строение с деревянными балками, беленными известкой стенами и чистым тростником на полах. Мистрис Боумен робко провела его внутрь.
– Сын у меня занемог, доктор. Не знаю, что с ним такое, весь горит как в огне. Похоже, и меня не узнает!
Она проглотила рыдание.
– Давно он болеет? – спросил Бартоломью, отдавая ей вымокший плащ.
– Да со вчерашнего дня. Все так быстро случилось. Понимаете, он в Лондоне был, – произнесла она с гордостью. – Он у меня отличный стрелодел, мастерит стрелы для королевской армии во Франции.[24]24
В описываемое время шла Столетняя война между Англией и Францией (1337–1453).
[Закрыть]
– Понятно, – проговорил Бартоломью, пристально глядя на нее, – и когда он вернулся из Лондона?
– Два дня тому назад, – ответила мистрис Боумен.
Бартоломью собрался с духом и по крутой деревянной лесенке стал подниматься в комнатку наверху. Затрудненное дыхание больного он услышал еще на полпути. Мистрис Боумен следовала за ним со свечой в руке: в окнах не было стекол, и ставни были закрыты, чтобы не проник холод, потому в комнатке было темно. Бартоломью взял у женщины свечу и склонился над кроватью больного. Сначала ему показалось, что его ужасные подозрения оказались беспочвенными и у сына почтенной женщины обычная лихорадка. Потом он протянул руку и нащупал под мышками пациента шишки, твердые, как неспелые яблоки.
Он с ужасом воззрился на больного. Значит, все-таки чума! Бартоломью сглотнул вставший в горле ком. Он ведь прикоснулся к этому человеку, и что же, теперь сам падет жертвой страшной болезни? Бартоломью подавил невероятно сильное желание уйти, бросить больного, бежать из этого дома прочь и вернуться в Майкл-хауз. Но он же не раз обсуждал этот вопрос с коллегой-врачом Грегори Колетом, и оба пришли к одному и тому же заключению, основанному на немногочисленных фактах, которые им удалось извлечь из россказней и слухов: риск заразиться чумой велик вне зависимости от того, будут они навещать больных или нет. Бартоломью предполагал, что некоторые люди, похоже, обладают естественной устойчивостью к ней – а те, у кого такой устойчивости нет, заразятся в любом случае, будет ли их контакт с больным мимолетным или тесным.
Неужели теперь он умрет – только потому, что прикоснулся к человеку, который сейчас мечется и стонет в горячечном бреду? Раз так, то от него уже ничего не зависит, и он, по совести говоря, не может бросить страдающих ужасной болезнью на произвол судьбы. Колет разделял это мнение. Когда по всей стране врачи бежали из городов и деревень в уединенные домишки в сельской местности, Бартоломью и Колет решили стоять до конца. Бартоломью в любом случае бежать было некуда – все его родные и друзья жили в Кембридже.
Он взял себя в руки и закончил осмотр. Кроме опухолей под мышками такие же шишки размером с небольшое яйцо обнаружились в паху и чуть поменьше – на шее. Кроме того, больной горел в лихорадке и дико закричал и забился, когда Бартоломью осторожно ощупал бубоны.
Бартоломью присел на корточки. Мистрис Боумен беспокойно переминалась у него за спиной.
– Что с ним, доктор? – прошептала она.
Бартоломью не знал, как сказать ей.
– Он ездил один? – спросил он.
– Нет-нет. Трое их было. И вернулись они все вместе.
У Бартоломью ухнуло сердце.
– Где живут остальные? – спросил он.
Мистрис Боумен не сводила с него глаз.
– Это чума, – прошептала она, глядя на разметавшегося сына со смесью ужаса и жалости. – Мой сын заразился чумой.
Бартоломью должен был убедиться во всем, прежде чем делать официальные заявления и прежде чем люди поднимут панику. Он поднялся.
– Я не знаю, мистрис, – сказал он мягко. – Я никогда раньше не видел больных чумой, нужно взглянуть на его попутчиков, а потом решать.
Мистрис Боумен вцепилась в его рукав.
– Он умрет? – заплакала она. – Мой мальчик умрет?
Бартоломью высвободил рукав и крепко сжал ее руки в своих. Так он стоял до тех пор, пока ее не перестало колотить.
– Я не знаю, мистрис. Но вы ничем не поможете ему, если начнете рвать на себе волосы. А теперь принесите чистой воды и какую-нибудь ветошь: нужно обтереть его, чтобы унять лихорадку.
Женщина боязливо кивнула и отправилась исполнять его поручение. Бартоломью снова осмотрел юношу. Тому, похоже, с каждой минутой становилось хуже. Бартоломью понял, что вскоре будет видеть эти страдания десятки раз в день, быть может, даже у своих близких, и ничем не сможет помочь.
Мистрис Боумен вернулась с водой, Бартоломью дал ей указания и заставил повторить их.
– Не хочу вас пугать, – сказал он, – но мы должны быть осторожны. Никого не впускайте в дом и не выходите сами, пока я не вернусь.
Занявшись делом, женщина собралась с духом и твердо кивнула, чем вдруг напомнила ему Агату.
Он вышел из дома и направился к церкви Святой Троицы. Там он попросил священника одолжить ему перо и кусочек пергамента и торопливо нацарапал записку Грегори Колету в пансион Радда – поделился своими подозрениями и попросил встретиться с ним в час дня у Круглой церкви. Выйдя на улицу, он бросил оборванному мальчишке монетку и велел отнести записку Колету, пообещав, что тот даст гонцу еще одну монетку. Сорванец бросился бежать со всех ног, а Бартоломью побрел к дому одного из спутников сына мистрис Боумен.
Едва он подошел ближе, как понял, что все его попытки обуздать мор тщетны. Из дома неслись вопли и причитания, внутри толпился народ. Бартоломью проложил себе дорогу сквозь скопище людей и приблизился к мужчине, лежавшему на постели. Хватило одного взгляда, чтобы понять – конец несчастного уже близок. Он едва дышал, руки его были раздвинуты в стороны из-за огромных нарывов под мышками. Один нарыв лопнул, и оттуда исходило такое зловоние, что кое-кто из набившихся в комнату зевак зажимал нос.
– Давно он болен? – спросил Бартоломью старуху, которая плакала в уголке. Та даже не взглянула на него и продолжала причитать, раскачиваясь назад и вперед.
– Гнев Божий обрушился на нас! – выла она. – Он поразит всех, у кого черные грешные души!
И еще много кого, подумал Бартоломью. Они с Колетом внимательнейшим образом выслушивали все россказни о чуме, ходившие по Кембриджу, в надежде разузнать о болезни как можно больше. Многие месяцы люди не говорили почти ни о чем ином. Сначала думали, что мор не дойдет до Англии – ведь губительные ветры, которые разносят заразу, не могут преодолеть воды Ла-Манша. Но они все-таки его преодолели, и в августе в дорсетширском порту от чумы умер матрос, а через несколько дней мертвых уже исчисляли сотнями.
Когда мор добрался до Бристоля, чиновники попытались отгородить порт от прилегающей округи, чтобы помешать распространению заболевания. Но волна смертей не улеглась. Вскоре она докатилась до Оксфорда, а там и до Лондона. Бартоломью и его коллеги тогда проспорили полночи. Разносит ли заразу ветер? Правда ли, что сильнейшее землетрясение вскрыло древние захоронения и чума распространилась от обнажившихся трупов? Действительно ли это кара свыше? Что делать, если она доберется до Кембриджа? Колет утверждал, что тех, кто имел сношения с зачумленными, следует держать отдельно от тех, кто таких сношений не имел. Но в ту же секунду, как эти слова Колета зазвучали у Бартоломью в ушах, врач понял, что подобная мера совершенно бесполезна. В толпе он заметил слугу из Майкл-хауза. Даже если Бартоломью постарается держаться подальше от коллег, слуга все равно будет крутиться среди них. А те, кто уже сбежал?
Томас Экстон, главный городской врач, объявил, что никто не умрет, если все соберутся в церквях и будут молиться. Колет предположил, что если приставить пиявок к черным нарывам, которые, как говорили, выскакивали под мышками и в паху, они смогут высосать яд изнутри. Он сказал, что намерен применять пиявок, пока его коллеги-врачи не обнаружат какое-то другое средство. Бартоломью возразил, что сами пиявки будут разносить заразу, однако согласился попробовать, если Колет сумеет доказать, что они помогают.
Бартоломью очнулся от размышлений и громко ударил по двери, разом заглушив и причитания, и шепот.
– Давно он болеет? – повторил он свой вопрос.
В ответ раздался нестройный хор голосов, и Бартоломью склонился к женщине в сером платье.
– Он пришел домой позапрошлой ночью уже больной, – сказала та. – Пил в таверне «Королевская голова», и друзья привели его, когда он был уже в лихорадке.
Бартоломью закрыл глаза в отчаянии. «Королевская голова» – одна из самых людных таверн в городе. Если слухи были верны и заразу разносит ветер, то всем тем, кто контактировал с тремя молодыми людьми, уже грозит опасность. Грохот в дверь заставил гомон улечься, и сквозь толпу протолкнулся коренастый мужчина в засаленном фартуке.
– Уилл и его мать больны! – крикнул он. – И один из малышей мистрис Барнет почернел!
Немедленно вспыхнула паника. Люди принялись креститься, распахивать ставни, кое-кто выскакивал наружу с криками: «Чума!» Очень скоро в доме остались лишь больной, Бартоломью и женщина в сером платье. Бартоломью пристально присмотрелся к ней и заметил блестящее от испарины лицо. Он подвел ее к свету и ощупал под челюстью. Как он и ожидал, на шее у нее обнаружились небольшие припухлости; она успела заразиться.
Он помог женщине подняться по лесенке в комнату с большой кроватью, укрыл одеялами и оставил рядом кувшин с водой – она жаловалась на сильную жажду. По пути он заглянул к больному мужчине внизу и увидел, что тот уже мертв; лицо у него было фиолетовое, глаза слепо смотрели вверх. Белая рубаха под мышками была испачкана кровью и черно-желтым гноем. Стояло невыносимое зловоние.
Бартоломью вышел из дома. На улице было необычайно тихо, когда он шел к Круглой церкви Гроба Господня, где его с тревогой ожидал Грегори Колет.
– Мэтт? – шагнул он навстречу коллеге; глаза его были полны страха.
Бартоломью вскинул руку, не давая подойти ближе.
– Она пришла, Грегори, – сказал он негромко. – Чума пришла в Кембридж.
* * *
Последующие несколько недель промчались для Бартоломью словно вихрь. Сначала больных было совсем немного, а один из них даже выздоровел. Через пять дней Бартоломью стал надеяться, что мор обошел их стороной, что обитателям Кембриджа посчастливилось избежать наихудших тягот болезни или же она выдохлась. Потом неожиданно в один день слегли четыре человека, на следующий день – еще семь, через день – тринадцать. Люди начали умирать, и Бартоломью обнаружил, что получает больше просьб о помощи, чем он в силах удовлетворить.
Колет созвал срочное собрание врачей и хирургов, и Бартоломью описал симптомы, которые видел собственными глазами, стоя на галерее церкви Святой Марии, как можно дальше от собравшихся. Сделать предстояло немало. Необходимо было найти могильщиков и тех, кто станет собирать умерших. Желающих нашлось не много, и между медиками и шерифом возник спор, кто должен отстегивать кругленькие суммы, за которые люди могли бы соблазниться этой работой.
Число заболевших катастрофически возрастало. Некоторые умирали через несколько часов после того, как почувствовали недомогание, другие мучились несколько дней. Третьи, казалось, шли на поправку, но умирали, стоило родным отпраздновать их выздоровление. Бартоломью не мог уловить никакой закономерности в том, кто выживал, а кто погибал, и уже начал сомневаться в своем основополагающем убеждении, что все болезни обусловлены физическими причинами, которые можно установить и устранить. Они с Колетом спорили об этом до хрипоты, и Колет утверждал, что куда больше преуспел со своими пиявками, чем Бартоломью с его настойчивыми утверждениями о необходимости чистой воды и постели и с применением различных трав. В некоторой степени это соответствовало действительности, но пациенты Колета были богаче пациентов Бартоломью, болели и умирали в теплых жилищах, не страдали от недоедания. Сравнение не казалось Бартоломью справедливым. Он обнаружил, что в некоторых случаях может облегчить причиняемую бубонами боль, вскрывая их и выпуская гной, и что приблизительно один из четырех его пациентов выживает.
Занятия в университете были немедленно прекращены, и школяры, которые обыкновенно оставались в Кембридже на рождественские каникулы, запрудили дороги, ведущие на север; некоторые уносили с собой чуму. Бартоломью хватался за голову: многие врачи тоже покидали город, оставляя десятки больных на попечение горстки докторов.
Колет рассказал Бартоломью, что лейб-медик мастер Гаддесден также покинул Лондон и вместе с королевским семейством отправился в замок Элтем. Чума не относилась к разряду болезней, способствующих обогащению врачевателей: лекарства от нее, по всей видимости, не существовало, а риск был очень велик. В Кембридже она уже унесла троих врачей, включая преподавателя медицины из Питер-хауза и Томаса Экстона – того самого, который заявлял, что молебны избавят народ от чумы.
Мор, похоже, принес с собой нескончаемые дожди. Бартоломью бродил по грязным улочкам вечно промокший, голова его была словно в тумане от усталости, он переходил от дома к дому и глядел, как умирают люди. Филиппе он послал записку с настоятельной просьбой оставаться в стенах монастыря. По всей видимости, этому совету последовали и монахини: у ложа больных не было замечено ни одной из них. Монахи Барнуэлльского аббатства и монастыря Святого Эдмунда исполняли свои обязанности, соборуя умирающих, и вскоре они тоже начали заболевать.
Жизнь колледжа круто переменилась. Оставшиеся студенты и преподаватели собирались вместе в церкви, чтобы служить заупокойные мессы и молиться об избавлении, но в каждом взгляде была подозрительность. Кто контактировал с больными? Кто свалится следующим? Регулярные собрания за общим столом прекратились, и еду оставляли в зале, откуда все уносили ее к себе, чтобы съесть в одиночестве. Бартоломью задавался вопросом, не гнилой ли тростник на полу и разбросанные объедки в комнатах виноваты в появлении расплодившихся полчищ крыс, которые он замечал вокруг колледжа. Мастер Уилсон полностью устранился от дел и проводил дни в своей комнате, время от времени высовываясь из окна, чтобы отдать очередной приказ.
Суинфорд уехал к какому-то родственнику в деревню, а Элкот последовал примеру Уилсона, хотя Бартоломью время от времени видел, как глухой ночью, когда остальные уже спали, тот шныряет по колледжу. Три монаха не увиливали от своих религиозных обязанностей и без устали соборовали умирающих и отпевали мертвых.
Абиньи вынудил Бартоломью перебраться из их общей комнаты в кладовку, где он теперь спал на тюфячке.
– Извини, Мэтт, – заявил он, прикрывая лицо краем мантии, – но с тобой нынче водить дружбу опасно, ты ведь не вылезаешь от больных. И потом, ты же не хочешь, чтобы я навещал Филиппу после того, как побывал рядом с черной смертью.
Бартоломью слишком вымотался, чтобы возражать. Мастер Уилсон попытался изолировать колледж так, чтобы никто извне не мог войти туда. Кладовые ломятся от припасов, сообщил он из окна собравшимся во дворе членам коллегии, вода в колодце чистая. Им ничто не грозит.
Словно опровергая его слова, один из студентов внезапно рухнул на землю. Подбежавший Бартоломью с отчаянием отметил знакомые симптомы. Ставни Уилсона резко захлопнулись, и о его плане больше не вспоминали.
Члены коллегии начали умирать один за другим. Как ни странно, дряхлые коммонеры, которые, по предположению Бартоломью, должны были слечь первыми, заразились последними. Француз Анри д'Эвен скончался накануне своего отъезда во Францию. Он старался не дотрагиваться ни до чего, к чему могли прикоснуться зачумленные, воду из колодца набирал сам и почти не ел приготовленного на кухне. С помощью подкупа он убедил Александра позволить ему занять комнату Суинфорда, пока тот находился в отлучке: окна ее выходили на север, а по слухам, обитатели таких комнат могли не опасаться чумы.
Однако когда колокол зазвонил к вечерне, Бартоломью услышал жуткий вопль француза. Он взбежал по лестнице и забарабанил в дверь.
Д'Эвен открыл ему; лицо его было белее мела. Он стоял без рубахи, и Бартоломью увидел у него под мышками нарывы, уже наливающиеся смертоносной чернотой. Врач подхватил юношу, чуть не упавшего ему на руки, и уложил в постель. Два дня д'Эвен метался в жестокой лихорадке, и Бартоломью проводил у него каждую свободную минуту. На заре третьего дня француз испустил дух после мучительной агонии.
Бартоломью подметил, что нарывы под мышками имели два вида. Когда они были твердые и сухие, гноя после вскрытия вытекало не много, и больной мог остаться в живых, если у него хватало сил перенести лихорадку и боль. Когда же нарывы были мягкими и содержали много жидкости, пациент неизменно умирал, вне зависимости от того, вскрывали их или нет.
Бартоломью с Колетом приходилось не только ходить за больными, но и надзирать за вывозом тел из домов и с улиц. Оба понимали – если трупы не убрать как можно быстрее, улицы превратятся в рассадники заразы и люди начнут умирать от других заболеваний. Первые немногочисленные добровольцы, которые брались за вредную для здоровья, но хорошо оплачиваемую работу по уборке трупов, очень быстро заражались чумой и умирали. Становилось все трудней искать людей, готовых пойти на такой риск. Однажды ночью Бартоломью, который брел вдоль пристани после обхода больных в рыбацких хижинах, услышал на одном из маленьких пирсов звуки какой-то возни и бормотание. Он отправился посмотреть, в чем дело, и обнаружил двух сборщиков трупов, которые сбрасывали свой улов в реку – им не хотелось в темноте ехать на кладбище.
Бартоломью смотрел, как мертвые тела, подхваченные течением, покачиваются на волнах.
– Вы опустили их в неосвященную могилу, – прошептал он. Сборщики мертвых неловко заерзали. – Теперь их тела могут занести черную смерть в деревни ниже по течению.
– Она уже там, – принялся оправдываться один из сборщиков, – уже в Или. Там пятнадцать монахов умерли.
Когда они ушли, он отправился на церковный двор и заглянул в чумную яму. Скоро она будет полна доверху. Бартоломью и Колет просили выкопать другую, побольше, за Трампингтонскими воротами, потому что кладбища приходских церквей были слишком малы и не могли вместить всех мертвых, к тому же не хватало рук, чтобы рыть отдельные могилы. Поскольку никто не знал, каким образом распространяется чума, Бартоломью не хотел, чтобы зараза проникла из тел в реку, откуда некоторые люди, вопреки его предостережениям, брали питьевую воду. За воротами простирались поля, достаточно далеко от реки и рвов, равно как и от домов.
Когда Бартоломью подошел к воротам Майкл-хауза, привратник с опаской приветствовал его, прижав ко рту гигантских размеров ароматический мешочек, набитый травами.[25]25
В средние века подобные мешочки использовали в качестве средства против заразы.
[Закрыть]
– Брат Майкл просит вас зайти к нему, если можете, – сказал он, стараясь держаться от Бартоломью как можно дальше.
Врач кивнул. Он не обижался на этого человека. Вполне вероятно, сам Бартоломью приносил больше вреда, чем пользы, навещая больных в их домах. Быть может, он помогал распространению смерти, разнося ее на одежде и в частицах воздуха, окружавших его.
Он медленно поднялся по лестнице в комнату Майкла и толкнул дверь. Бенедиктинец стоял на коленях перед ложем отца Элфрита – для того явно настал последний час.
– Ох, нет! – Бартоломью упал на скамеечку и подождал, пока Майкл закончит молиться. – Когда?
– Еще сегодня утром он был совершенно здоров, но свалился во дворе, как раз когда я вернулся, – сказал Майкл вполголоса.
Бартоломью подошел к постели и положил руку Элфриту на лоб. Францисканец едва дышал, но, похоже, избежал мучительной агонии, которая выпадала на долю некоторых несчастных. Посещать больных и соборовать умирающих было рискованно, и врачи и священники прекрасно понимали, что могут пасть жертвами болезни. Вид Элфрита, конец которого был совсем близок, снова напомнил Бартоломью о том, что и сам он смертен. Мысли его перескочили на Филиппу, которой, как он надеялся, в монастыре ничего не грозило, и на воспоминания об их недолгом призрачном счастье на исходе лета.
– Схожу еще разок, посмотрю, не появился ли Уильям, – сказал Майкл, украдкой утирая глаза руками.
Бартоломью попытался устроить умирающего поудобнее. Он обнаружил, что если развести руки, это помогает уменьшить давление на бубоны, и они причиняют больному меньше боли. Однако, к его изумлению, у Элфрита под мышками нарывов не оказалось. Он пригляделся пристальнее, проверил шею и пах. Нигде не было ни малейшей припухлости и ни намека на черные пятна, покрывавшие тела некоторых жертв, хотя все свидетельствовало о том, что Элфрит серьезно болен. Бартоломью понадеялся, что это не новая разновидность чумы.
Ресницы Элфрита затрепетали. Он увидел врача и попытался что-то сказать. Бартоломью склонился над ним, силясь расслышать голос, походивший на еле слышный шелест.
– Не чума, – прошептал монах. – Яд. Уилсон.
Обессиленный, он закрыл глаза. Бартоломью задался вопросом, не горячечный ли это бред. Элфрит слабо взмахнул рукой в воздухе. Бартоломью взял ее и сжал в своей. Рука была холодная и сухая. Глаза монаха с мольбой устремились на врача, и тот снова наклонился к умирающему.
– Уилсон, – прошептал францисканец снова.
До Бартоломью, отупевшего от горя и усталости, дошло не сразу.
– Вы хотите сказать, что Уилсон отравил вас? – переспросил он.
Губы Элфрита обнажили зубы в жуткой пародии на улыбку. Он умер. Бартоломью наклонился и обнюхал губы покойного. И отшатнулся. В нос ему ударил едкий мерзкий запах, и он заметил, что язык у Элфрита распух и покрыт пузырями. Его все-таки отравили! Уилсон? Но это невозможно – мастер уже много дней не покидал своей комнаты. Временами Бартоломью видел, как тот следит за происходящим во дворе из своего окна, но стоило Бартоломью или одному из монахов бросить взгляд в его сторону, и он немедленно захлопывал ставни.
Едва он начал осознавать значение смерти Элфрита, из него словно разом выпустили весь воздух. Еще одно убийство! И именно сейчас, в такое время! Он-то думал, что чума положит конец опасным политическим играм, которые начались летом. А что Элфрит делал в комнате Майкла? Неужели это бенедиктинец отравил его? Бартоломью принялся оглядываться по сторонам в поисках кубка с вином или еды, которую Майкл мог вынудить Элфрита съесть, но ничего не обнаружил.