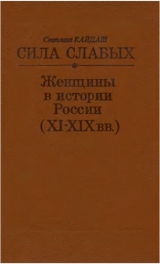
Текст книги "Сила слабых. Женщины в истории России (XI-XIX вв.)"
Автор книги: Светлана Кайдаш
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
«Это было поэтическое время нашей драмы»,– напишет позднее Пущин, вспоминая жизнь в тюрьме – общую, дружную, почти семейную. Каждый с болью пережил ту минуту, когда нужно было уезжать на поселение в разные места обширной Сибири. Поэтому заботой многих декабристов отныне стали ходатайства о том, чтобы власти поселили их вместе с друзьями.
О необыкновенно душевной близости этих людей дает представление письмо декабриста Ф. Б. Вольфа от 11 ноября 1836 года из села Урик. Фердинанд Богданович, необычайно искусный врач, прославился на всю Сибирь своим редким бескорыстием. Душевно привязанный к супругам Фонвизиным, он любил Наталью Дмитриевну всю жизнь и никогда так и не женился. Письмо написано после отъезда Фонвизиных на поселение. Перед отъездом Фонвизины похоронили годовалого сына, которого не спасло даже искусство Вольфа.
Он пишет Фонвизиным:
«Положение наше везде одинаково, но признаюсь вам, что мысль никогда вас не видать меня грустно тревожит, как равно горестна и для Муравьевых. Когда-то в воздушных замках с Катериной Ивановной и Сергеем Петровичем (Трубецкими. – С. К.) мы вас всегда привыкли считать нераздельными с нами, и нам казалось наше существование на поселении в весьма приятном виде. Прогулки, беседы. Круг людей, взаимно любящих и уважающих друг друга, казалось, был верным залогом провести остаток дней в изгнании не только сносно, но даже иногда приятно. Можно бы было забыть на час, что мы все– таки еще в тюрьме, хотя более обширной... Мы убедились в душе, что для нас нет другого общества, кроме наших соузников, нет удовольствия в кругу людей, нас не понимающих. ...Вы, верно, получили письмо, в котором я вас уведомлял, что могила Вавинки совершенно докончена. Гранитную плиту положили при мне, я ездил сам к каменщикам и велел при себе отрубить кусок от гранита, который поставили, из его я приказал отшлифовать два камушка и сделал из одного кольцо для вас, Наталья Дмитриевна, с золотом, которое вы мне дали для доски, потому что ее прислали уже прекрасно вызолоченную, а для вас, Михаил Александрович, я посылаю другой камешек, не оправленный... Мысль эта мне пришла, когда вы просили песку и цветов с могилы, но ни того, ни другого не было – вся она из камня и гранита. Вавинка сохранится, доколе сохранится земля, в которой он покоится. Когда делали его последнее вечное покойное убежище, я еще в последний раз с ним простился, целый день, покуда продожалась работа, я провел с ним – и как вам изъяснить состояние моей души...
Последние минуты Александры Григорьевны (Муравьевой.– С. К.). Последняя ночь Вавинки – какие воспоминания. Под вечер, когда положили последний камень, я пригласил священника, и отслужили панихиду. Я горько плакал и возвратился в тюрьму; тому уже более двух лет, и теперь когда пишу вам – не могу удержаться от слез. Много ли есть людей на свете, которые имеют подобные воспоминания?»[218]218
РОЛБ, ф. 319, к. 1, ед. хр. 66.
[Закрыть]
В Енисейске Фонвизины пробыли недолго, и через год, по усиленным хлопотам родных, их перевели в Красноярск, где они прожили до 1838 года. Ивану Александровичу Фонвизину удалось добиться для семьи брата поселения в Тобольске, городе с лучшим климатом, где прошли все остальные 15 лет их сибирской ссылки. Со временем тобольская колония декабристов стала довольно многочисленной: сюда съехались братья Бобрищевы-Пушкины, Анненков, Свистунов, Штейнгель и другие. Добился перевода сюда и Ф. Б. Вольф.
В 1839 году Фонвизин обратился к властям с просьбой перевести его рядовым на Кавказ, но ввиду его «преклонных лет» в этом ему было отказано. Умер, не дождавшись свидания с дочерью, отец Натальи Дмитриевны. Почти совсем ослепла мать. Каждый год она писала прошения властям разрешить ей увидеться с дочерью, пока она окончательно не потеряла зрение. В 1841 году Наталья Дмитриевна отправила Бенкендорфу письмо, в котором обещала не видеться с детьми, если ей позволят приехать на свидание с матерью. Бенкендорф ответил, что «по существующему воспрещению женам государственных преступников выехать из Сибири до смерти их, ходатайство Фонвизиной отклонить». Вскоре мать умерла.
В 1846 году скончался в Тобольске почти на руках Натальи Дмитриевны Вильгельм Кюхельбекер. «Приехали в субботу в день его кончины некоторые товарищи, и была Наталья Дмитриевна, и он тогда скончался»[219]219
Декабристы.– Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, с. 185.
[Закрыть],– напишет жена Кюхельбекера его сестре. А в 1850 году, когда в тобольский острог привезли сосланных петрашевцев, в том числе Ф. М. Достоевского и С. Ф. Дурова, Фонвизины узнали страшную новость: их старший сын Дмитрий, студент Московского университета, также принадлежал к этому кружку. Наталья Дмитриевна виделась в остроге с Петрашевским, Достоевским и Дуровым, много помогла им, но тревога и беспокойство за сына были для Фонвизиных мучительны[220]220
См.: Житомирская С. В. Встречи декабристов с петрашевцами.– «Литературное наследство», т. 60, кн. 1. См. также: Кайдаш С. Достоевский и Фонвизина.– «Вопросы литературы», 1981, № 5.
[Закрыть]. Дмитрий Фонвизин случайно избежал ареста, так как уехал лечиться на юг, хотя бумаги об его аресте уже были подписаны.
В октябре 1850 года он скончался. Через год умер и его брат Михаил. Наталья Дмитриевна писала в этот год Ст. Знаменскому: «Говорят, что время все сглаживает; я не замечаю этого! Если мое горе не так остро и не так жгуче, как в первые минуты, зато оно теперь все более распространяется в моем сердце, сливается со всеми моими чувствами и ощущениями, объемлет все мое существование. Душа так наболела, что мне даже трудно представить себе, чтобы когда-нибудь было иначе. Время исцеляющее других, меня все более и более поражает...»[221]221
Литературный сборник, изд. ред. «Восточное обозрение». Спб., 1885.
[Закрыть]
После смерти обоих племянников брат Михаила Александровича начал усиленные хлопоты о разрешении Фонвизиным вернуться – уже не для свидания с родными, которых, кроме него, не осталось, но чтобы посетить дорогие могилы. 18 февраля 1853 года «во всемилостивейшем внимании к преклонным летам братьев Фон-Визиных и одиночеству их после смерти детей и близких» было разрешено супругам Фонвизиным вернуться из Сибири. Они поселились в Бронницах под Москвой, в именин И. А. Фонвизина Марьине под надзором полиции.
Получив это сообщение одновременно с известием о тяжелой болезни брата, Михаил Александрович в сопровождении жандарма поспешно выехал из Тобольска 15 апреля 1853 года, оставив Наталью Дмитриевну для сборов и приведения в порядок дел. Однако брата в живых не застал. Наталья Дмитриевна выехала 4 мая вместе с няней, которая провела с ними все сибирские годы изгнания.
Нельзя без волнения читать карандашные странички путевого дневника Фонвизиной, где она описывает свое прощание с Сибирью и встречу с родиной:
«Сердце невольно сжалось каким-то мрачным предчувствием, и тут опять явилась прежняя тревога, а потом страхи».
«Выехав из Казани, ощутили мы себя уже в настоящей России, несмотря на разные народы и породы людей и лошадей. Продолжая путь, все более и более разочаровывались на счет Отчизны. Не такою я знала ее, не такою думала ее встретить. Российский люд просто бесил меня на каждом шагу – с горем пополам должна была отдать преимущество Сибири и сибирякам. В досаде укоряла российских и дразнила их сибиряками. В Казанской губернии дорога ужас – что за мосты, что за переправы, рытвины, рвы, канавы – так и грозит погибелью...»
«Мне как-то сдается, что Сибирь предназначена быть Америкой в отношении России – разумеется, не теперь, но когда-нибудь, не скоро. У нас где-то сломалась ось на дороге от Нижнего... Дорога не пугала, но появились разные притязания со стороны ямщиков и старост и притеснения со стороны смотрителей – и последнее очарование на счет Родины исчезло».
«Я как-то ожидала чего-то особенного от вида Москвы после 25-летнего изгнания в стране далекой. Между тем не показалось сновидением и въезд в Москву и проезд по городу – ни веселья, ни грусти – а равнодушно как-то как во сне. Я полагаю, что Тобольск увидела бы теперь с большею радостью».
«Я сказала ямщику, чтобы вез нас через бульвар но Мясницкой – хотелось видеть прежний дом – но ямщик попался неудачный – возил, возил и насилу нашел дорогу. Красные ворота первые попались в глаза, потом и Мясницкую проехали, взглянула и на прежний дом, но как-то равнодушно, все как во сне. Проехали ошибкой по Кузнецкому мосту и наконец добрались до Малой Дмитровки в дом покойного брата. Как во сне взошла я и туда – обегала весь дом... обегала и сад – очень хорошенький. Мне хотелось остаться в Москве инкогнито. Вообще я чувствовала себя тут стесненною, сжатою как бы в тисках. К тому же разные являлись чиновники от Закревского (военный генерал-губернатор Москвы.– С. К.) и почти выгоняли из Москвы. Не отдохнувши, пустились мы вечером в путь с московским жандармом на козлах и с букетами цветов в руках».
«Марьино. С Бибиковым и Якушкиным провели весь день... 28-го приехали Тизенгаузены. Рады были мы возвращению нашего старого товарища на родину. О, Господи, возврати пленных наших, как потоки на иссохшую землю!»
Предчувствия не зря стеснили сердце Натальи Дмитриевны: силы ее мужа, подорванные потерей детей и любимого брата, были на исходе. Он прожил на родине лишь год и скончался 30 апреля 1854 года.
На памятнике мужа Наталья Дмитриевна приказала выбить надпись: «Здесь покоится тело бывшего генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина, родившегося в 1788 году августа 20 дня, скончавшегося в 1854 году апреля 30 дня». В слове «бывшего» – вечное напоминание о декабризме Фонвизина, гордость этим его вдовы и одновременно ее дерзкий вызов властям[222]222
К сожалению, описывая этот памятник в Бронницах, Н. Я. Эйдельман опускает это слово – «бывшего». Смысл надписи тогда получается совсем иным. По его словам, умерший был «лишен чинов, звания, наград за 1812-й и никак не мог именоваться генерал-майором, особенно пока еще царствовал Николай I. Однако энергичная владелица Марьина сумела добиться своего». (Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1984, с. 135).
[Закрыть].
Наталья Дмитриевна осталась наследницей огромного, но расстроенного состояния братьев Фонвизиных. Для нее это прежде всего был долг по отношению к крестьянам: устроить и облегчить их жизнь.
Чтобы лучше представить себе настроения Натальи Дмитриевны в этот период, обратимся к ее письму, отправленному в Тобольск к оставшемуся там воспитаннику Николаю Знаменскому: «Грустно вспомнить прошедшую изгнанническую жизнь, но грустно и на настоящее оглянуться. Между тем и в самой этой грусти есть все же что-то отрадное; все же мы на родине, по крайней мере, теперь; хоть мало радости и надежды нет ни на какое земное счастье, но есть серьезная обязанность, есть цель, жизнь – не пуста, не бесполезна. Слава богу, можно хлопотать о других, забывая себя и свое, и хлопотать безвозмездно, и что еще лучше, незаметно, как в пустыне, где и замечать некому... Сама удивляюсь, как все топкости дела стали мне доступны. Делаю сделки на несколько тысяч и как будто век свой этим, а не цветочками занималась. Чувствую что как будто неведомо откуда смыслу и силы на эти вещи прибавилось. Занимаюсь этой прозой житейской без утомления, без сомнений. Цель не прибыток, как можно было бы заключить из слов «тысячи»; но чтобы уплатить и очищением казенного долга избавить подведомственных мне людей от несчастья быть проданными с публичного торга и может быть в недобрые руки. Это все равно, как мы лечили во время холеры; тогда тоже не знали ни скуки, ни усталости от трудов... Приходится покуда приноравливаться к прежде заведенному здесь порядку, потому только что еще не умеем и не можем отчасти изменить все это. Ненавижу барство и русско-дворянских замашек, а приходится беспрестанно разыгрывать роль аристократки-помещицы. Невыносимо!.. Нет, господи, я чувствую, что ты не судил мне, как всем прочим помещицам, господствовать и только господствовать. Для чего же была сибирская школа и притом такое продолжительное в ней пребывание? Если бы ты видел двор наш и меня посреди всей этой придворной челяди, дикую, застенчивую, похожую более на невольницу, нежели на госпожу этих рабов и подданных,– на тебя бы нашла тоска и жалость о моем неестественном положении... Меня приводят в отчаяние низкие поклоны, целование ручек и плеч и ухаживания... Словом сказать, так грустно, что сил нет, и господство для меня невыносимо. Одна мысль, что по закону все это моя собственность, из ума меня выбивает. Чтобы понять, что я госпожа их, я должна отыскивать в себе какую-то чучелу, которую я было совсем из виду потеряла в далеких пустынях сибирских»[223]223
ЦГАЛИ, ф. 1235, оп. 1, ед. хр. 157, л. 32-34.
[Закрыть].
Декабристы придавали большое значение стремлению Фонвизиной сделать своих крепостных крестьян государственными, видя в этом один из способов решения крестьянского вопроса. С. П. Трубецкой писал И. И. Пущину: «Разъезды Натальи Дмитриевны имеют законную причину; надобно покончить заветное дело, как вы его называете, давно уже начатое»[224]224
Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, с. 327.
[Закрыть]. О своих отношениях с крестьянами она посылала подробные письма-отчеты оставшимся в Сибири друзьям: П. С. Бобрищеву-Пушкину, И. Д. Якушкину, С. П. Трубецкому, И. И. Пущину.
Нежная и многолетняя ее дружба с И. И. Пущиным переросла постепенно в глубокое и сильное чувство, которое овладело этими уже немолодыми людьми (обоим было уже за 50 лет) и привело их к браку, счастливому для обоих, но – увы! – недолгому.
Переписка Натальи Дмитриевны с Пущиным представляет собой образец замечательной эпистолярной лирики. Характерно, что в переписке с близким другом Пушкина Наталья Дмитриевна неизменно называет себя именем героини «Евгения Онегина» – Таней, а Пущин не только признает за ней это право, но отделяет в ней Таню – любящую и порывистую – от находящейся с ней как бы в борьбе Натальи Дмитриевны. «Странное дело,– пишет Наталье Дмитриевне Пущин 30 января 1856 года из Ялуторовска,– Таня со мной прощается, а я в ее прощай вижу зарю отрадного свидания! Власть твоя надо мной все может из меня сделать».
Вот несколько отрывков из писем Пущина к Наталье Дмитриевне весной 1856 года:
«Добрый друг мой! ...Мильон вопросов задано – но ответа нет. И безответен неба житель! Я в волнении. Не хочу его передавать. Сжимаю сердце – и прошу скорей успокоения. Знаю, что нет дружбы, привязанности, любви без тревоги. Эта тревога имеет свою прелесть, свое очарование, ей должно быть разрешение – иначе душит, в левом боку что-то бьется и просится вон... Я не скажу никогда на бумаге, хотя и бумага твоя... Не беспокойся: никому здесь ни гугу о твоем приезде. Это будет главный сюрприз для всей колонии. И я в совершенстве разыграю свою роль».
«Таня лучше тебя меня понимает».
«Еще раз спасибо глубокое за 11-ть листков милой Тане. Поцелуй ее за меня крепко, очень крепко! Сегодня вечером, когда дом успокоится, буду вчитываться в твои листки. Так с тобою и пробуду за полночь».
«Чтобы дольше быть с тобой, а не все тебе навязываться, я все читал, упивался, наслаждался и молчал на бумаге. Ты понимаешь, чем я упивался? Твоими маленькими и большими листками, начатыми 3-го мая. (Канун моей годовщины), наконец же ты меня вспомнила 4 мая. Эти листки маленькие, с зеленой, отрадной каемкой. Я очень люблю этот цвет надежды. Таня знает, чем потешить юношу. Он просто с ума сходит, только, пожалуйста, милая, ненаглядная Таня, никому об этом не говори, потому что, пожалуй, над нами будут смеяться».
«Если ты решилась побывать за Урал, я благословляю всеми способностями души моей твое благое намерение – но прежде обдумай хорошенько и тогда уже пускайся в путь. Свидание с тобою будет для меня минутой жизни. Из близких никто нам не помешает... Таня непременно будет с тобой – иначе и быть не может, как ни разделываются с нею»[225]225
РОЛБ, ф. 319, л. 1, ед. хр. 13.
[Закрыть].
Так началась новая полоса жизни Фонвизиной, связанная с Иваном Ивановичем Пущиным. Обманув бдительность начальства, она предпринимает новое путешествие в Сибирь. В «Исповеди» Наталья Дмитриевна подробно рассказывает историю и своего путешествия, и второго замужества:
«...В это время у меня ни денег, ни виду для проживания беспрепятственного не было, потому что надзор полиции не был снят с меня, чем я нисколько не тяготилась – только всегда надо было спрашиваться выехать...
...Один из наших товарищей правил вид для своей жены у нового предводителя дворянства, вспомнил обо мне и стал у него просить и для меня, сказав, что я уже вдова, следовательно, имею еще больше права на дворянский вид, чем его жена, подлежащая еще некоторым ограничениям. Новый неопытный предводитель не сделал никакого возражения, но выдал мне вид с правом въезда в столицы и проживания во всех пределах Российской империи, без всякого ограничения. Другое, тоже странное обстоятельство, что явился ко мне государственный крестьянин, которому я продала рощу – и должна была получить деньги в октябре, с предложением отдать мне эти деньги недели через три... Я просто поражена была удивлением...
Итак, я, никому не говоря о моем намерении, говорила явно о поездке в Нижний на весну, где у меня были дела, и о том, что оттуда я, может быть, проеду в Пензу, к сестре моей двоюродной. Я знала, что в этот год готовится коронация, то не до меня будет. С первым летним путем я явно поехала в Нижний, а там, имея вид, я могла ехать долго, куда хотела. На пароходе плыла до Казани и оттуда объявила сопровождавшим меня кучеру опытному и мальчику, что мы поедем в Сибирь. Немалое было их удивление. Мы направились к Сибири, я хотела прямо в Тобольск, но разлитие вод меня задержало, и я должна была повернуть в Ялуторовск, где жили Пущин и другие друзья и товарищи, трое из них семейных. Пущин занимал большой дом и был так общителен, так радушен, что не только друзья или товарищи, но даже сколько-нибудь знакомые проездами у него останавливались. Не было нуждающегося, которому бы он по силам не помогал – не было притесняемого или обиженного, которого бы не защищал словом и делом – даже выпрашивал многих из ссылки и Бог, видимо, благословлял его хлопоты – никому не было у него отказу – вдовы и сироты, духовные и мирские, чиновники, граждане, военные шли к нему, как к отцу родному – хлопотать обо всех было как бы призванием и пищею для доброй его души – и этим он нисколько не чванился, а говорил, что так уже Бог его создал Маремьяной старицей – даже хлопоты свои называл в шутку Маремьянством и выдумал глагол «маремьянствовать». Весь тамошний край или лучше сказать вся Сибирь его знала от самых важных начальников до народа, все любили и уважали за прямой и веселый нрав, за благую его деятельность, за полезные советы. Он как-то всегда умел довести начальников исполнять его просьбы за других, полиции жандармы были ему преданы, даже шпионы оставляли его. Он был душою всей нашей Ватаги Государственных преступников, как нас там чтили, и покровительствовал всем заметным (?) сосланным – и уж конечно всем своим товарищам-соузникам и однокашникам, как их называли, был самый верный товарищ, а некоторым особенно горячий друг и брат. [...] Прибыли мы в Ялуторовск в 11 часов вечера – видя в комнате огонь, постучалась. Спросив еще громогласно, кого Бог дал, и увидев меня, он испугался, подумал что я по какому-нибудь случаю бежала помимо правительства из Москвы или чего доброго сослана. Я его успокоила, что все в порядке, и я после болезни для исполнения обета приехала – почти всю ночь мы проболтали, я много плакала, вспоминая, как была здесь с покойным мужем и у него же останавливалась. [...] На другой день то же удивление и радость у прочих друзей... У хозяина моего (Пущина) все навертывались слезы, глядя на меня, и он с трудом подавлял их.– На третий день моего у них пребывания он получил от родных из Петербр. письмо, извещающее, что всем нашим готовится при коронации всепрощение с возвращением прежних прав дворянства. Иные верили, другие нет – хозяин расцвел, все удивлялись, что он так радуется предполагаемому возвращению.– Когда мы остались одни вечером, он мне говорит: – Ну теперь я уверен, что Бог нам помогает – я усердно молился, чтобы внушил мне средство вас успокоить, защитить вас от всякого рода нападений. Но надо, чтобы вы согласились на это. [...] Я все-таки не понимала, о чем он говорит. Он так знаменательно поглядел на меня: – Согласитесь выйти за меня замуж, тогда Бог даст мне право защитить вас от вас самих... Я испугалась и смутилась... Поверьте, я все это гораздо прежде и давно обдумал, но не говорил и не намекал вам потому, что по обстоятельствам не видел возможности к исполнению (...) Но мне как-то показалось мудрено и страшно, и даже неловко – я напомнила: – а люди-то что скажут? ведь нам обоим около ста лет.– Он улыбнулся: – Не нам с вами говорить о летах... (разумея, что у него дети)[226]226
У Пущина были внебрачные дочь Анна и сын Ваня, которые жили вместе с ним.
[Закрыть]. Мы оба молодого свойства, а людей кого же мы обидим, если сочетаемся? Мы свободны и одиноки – у вас куча дел не по силам. Очень натурально, что вам нужно помощника. Скорее на меня падет упрек, что я женился, рассчитывая на ваше состояние. Л я признаюсь, что такой упрек был бы для меня очень тяжел, я об этом много думал, но потом понял средство устранить от себя не только самое дело, но и подозрение...
Потом, помолчав, сказал: спроситесь Бога, когда поедете говеть в Абалаки (т. е. в Абалацкий монастырь под Тобольском.– С. К.). Я спросила: как же это? А он отвечал: половина России, покоряясь жребию, идут на смерть. Бросьте жребий, помолясь с верою.– Я сидела в раздумье и даже в смущении. Он оставил меня думать – я надумалась! [...] Поеду в Абалаки и положу бумажки у икон на три случая – так ли остаться, выжидая воли Божией? – принять ли его предложение? – или идти в монастырь? [...] Я молча думала, покуда он тоже молча ходил по комнате. Наконец на прощанье сказала, что я согласна на жребий, и просила его не возобновлять разговора об этом, покуда не решит Бог... Через несколько дней, узнавши, что вода спала, отправилась я в Тобольск, где меня уже ждали».
Совершив путешествие в Абалацкий монастырь в 25 верстах от Тобольска, Наталья Дмитриевна вынула, наконец, жребий, о чем рассказывает в «Исповеди» так:
«В стаканчике находилось 9 бумажек: по три на каждый вопрос – прикрыв стаканчик тремя пальцами, я тряхнула, выскочила бумажка и упала у самого образа Абалацкой иконы.– Признаться, что у меня сердце замерло и руки так похолодели, что я едва развернула роковую бумажку.– Когда прочла согласие на предложение, я невольно крикнула: «Господи, что же это такое!»
Возвратясь из Омска в Ялуторовск к Пущину, я намеревалась только отпраздновать с ним день моих именин 26-е августа и потом домой к моим приемным детям.– Один Ялуторовский товарищ, самый близкий друг моего мужа, узнав, что я приехала, [он] был на целебных водах в восточной Сибири, поспешил возвратиться в Ялуторовск, чтобы со мною повидаться, другой, у кого я гостила в Тобольске, тоже приехал туда же, чтобы проводить меня в Россию. Когда я возвратилась из Омска, остановилась опять у Пущина и в 1-й вечер, когда мы остались одни, он спросил меня, какой выпал жребий, я с низким поклоном и молча подала ему бумажку, он прочел, перекрестился и обнял меня со слезами и говоря: Я так и ожидал.– Я опять просила его предать все это дело Господу и не говорить покуда никому из наших.
Через несколько времени после описанного мною проскакал курьер с объявлением всепрощения, посланный в коронацию прямо из Москвы до Иркутска, всем нашим, кроме прежних чинов возвращены все дворянские права и титулы, кроме двух или трех, которые подлежали смертной казни, и дозволение возвратиться на родину всем с правом владеть и своею прежнею частью имений, буде наследники пожелают уступить. [...] Надо отдать честь всем родным – лишь только возвратились сосланные, все их наследники возвратили им их части имений. Суженый мой после отъезда моего из Сибири занемог и после всех товарищей оттуда выехал – все разъехались в разные стороны – все заезжали ко мне в подмосковную как бы отплатить мое посещение их в Сибири. И мой суженый был тоже у меня, так что никто не догадывался о наших намерениях.– Он мне сказал, что очень расстроился в здоровье и поедет к родным в Петербург, где будет лечиться – после отъезда его я тоже сильно занемогла – и притом опасно, так что не знала, что будет с нами.– Пушкин (Бобрищев.– С. К.), один из всех наших знавший нашу тайну, (...) возвращаясь из Петербурга заехал ко мне – прежде возвращенные получили тоже все права и из-под надзора полицейского вышли, в том числе и я, с дозволением проживать во всей империи и в Петербурге.– Не найдя меня ни в Нижнем, ни в Пензе у сестры, полиция, потерявши мой след, во всех концах России меня отыскивала для того только, чтобы объявить царскую милость...
...Я приехала в Петербург перед Пасхой. Я ужаснулась, когда увидела больного – не могла даже скрыть моей грусти и слез при его родных, с которыми он меня познакомил. Заметив впечатление, которое он на меня произвел, он сказал мне тихонько с грустною улыбкою: не правда ли, как я похож на жениха?..
[...] Дома я неутешно плакала о нем – сравнивала его крепкого, здорового, сознательного с таким исхудавшим, жалким, почти уничтоженным. Посещая его, я часто у него встречала его лицейских товарищей, о которых он в Сибири говорил, после и с которыми был в постоянных дружеских отношениях. Употребляя их влияние в своем Маремьянстве на пользу других – один из самых близких его лицейских приятелей рассказал мне, что кроме болезни его ужасно мучит участь детей его. Родные его сестры: вдова, мать взрослого семейства и девицы, уже немолодые, все... просили даже его не говорить с ними о его детях... Ясно было, что печаль, как червь, точила его...
...Я задумала расспросить главного врача о состоянии больного как посторонняя ему. Зазвав его к себе под предлогом самого ничтожного нездоровья, я стала его допрашивать.– Он сказал мне: много у него болезней. Ему можно бы еще помочь, но нравственные силы сильно упали – даже лекарства не действуют – вот этот упадок душевных сил может убить его. Надо бы какое-нибудь сильное обстоятельство, которое бы его расшевелило, подняло, тогда и лекарство подействует и можно скоро помочь. У меня явилась внезапная самоотверженная решимость, успокоившая мою душу.– Я пригласила к себе лицейского приятеля[227]227
Борис Карлович Данзас, брат секунданта Пушкина.
[Закрыть] моего суженого и говорю: – Вы мне объявили причину затаенного горя Пущина, а доктор его сказал мне, что для восстановления его надо, чтобы что-нибудь сильно подействовало, обстоятельство переменило его печальное настроение, а потому скажите ему, что, несмотря на его болезнь, я согласна быть матерью его детей и выйти за него немедленно замуж, чтобы быть по обстоятельствам или сиделкою при больном, или сестрою его, или женою, но уже доверим вашу дружбу. Вы знаете, какой он хлопотун. Возьмите на себя устроить нашу свадьбу. Я желаю, чтобы никто из родных не знал, покуда не совершится. Вас прошу быть моим шафером, приищите другого – хорошо, чтобы где-нибудь на железной дороге. Сегодня же скажите ему – чем скорее заменить печаль его радостию, тем лучше – и будьте так добры – сказать вечером, какое это сделает на него впечатление.
Он так обрадовался, так был тронут, что родные не знали, чему приписать его внезапную веселость. Он начал быстро поправляться и готовиться к отъезду. Я тут уехала в Москву – с своей стороны готовиться.
Лицейский товарищ сообщил другому женатому их товарищу, одному князю, имевшему имение близь Николаевской железной дороги, и они вместе придумали, чтобы избавить больного от всяких хлопот, и волнений, все предварительно устроить – князь при родных Пущина пригласит его к себе по перепутью, так что родные не были удивлены, что он тут поедет и прогостит там день– другой. Мне дали знать в Москву телеграммой – я приехала вечером на означенную станцию, где ожидал меня экипаж князя, который даже от жены своей скрыл нашу тайну.
Я помню эту ночь, с каким чувством – само предание – мчалась я по неизвестной дороге в неизвестное место на неизвестную мне судьбу к полуживому или полумертвому жениху моему, но с решимостью принять от руки Господней все, что благородно...»
Пущин и Наталья Дмитриевна обвенчались 22 мая 1857 года в имении Высокое бывшего лицеиста Д. А. Эристова. Вскоре супруги уехали в Москву, а затем в Марьино. Вся декабристская семья с радостью встретила известие о браке Пущина с Натальей Дмитриевной. Г. С. Батеньков откликнулся немедленно: «С моей стороны не ждите анализа: я просто рад».
Оболенский писал Пущину, узнав о его женитьбе: «Часто думаем о тебе... и о полноте того земного счастья, которое должно прийти на твою долю от твоего союза с Натальей Дмитриевной».
Самый старый декабрист В. И. Штейнгель отечески благословлял друзей: «Да благословит вас сам господь бог постоянным неиссякаемым источником взаимной любви и дружбы – до конца. У меня вертится крепко мысль побывать в Москве и у вас в Марьине; хочется поцаловать ручку вашей супруги, потому что на том свете уж, вероятно, не цалуют».
Отныне Марьино стало вдвойне притягательно для всего декабристского круга. Воспитанница декабриста М. И. Муравьева-Апостола пишет о своем посещении Марьина: «Наконец, мы в Марьине... Нам здесь так удобно и спокойно, без всякого этикета, совершенно как дома. Иначе и не может быть у доброй Натальи Дмитриевны».
Сообщая о кончине отца, сын Якушкина написал Наталье Дмитриевне, что отец «почти до последнего дня говорил еще о приезде в Марьино».
Обвенчавшись, Пущины прожили два года в Марьине. Эти два года, вопреки приговору врача, Наталья Дмитриевна, в сущности, подарила Пущину. Только благодаря этому он смог написать в Марьине свои воспоминания о Пушкине. Пущин и Наталья Дмитриевна отправляют к Герцену в вольную русскую печать воспоминания Михайла Александровича Фонвизина, которые вскоре были там напечатаны.
Однако смерть уже ходила рядом.
Пущин умер 3 апреля 1859 года и похоронен в Бронницах у собора, рядом с могилой М. Л. Фонвизина. Наталья Дмитриевна скончалась в Москве десять лет спустя, 10 октября 1869 года, и погребена была в Покровском монастыре рядом с родителями. Могила ее не сохранилась.
«Все, что сказано о женах, последовавших в Сибирь за своими мужьями, о трудах и огорчениях, перенесенными ими без ропота, о бодрости духа и беспредельной преданности чувству супружеского и материнского долга, о сочувствии их ко всякому страданию, о живом участии, принимаемом в судьбе Петровских и Читинских узников, о всех делах благотворения, ознаменовавших их пребывание в Сибири, все это... с чувством признательности к ним подтвердится всеми, кто их видел и знал в изгнании»[228]228
Свистунов П. Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и декабристах.– «Русский архив», 1870, № 8-9, с. 1654.
[Закрыть].
Герцен писал: «Что это было за удивительное поколение, из которого вышли Пестели, Якушкины, Фонвизины, Муравьевы, Пущины и пр.». К этому же поколению не по одной хронологии, но по складу души принадлежала и Наталья Дмитриевна Фонвизина-Пущина.
Когда Достоевский в своей знаменитой речи на открытии памятника Пушкина в Москве в 1880 году говорил о величии Татьяны Лариной как типе положительной красоты, апофеозе русской женщины, возможно, он вспоминал и о Фонвизиной, всем пожертвовавшей ради нравственного долга – самого свободного долга, какой есть.







