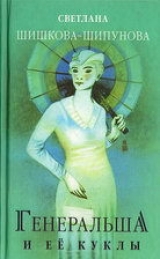
Текст книги "Генеральша и её куклы"
Автор книги: Светлана Шишкова-Шипунова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Наконец–то
Я новую книгу купил.
Читал, читал
Далеко за полночь…
Эту радость трудно забыть!
У нас даже возникла маленькая домашняя игра: Гоша, который по утрам уходил раньше меня, раскрывал чёрную книжечку на какой‑то странице и оставлял на видном месте. Я просыпалась и читала:
Как трещина
На белом абажуре,
Неизгладима
Память
О разлуке.
В свою очередь, я находила другое пятистишие и тоже оставляла раскрытой страничку. Он возвращался первым и читал моё ответное «послание».
Во времена Такубоку мы были почти счастливы.
Беременной я почувствовала себя после поездки на выходные в Домбай. Начальная стадия этого процесса уже была мне печально знакома, теперь предстояло узнать, как всё бывает дальше. Оказалось, что это самое замечательное из всех состояний женщины. Единственное, в котором тебя перестают занимать вопросы: кто ты, зачем живёшь, для чего, в чём смысл твоей жизни… То, что происходит внутри тебя, к чему ты постоянно прислушиваешься и на чём вся теперь сосредоточена, – это и есть ответ на все вопросы, объяснение и оправдание твоего существования. Никогда я не ощущала себя до такой степени женщиной (впервые не испытывая при этом ни раздражения, ни досады), как при вынашивании ребёнка. Вот когда природа взяла своё!
В эти девять месяцев мы с Гошей стали окончательно родными. Он только что на руках меня не носил, страшно гордился моей беременностью, мечтал о сыне, сам все делал по дому, каждый день спрашивал: «Ну, чего тебе сегодня хочется?». Мне хотелось то пива, то арбуза, то яблочного пюре «Неженка», и, возвращаясь вечером с работы, он нёс мне в авоське все сразу, на случай, если желание моё успело с утра до вечера перемениться. В дни своей беременности я любила Гошу тихой, благодарной любовью.
…Всю последнюю перед родами неделю, сидя на нашем балконе, я читала книжку из серии «Библиотека приключений» (помнится, книголюбы называли эту серию «рамочка»). Это был «Ларец Марии Медичи» Еремея Парнова. Почему я читала именно её – сказать не могу, может, больше в доме на тот момент нечего было читать. В одно прекрасное утро начались схватки, но я не была уверена, что это они, и решила подождать, убедиться. Осталась лежать в постели, взяла книжку и стала читать. Гоша сидел рядом с часами в руках и отслеживал периодичность схваток. Когда стало ясно, что они наступают через одинаковые промежутки времени, он сказал:
– Все, поднимайся потихоньку, и едем в роддом.
Мы были одни в квартире, его родители, жившие в соседнем подъезде, ещё с вечера укатили на дачу, телефона там не было, и он опасался, что не успеет меня довезти. Я же продолжала лежать и сказала, что пока не дочитаю, никуда не поеду. Оставалось с полсотни страниц. Гоша кружил по комнате, не зная, что со мной делать, и только спрашивал:
– Ты ещё можешь терпеть?
Я отвечала, не отрываясь от книги:
– Могу.
К 12 часам дня я с сожалением перевернула последнюю страницу и сказала:
– Ну, поехали.
Вечером того же дня, в 20 часов 20 минут благополучно родился на свет наш сын.
Родиться труднее, чем родить. У бедного маленького человечка лопнули сосудики в глазках и образовалась на макушке небольшая гематомка – так тяжело ему пришлось. А ты – большая, ты взрослая, ты способна осознавать происходящее и в меру сил управлять собой, вокруг тебя врачи и акушерки, а он один в кромешной тьме, беспомощный, ещё неразумный… И надо думать не о себе, а о нём, думать, что это ты не себя освобождаешь от утомительного бремени, а его вызволяешь, помогаешь ему выйти на свет божий.
Он родился, но я не услышала его голоса и испугалась.
– Скажите, пожалуйства, а мой мальчик плачет? Громко? Ну, слава Богу…
Вот нас и трое. Гоша сам купает маленького, сам обрабатывает зелёнкой пупочек, ездит в аптеку за укропной водичкой, встаёт к нему ночью, достаёт из кроватки и подкладывает к моей груди. С первого дня он его фотографирует и развешивает увеличенные портреты на стенах. Мы без конца смотрим на эти портреты и любуемся: какой у нас красивый мальчик!
Если бы мне сказали тогда, что это счастье продлится от силы два года и что вслед за ним потянется череда долгих и тяжких лет, я бы… А что бы я могла сделать, что изменить? Расстаться с Гошей? Нет, это было уже невозможно, уже всеми клеточками души я была прочно привязана к нему, уже он был родной и близкий, и у меня никогда не достало бы сил оставить его на произвол судьбы. Такой судьбы.
Сколько раз я пыталась начать писать об этом и всякий раз уклонялась, находила причину: я ещё не готова… вот именно сейчас я не могу… лучше я пока напишу о том, что было «до» и «после», а об этом – потом, позже… Боюсь ли я прикоснуться к этой теме спустя столько лет? Опасаюсь ли сделать больно людям, которые сегодня рядом со мной? Да нет, они эту историю знают, кажется, не хуже меня. К чему же тогда эти уловки, отчего такое смятение, такой страх, будто добегаешь до какого‑то препятствия, а перемахнуть через него не можешь и в который раз трусливо пятишься назад или вовсе увиливаешь в сторону.
Что лукавить, прекрасно я знаю ответ на этот вопрос, и он таков: написать – значит заново пережить, а вот этого я как раз и не в силах. Так уже бывало со мной. Когда боль, причиняемая каким‑нибудь особенно тяжёлым воспоминанием, становилась нестерпимой, мозг сам переключался на иную тему, мысль отвлекалась, ускользала, прыгала, путалась, прерывалась и, в конце концов, уносилась далеко–далеко, и наступало облегчение. Я усвоила этот приём, и не раз сама, чуть подступало то, страшное, гнала его от себя и начинала думать о том–о сём, о чём попало, лишь бы отвлечься.
Вообще‑то я немного, самую малость, мазохистка, и в детстве, поранив, например, палец, нарочно его трогала и ковыряла, чтобы проверить: болит – не болит. Но, видимо, есть такой порог боли, за который даже мазохистке вроде меня переступить трудно.
Что ж, нельзя ли в таком случае вообще обойти эту «больную» тему, пропустить, оставить за пределами повествования? Не хочешь писать – не пиши, кто тебя заставляет! Но… Тут‑то и происходит раздвоение личности. С одной стороны возникает «персонаж», с другой – «автор». Персонаж сопротивляется, скулит: пожалей меня, не рви мне душу! А автор наседает: надо, вот так (показывает на горло) надо, без этой сюжетной линии – никуда. Это ж, можно сказать, самый драматический, а значит, ключевой и переломный момент всей твоей жизни. Так что возьми себя в руки и – пиши. Всё равно, пока не напишешь об этом – не избавишься от наваждения и душу не облегчишь.
Какой же он провокатор, этот сидящий во мне «автор», ничто ему не свято!
Но так и быть, я расскажу эту историю, исключительно ради тебя, моя девочка. В конце ты поймёшь, почему.
…Нашему сыну было два года, когда у Гоши случился первый приступ неизвестно какой болезни. Потеря сознания, судороги, скорая помощь, больница, отделение нейрохирургии, капельница, он уже пришёл в себя, но ничего не помнит и понять, что с ним было, не может. На первый раз сочли за случайность. Но вот ещё приступ, и ещё. Это уже серьёзно, надо обследоваться. Одни врачи говорят одно, другие – другое. Воспаление мозга, менингит, эпилепсия… Все не то. Надо ехать в Москву, на худой конец, в Ленинград. Надо найти кого‑то, каких‑то друзей, знакомых, которые могли бы помочь, устроить. Сначала Бехтеревка, высокие своды, белые стены, жуткая процедура под названием ангиопневмография – закачивание кислорода под черепную коробку, в сосуды мозга. Адская боль. И безрезультатно. Потом институт Бурденко, там, говорят, есть единственный в Москве томограф, но попасть очень трудно, надо ждать очереди. Мы ждём. Приступы тем временем становятся почти ежедневными, уже нельзя работать. Постоянный, три раза в день, приём противосудорожных таблеток, фенобарбитал и что‑то ещё. Наконец, можно ехать в Бурденко. Томограф. Странные картинки мозга в разрезе. Молодой хирург по имени Игорь Александрович, родной племянник кинорежиссёра Ростоцкого, выходит и говорит:
– У вашего мужа опухоль мозга. Похоже, что злокачественная, но это станет ясно только после операции.
Значит, операция. А Гоша не хочет. Он знает все, иначе невозможно, но он должен все взвесить, подумать. Он видел страшных людей с раскроенными черепами в палатах этого института, они умирают после операции, он хочет знать, какой шанс выжить лично у него. Он спокоен, рассудителен, они почти ровесники с этим Игорем, хирургом, он разговаривает с ним один на один, без меня. Можно ли ещё какое‑то время жить с этим, сколько времени это терпит? Но ведь мы уже три года ездим по разным клиникам, а ему все хуже и хуже, зачем же ещё терпеть, ждать? Но не могу же я решать за него. Эти три года не прошли для нас даром. Мы теперь как одно целое, как один человеческий организм, я научилась предчувствовать наступление приступа по какому‑то едва уловимому изменению его дыхания, выражению глаз, я всегда начеку и рядом. Моя задача – не дать ему упасть, удержать, усадить или уложить, переждать, держа его за руку, дать воды… А если все‑таки дойдёт до судорог, немедленно вызывать «скорую», а если они долго не едут, я тоже знаю, что делать, у меня наготове магнезия, и ещё, самое главное, не дать ему сомкнуть, сцепить зубы, для этого у меня есть деревянная ложка… Вот так мы теперь живём.
Но бывают и длительные периоды спокойствия, и тогда он такой же, как всегда (только похудел и побледнел немного), мы ходим, гуляем с ребёнком, которого он обожает, бываем даже в гостях, и к нам ещё заходят по старой памяти гости, со стороны поглядеть – все у нас нормально, кто не знает, ни за что не догадается, мы особо и не рассказываем, знают только родные и самые близкие друзья. Гоша необыкновенно сильный человек. Он не только не жалуется, он вообще не хочет говорить о своей болезни, он ведёт себя так, будто ничего не происходит с ним, не позволяет никому себя жалеть, сочувствовать. Он намерен победить эту проклятую, неизвестно откуда вязвшуюся болезнь, только надо понять, как. Операция? Или есть ещё какие‑то способы? О, мы, кажется, все перепробовали. Мы были у одного врача–экстрасенса, о котором много писали в те годы, но показавшегося лично мне шарлатаном, а Гоше так хотелось ему верить! Мы были в деревне у какого‑то деда, снабдившего нас отваром из трав, лично им собранных и приготовленных. Всё было напрасно. И наступил момент, когда вопрос об операции уже нельзя было обсуждать, Гоша с трудом мог вставать и страдал от диких головных болей.
Я не помню ни одной своей мысли за те четыре часа, которые я провела в компании со своим деверем, братом Гоши в вестибюле института Бурденко в ожидании, когда окончится операция. Помню только, что я ходила и сидела, сидела и ходила, и бегала периодически в туалет.
Игорь Александрович оказался хорошим нейрохирургом. Но опухоль оказалась злокачественной.
– Что мог – удалил, но все удалить невозможно, у него опухоль не снаружи, а внутри мозга…
И что это значит? А это значит, что через какое‑то время возможен рецидив.
Палата, четыре койки, на каждой забинтованный кокан головы, какой же из них мой? Вот он. Щёлочки глаз, сине–черно все вокруг них. Послеоперационный отёк. Ничего, ничего, главное, ты жив, теперь всё будет хорошо. Бульон из ложечки. Не надо ничего говорить, нельзя. Скоро будем потихоньку вставать и учиться ходить. Руку мне на плечо, не падать, раз, два, три… завтра ещё попробуем. Вот мы уже и в коридор выходим, тридцать шагов до лестницы, там посидеть и тридцать обратно. Скоро нас отпустят домой. У него круглый шов от трепанации через всю левую половину головы, аккуратный шов, с дырочками от сверления по бокам. Какой он смешной, наголо остриженный, уши большие, шея тонкая… Ничего, ничего, волосы отрастут, главное – ты жив!
Вот мы и дома. Никто не верит, приходят на него посмотреть, он смеётся, разговаривает, рассказывает об операции так легко, отстранённо, будто это не с ним было. Ещё месяц–полтора, и пойдёт на работу.
– Может, не надо?
– А кто семью будет кормить?
Кормилец нашелся…
Доктор сказал, что лет через пять, скорее всего, понадобится повторная операция, но мы пока об этом не думаем. Пять лет впереди! Это ж целая жизнь!
Да, жизнь, но какая… Сначала всё идёт хорошо, Гоша даже работает, в банке его ценят как толкового работника, но и сочувствуют, стараются не перегружать. Раз в полгода мы ездим в Бурденко, проверяемся. Пока все нормально. Приступы бывают, но редко, совсем небольшие, называются на французский лад «птималь» (маленький), вдруг снова один за другим сотрясают его большие, судорожные припадки. Опять Москва, опять томограф, и Игорь, ставший нам почти родным, качает головой: растет… Дальше – инвалидность, пенсия в 29 рублей, он дома, я – на работе, целыми днями, иногда и ночами, ребёнок – в саду или у бабушки, я боюсь его с ним оставлять, мало ли что… Он злится, нервничает, раздражается, иногда становится невыносимым. Но надо терпеть, ему в любом случае хуже, чем мне. А главное, безумно жалко его, за что ему это, вот за что? Он по–прежнему не терпит разговоров о своей болезни, ни с кем, кроме меня и врача эту тему не обсуждает. Пришёл вызов из Бурденко на повторную операцию, он его даже мне не показал, порвал и выбросил.
– Ничего я больше делать не буду.
Почему‑то был уверен, что второй операции не перенесёт.
…Последний год был особенно тяжёлым, я очень уставала на работе и дома, появились головные боли, не хватает только мне самой свалиться, отпуск взяла в середине октября и затеяла дома ремонт, стала обои переклеивать, окна красить (мы жили к тому времени в собственной двухкомнатной квартире на девятом этаже). Гоша наблюдал с дивана за моими потугами и ругался:
– Ты не так клеишь, косо, а я даже помочь тебе не могу, брось, не клей!
Я все же доклеила, и у меня ещё оставалась неделя от отпуска, к тому же, надвигались ноябрьские праздники, и мне вдруг захотелось уехать хоть на несколько дней к морю, отдохнуть от всего, от всех, и от Гоши тоже. Он не возражал, даже поехал провожать меня в аэропорт, так хорошо себя в тот день чувствовал. Уже прощаясь, спросил:
– А ты не думала о том, чтобы нам вместе поехать?
Стало стыдно, что я бросаю его, но… все уже решено – билеты, гостиница, и мне надо, надо хотя бы три–четыре дня побыть одной, иначе я сойду с ума. Ребёнка отвезла к бабушке (Гошиной маме), ей же наказала позванивать ему постоянно и по возможности заехать, посмотреть, как он.
Я провела у моря, в гостинице города С., всего три дня. Гуляла, дышала, старалась ни о чём не думать. Ночью, с 7–го на 8–е, проснулась сама не знаю, от чего, за окном было темно, включила ночник, посмотрела на часы, ровно 4 утра. Спать не хотелось, и было как‑то не по себе. На тумбочке у меня лежала захваченная с собой книга «Мёртвые души», но не поэма Гоголя, а её критический разбор каким‑то литературоведом. Я стала её читать, потом подумала: что я тут делаю вообще? Ночь, «Мёртвые души», гостиница, чужой город…
Утром первым делом побежала в редакцию местной газеты, где были у меня друзья, чтобы позвонить домой. Дома не отвечали. Был праздник, 8 ноября. Я подумала, что Гоша мог с утра пораньше поехать поздравить родителей и проведать ребёнка. Но и у родителей его не было. Я стала обзванивать всех, кого могла, у кого были телефоны и к кому он мог пойти. Нигде его не было, ни к кому он не приходил и никому не звонил. Наконец, отозвалась (проснулась!) соседка по лестничной клетке, сказала, что вчерашний вечер Гоша провёл у них, выпили, посидели и где‑то в час ночи он пошёл к себе.
– Оля! – сказала я, чувствуя, что сердце у меня останавливается. – Иди посмотри, ключ торчит изнутри или нет?
Она пошла. Я ждала у телефона.
– Ключ изнутри, – сказала Оля. – Я звонила и стучала, там тихо.
Приехали родители и брат, взломали дверь. Гоша лежал на спине, простыни под ним были смяты и перекручены, видимо, был сильный приступ, который он пытался перебороть, но не смог. Врач сказал, что всё случилось часа в 4 утра. Когда я примчалась, отмахав на редакционной машине 300 километров, была уже ночь, его увезли. Я увидела его только на третий день к вечеру, когда одетого в серый костюм и галстук в красную крапочку его привезли для прощания домой. Глаза его были открыты, и мне пришлось самой их закрыть, придавив двумя монетами. Лицо его было спокойным и красивым, как никогда.
В те, самые тяжёлые мои дни, когда казалось, что отчаянью не будет ни конца, ни края, я пыталась утолить боль перечитыванием давно знакомых стихов, но ничего не получалось. Вспомнив, к примеру, кочетковское «С любимыми не расставайтесь!», я прорыдала весь вечер, и долго потом, как колеса поезда, стучали в моём мозгу строчки –
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг…
Как могла я уехать и оставить его одного, я, столько раз за эти годы спасавшая его от самого страшного, как могла я в день и час его смерти, быть так далеко от него? Мне говорили: это всё равно случилось бы, рано или поздно. Ещё говорили: он не хотел, чтобы ты видела его смерть, он избавил тебя от этого зрелища. Все же я никогда не могла простить себе, что оставила его одного. Вот уже много лет каждую ночь я просыпаюсь ровно в 4 утра. Иногда я встаю, хожу по дому, потом снова ложусь и засыпаю, иногда просто лежу без сна и думаю о разном, обо всём.
Мы прожили с Гошей одиннадцать лет, восемь из них он болел.
Ему было всего 36, когда он умер.
Тем не менее, это – твой дедушка, и я хочу, чтобы ты о нём знала.
8
Шёл второй день поисков Мирославы, но ничего существенного узнать не удавалось. По–прежнему неясно было, с кем и куда она уехала, почему не звонит и не возвращается. Мифическая блондинка Инна все ещё не появилась на улице Мимоз, хотя там, можно сказать, глаз не смыкали, карауля подозрительную соседку. Сотовый телефон в Москве, по которому Мирослава звонила кому‑то в субботу утром, по–прежнему не отвечал, а поскольку В. В. заявления в милицию так и не подал, то и официального запроса нельзя было сделать. Правда, Лёня по своим каналам попросил московских коллег, таких же, как он, частных сыщиков, «пробить» этот номер, но ответа от них пока не получил. Ни в аэропорту, ни на вокзале билет на её имя не приобретался, значит, все это время она или оставалась где‑то здесь, в черте города, или выехала из него на машине в неизвестном направлении, что проверить не представлялось возможным.
Особенно нагнетали обстановку примчавшиеся на подмогу В. В. сестры Мируси. Так, они припомнили известный случай, бывший пару лет назад в их родном городе К. Тогда похищенного (это был сын одного известного в городе руководителя) пять дней держали в каком‑то гараже, а потом вывезли в кузове грузовика, заложив матрасами, и никто на выезде из города этот грузовик не остановил и груз не проверил. То было, как вскоре выяснилось, дело рук чеченцев, бедный парень провёл у них в плену целых 11 месяцев, потому что родные никак не могли собрать затребованную сумму – 5 миллионов долларов, но половину все же собрали, и только после этого сына вернули, но что все они и, главное, этот мальчик пережили – страшно подумать.
Мало того, что сестры беспрерывно рыдали и рассказывали подобные «страшилки», они ещё терзали В. В. одним и тем же вопросом: когда он заявит, наконец, в милицию, и грозили, что, если он этого не сделает, они пойдут и заявят сами.
– А вы знаете, – терпеливо разъяснял В. В. – почему тот грузовик с матрасами не остановили на выезде из города? Не знаете? Так я вам скажу. Его сопровождала машина ГАИ! С мигалкой! И это при том, что в городе действовал в те дни план «Перехват». Вам все понятно?
Сестры принимались рыдать пуще прежнего, повторяя:
– Что же нам тогда делать?
Зато они подсказали одну умную вещь. Никакой сестры по имени Галя или Валя у них, конечно, нет, но…
– Когда, ты говоришь, Тамара видела их в кафе? В августе? А в августе Аля у вас гостила, Васина жена!
– Точно?
В. В. часто и сам не знал, что делается в доме в его отсутствие, кто тут живёт, отдыхает, гостит и т. д. Между тем, Аля была как раз его родственница, жена родного брата Васи, умершего полгода назад от инфаркта. В последнее время они с братом виделись редко, исключительно по причине вечной занятости Владимира Васильевича, соответственно и жены их мало общались друг с другом. Всё изменилось, когда брат неожиданно для всех, ровно за неделю до своего пятидесятилетия умер. Мируся очень горевала и резко сблизилась с Алей, стала всячески её опекать и поддерживать, даже называла иногда «сестрой», а в начале августа пригласила в дом, чтобы та могла отдохнуть и прийти в себя после всего случившегося.
Да, да, теперь он что‑то такое припоминает, Мируся действительно говорила ему об этом, спрашивала: как ты думаешь, у нас ей будет лучше или хуже? С одной стороны, здесь ничего не напоминает о бедном Васе, а с другой – не слишком ли здесь хорошо, не будет ли это болезненным контрастом для нее… Делай, как сама считаешь нужным, сказал он тогда жене, ты же у меня умница.
Вспомнив всё это, В. В. немедленно позвонил вдовой невестке. Та обрадовалась его звонку, стала говорить, что она уже ничего, приходит понемногу в себя, и что памятник Васе уже делают, спасибо, что похлопотал, вроде красиво получается, только вот портрет не очень похож… В. В. слушал, прикрыв глаза и ожидая, когда она закончит, чтобы вклиниться со своим вопросом. Помнит ли она вот что. В августе они с Мирусей были однажды в кафе на Приморском бульваре, и с ними была ещё одна женщина, Инна… Так вот помнит ли она эту Инну?
– Конечно, помню, – без промедления ответила Аля. – А почему ты спрашиваешь?
Он объяснил, что вот понадобилось срочно найти эту женщину, а никаких её координат нет ни у кого.
– Как ни у кого? А у Миры?
Тут он придумал на ходу, будто самой Миры нет сейчас дома, и нет возможности у неё спросить…
– А где она? – недоверчиво спросила Аля, словно почуяла что‑то.
В отъезде. Далеко. Там нет связи. В общем… дело не в этом, а в том, знает ли Аля, кто такая эта Инна и где её можно найти.
– Конечно, знаю, – так же уверенно отвечала Аля. – Это психотерапевт. Мира специально нас познакомила, чтобы она со мной немного позанималась, ну… ты понимаешь…
– Психотерапевт?! – вскричал В. В. и вслед за ним обе сестры повторили эхом:
– Психотерапевт!
– Я правда, отказывалась, говорю: зачем, не надо, ты сама лучше всякого психотерапевта на меня действуешь, но она настояла, чтобы я к ней походила хотя бы недельку.
– Так, хорошо. Куда ты к ней ходила, где она принимает? В какой‑то больнице?
– Нет, дома.
– Адрес знаешь?
Адреса Аля не знала, потому что Мира сама её туда отвозила и забирала, но это где‑то в центре.
– На улице Мимоз?
Может, и Мимоз. Аля совсем не знала города, но дом, в который привозила её Мира, запомнила хорошо: старый, трёхэтажный, расположенный в глубине двора.
– Может, мне приехать? – Аля была очень расстроена тем, что не помогла.
В. В. подумал, что только Али ему здесь не хватает, чтоб уж полный комплект баб, и выли тут с утра до вечера.
– Я тебе перезвоню, – пообещал он.
Сестры стали сокрушаться, что не знали всего этого раньше, а то захватили бы Алю с собой, когда ехали. И что же теперь делать?
– Ничего страшного, – все ещё терпеливо объяснял В. В. – Если надо, поездом приедет. Другое дело – надо ли ей приезжать? Ну, сколько в городе может быть психотерапевтов? Раз, два – и обчёлся.
Тут же набрал он номер Лёни Захарова и, коротко объяснив задачу, подстегнул:
– Только быстро!
Сведения, доставленные Лёней через час, были неутешительными: в медицинских учреждениях города психотерапевтов значилось всего четверо, один мужчина и три женщины. Инны среди них не было.
– А частно практикующих проверил?
– А как же. Там только стоматологи и массажисты.
– Ой, мамочка, ну, что же нам делать? – запричитали сестры.
– Девушки! – строго сказал В. В. – Вы допроситесь, что я посажу вас в машину и отправлю домой. Вы для чего вообще приехали? На мозги мне капать? Не надо! От вас толку никакого, лучше бы суп сварили, пожрать нечего в доме.
«Девушки» испуганно переглянулись.
– Мы думали, ты не хочешь.
– Ну, да, я святым духом питаюсь. И Захар, который целый день мотается, тоже. Ну‑ка, марш к плите!
Недовольно переглядываясь, сестры поплелись на кухню.
– Что делать… что делать… – повторил Лёня. – Ждать, пока эта чёртова Инна появится на улице Мимоз. Если это вообще она.
– А наверняка знает её, кроме Руси, только Аля, – высунувшись из полукруглого окна, соединявшего кухню с гостиной, вставила Мила. – Может, пусть она все‑таки приедет?
В. В., хоть и с неохотой, должен был с ней согласиться.
…Поезд уже прошёл цепочку горных тоннелей и теперь повернул к морю. Аля знала эту дорогу наизусть, много раз проезжала по ней с Васей, и какой же весёлой бывала с ним дорога! Сидя напротив друг друга в купе спального вагона они то болтали, то принимались разгадывать вслух кроссворды, купленные на вокзале, то пили чай с печеньем, поглядывая в окно на пустые ранним утром пляжи. Как хорошо, как уютно было ехать, зная, что там, впереди ждут несколько дней прекрасного нечегонеделанья, когда можно спать до обеда, обедать почти под вечер и гулять до половины ночи. Неужели все это было? Неужели ничего этого уже не будет никогда? Как тоскливо и даже страшно ехать в том же ночном поезде одной, прислушиваясь к стукам и голосам из коридора, из соседнего купе, из тамбура. Она не смогла уснуть всю ночь, просто лежала с закрытыми глазами, переваривая в тысячный раз все одно и то же, одно и то же…
Чуть посветлело, села и, отодвинув занавеску, стала смотреть в окно. Холодный блеск моря не успокоил, а наоборот растревожил её. Что‑то все‑таки случилось у них, думала Аля, и скорее всего – с Мирой. Как‑то странно это прозвучало: «уехала, далеко, нет связи…», что‑то тут не так. Может, она заболела? Ведь не зря же врача ищут. Но почему психотерапевта? И неужели все так плохо, что сама она даже адрес назвать не может? Ах, Мира, Мирочка, сестра моя по несчастью…
…Плачь, Аля, плачь. Когда плачешь, легче. Ничего другого нам не остаётся, как плакать и вспоминать, вспоминать и плакать. Никто уже не поможет, нечем помочь. Слова сочувствия, венки, цветы, деньги, что собрали друзья, – никто, ничто не поможет. Но если бы и этого не было, было бы совсем худо, будто такой никчёмный человек умер, что никому и дела нет до его смерти. А тут, видела, сколько людей пришло, сколько нанесли цветов и венков, как все смотрели на тебя и на него, на него и на тебя… Чужие похороны – это всегда любопытно: каков покойник в гробу – лежит, как живой, или, наоборот, сильно изменился, не узнать; а что вдова – заплаканная или не очень, и плачет ли у гроба, или сидит, как каменная. А вот эта старушка, это что же, мать покойного? Надо же. Хуже нет – хоронить своих детей, не дай Бог никому. А где же брат, брат у него большой начальник, потому и людей столько поприходило, это живому хотят засвидетельствовать, а не тому, что в гробу, тому уже всё равно. Или не всё равно? Витает его душа над всем этим действом, или неправда всё это? Витает, витает, все видит, кто пришёл, кто не пришёл. Бедный Вася! А дети, дети же у него были от прежних браков, где они? Ах, вот эти… Девочка похожа, а мальчик как‑то не очень… А тогда и жены где‑то здесь, где, где? Вот эта–а? У, ну, эту сразу видно, что стерва. Это первая или вторая? А первая здесь? Полная такая, в коричневом? Сколько же ей лет? Нет, самая лучшая, конечно, та, что у гроба сидит.
Не смотри, Аля, на них, не обращай внимания, нет, они не подойдут, им сказали, что не надо. Не думай о них, перед Богом ты одна настоящая жена, с тобой одной он венчался. Ой, дайте скорее нашатыря!
…Одно из типичных заблуждений: будто не надо говорить со вдовой о её умершем муже, будто бы ей это больно и тяжело. Совсем это не так. Она только и хочет, что говорить о нём, говорить с кем угодно, только бы о нём – рассказывать, припоминать и повторять, повторять одно и то же – как это случилось, что он умер, где был он, а где она, и как это началось, и что врачи, успели – не успели, и как она поняла и закричала, и побежала… Слушайте вдов, будьте к ним милосердны, пусть говорят и выговорятся до конца, но конец нескоро, и через год, и через десять лет – стоит только заговорить, напомнить – и все сначала: где был он, где была она, как началось, как она закричала, догадавшись, как побежала, сама не зная, куда…
А ещё сны. Вдовам ведь снятся их ушедшие мужья. Кому сразу, кому – потом, а кому – время от времени, даже бывает, в какие‑то определённые дни, но – всю оставшуюся жизнь. А знаешь, Аля, что надо делать, если он приснится? Первым делом помянуть. Лучше всего, конечно, на могилку съездить, оставить там что‑нибудь – пирожочек или хоть печеньице, людям там раздать мелочь, если кто подойдёт, там всегда подходят, они же знают, кто свежепохороненный, ждут, что придут родные поминать и им дадут. Всегда давай, хоть мелочь, но дай, а то, если прогонишь, могут что‑нибудь на могилке сделать, цветы заберут или венки раскидают. Во–вторых, если приснился, надо обязательно дома помянуть с кем‑нибудь из родных или с друзьями, соседям тоже пирожочков отнести, сказать: помяните Васю моего. Это обязательно. Когда снится, это он просит, чтобы его помянули.
Мне мой Юрик первое время часто снился. Я эти сны до сих пор помню, хотя уже сколько прошло… да, 17 лет. Был такой сон, будто прихожу я к нему на кладбище, а он там сидит возле своей могилки и меня ждёт. Я подсела к нему и чувствую, что он холодный–холодный, и такой запах от него – нет, не трупный, а сырой земли, глубокой сырой земли, понимаешь? И я ему говорю: бедный мой, как ты там замёрз, давай я тебя согрею, и хочу его обнять, а он говорит: не надо, просто посидим рядом, и ты иди, а я останусь. И так мне его жалко во сне было, проснулась и плачу, почему я здесь, в тёплой постели, а он – там, в холодной сырой земле?
Сравнивать, конечно, ничего нельзя, у каждого человека своё горе самое большое, но все же. Твой неожиданно умер, не болел, ничего, что называется – скоропостижно, раз – и все. А мой же сколько лет проболел, сколько мы с ним по этим клиникам проездили, пока диагноз ему поставили, потом операция какая тяжёлая, как он только её выдержал, потом эти пять лет после операции, это уже не жизнь была, а так, существование… То есть я хочу сказать, что и я, и родители его, мы были готовы к тому, что рано или поздно… А всё равно, как это было страшно. Но я, честно говоря, даже не знаю, что страшнее – так или так? Вы хотя бы с ним пожили спокойно, не висело над вами, что вот умрёт, вот умрёт. А он взял и умер, на ровном месте, тоже не приведи Господь. И сколько их, молодых мужиков вот так мрёт, просто ужас. А почему? Не знаю. Что‑то тут не так, неправильно.






