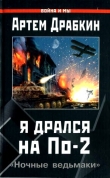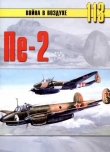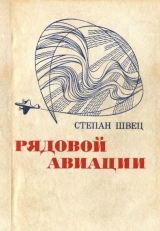
Текст книги "Рядовой авиации (Документальная повесть)"
Автор книги: Степан Швец
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Доверие
Старшее поколение помнит, какую сенсацию произвела высадка четверки исследователей на дрейфующую льдину на Северном полюсе во главе с Иваном Дмитриевичем Папаниным. Это была первая в мире научно-исследовательская станция на льдине СП-1. Высадка произведена 21 мая 1937 года.
Вся страна с неослабным вниманием следила за передвижением льдин, за благополучием четверки смелых. Разворачивая свежие газеты, первым делом осведомлялись: как там наши папанинцы?
Но вот льдину вынесло в Гренландское море. Стали поступать тревожные сигналы. Льдину зажало. Разрабатывались всевозможные варианты спасения папанинцев. Включился в эту деятельность и Борисенко.
На пути из Центральной Арктики в Мурманск следовал ледокол «Ермак». На нем самолет Ш-2 с летчиком Бабушкиным. Четверку можно спасти с помощью этого самолета, но льдина для взлета и посадки была мала, а вокруг торосы.
Борисенко организовал группу летчиков-энтузиастов и начал тренироваться на самолете Ш-2 короткому разбегу и взлету. Он придумывал всевозможные варианты и достиг таких результатов, что с помощью амортизаторов на загруженной машине взмывал в воздух с разбега всего в 37 метров. Это большое достижение. Получилось что-то вроде катапульты. Здесь пригодился планерный спорт, которым Борисенко увлекался, будучи курсантом. Рекомендации по этому способу взлета радировали на ледокол летчику Бабушкину.
Но воспользоваться этим не пришлось. Льдина все более раскалывалась, уменьшалась. Преодолевая неимоверные трудности, ледокол «Ермак», а затем и ледокол «Таймыр» достигли льдины, и 19 февраля 1938 года удалось эвакуировать людей и имущество станции. Папанинцы теперь находились на борту ледоколов, которые держали путь в Мурманск. Здесь их ожидали родные и близкие, представители прессы.
Обо всем этом страна узнала из скупых радиограмм, которые удавалось передать на Большую землю. А как бы узнать поподробнее, поточнее? Об этом, конечно, можно узнать из тех дневников, фотоснимков, записей, которые вели сами папанинцы. Все то, что предназначалось для печати, папанинцы по пути следования подготовили. Теперь осталось из Мурманска доставить этот ценный материал в Москву, ТАСС, газетам «Правда», «Известия». Но кого послать в полет в такую явно нелетную погоду, в нарушение всех правил и инструкций? Да и можно ли на сто процентов гарантировать успех?..
Для выполнения этого задания выбор пал на Евгения Борисенко. Пожалуй, ни одно поручение из тех, что ему приходилось выполнять раньше, не оказывало на него такого морального воздействия, как это. Доверие окрыляет, прибавляет сил! И Борисенко принялся за подготовку к полету.
В помощь ему дали хорошо подготовленного штурмана-инженера Гриценко Николая Антоновича. Гриценко был известен в ГВФ как теоретик и большой практик. Он отлично знал авиационную навигацию, изобрел и усовершенствовал многие навигационные приборы, был автором нескольких печатных трудов.
Учитывая плохую погоду на маршруте, экипаж должен был прибыть в Мурманск за четыре дня до вероятного прибытия папанинцев. Полет решено проводить на самолете Р-5 конструкции Н. Н. Поликарпова.
Расскажу об этом самолете более подробно. Это двухместный полутароплан деревянной конструкции, с открытыми – одна за другой – кабинами, с матерчатой обшивкой крыльев и оперения и фанерной обшивкой фюзеляжа, с мотором водяного охлаждения М-17 мощностью 500 лошадиных сил. Связь между членами экипажа была самая примитивная: резиновый шланг, один конец которого оканчивался раструбом, а второй крепился к шлемофону другого члена экипажа. Связь двусторонняя и не совсем надежная: за шумом мотора не всегда можно было разобрать слова, приходилось кричать, повторять.
Полет осложнялся еще и тем, что кабины были открытые. Вихревые потоки задували в кабину. Без очков летать нельзя, – глаза слезятся от воздушного потока, а очки часто запотевают и лишают четкой видимости. При незначительном обледенении переднее ветровое стекло кабины покрывается пленкой льда, и летчик может смотреть только по сторонам. Чтобы смотреть вперед, нужно высунуть голову из кабины, а встречной струей воздуха обжигает лицо, особенно в морозную погоду. Чтобы не обморозить лицо, надевали маски из беличьего меха, но они мешали в работе, и мало кто ими пользовался. Однако мы, летчики, гордились самолетом Р-5. Он был значительно лучше предыдущего разведчика Р-1. Максимальная скорость Р-5 – 230 километров в час, крейсерская – 180–200, потолок – 6400 метров. Лучшие в мире характеристики по тому времени для данного типа самолетов.
Самолет поставлен на лыжи, проверена до винтика материальная часть. Штурман прекрасный, но в такую погоду на визуальную ориентировку нечего расчитывать – вся земля покрыта снегом и облачность до земли. Лететь придется вслепую. Вся надежда на радиосредства – широковещательные радиостанции (ШВРС), приводные, радиомаяки. Поэтому тщательно изучалась радионавигационная сеть на маршруте. Изучили пункты возможных посадок, места заправки горючим. В общем, подготовка заняла много времени.
Километрах в шестнадцати от Мурманска на реке Туломе имелась небольшая гидроэлектростанция. На лед водохранилища этой ГЭС Борисенко и Гриценко произвели посадку. В тот же день они вылетели в море на разведку. Километрах в сорока пяти встретили ледокол «Ермак». Ломая сплошной ледяной панцирь, он медленно продвигался вперед.
Борисенко сделал несколько кругов над ледоколом, оттуда, им помахали шапками, как бы давая знать: все в порядке, скоро будем. И самолет улетел обратно. Времени до прибытия ледокола оставалось много, и экипаж занялся подготовкой к полету в Москву, чтобы немедленно отправиться в путь.
А погода стояла отвратительная: снегопады уступили место гололеду. Температура приближалась к нулю, туман, а это чревато обледенением самолета. Больше всего экипаж опасался обледенения самолета в пути – самое коварное для авиации явление природы. Самолет Р-5 очень чувствительно реагировал на обледенение. А антиобледенительных средств тогда еще не изобрели.
Верхняя пара крыльев с нижней соединялась посредством стоек, по три с каждой стороны, и скреплялась системой натянутых стальных расчалок. При нормальном полете расчалки вели себя спокойно. При малейшем обледенении они начинали вибрировать. И чем больше обледенение, тем больше вибрация. Самолет в это время теряет свои аэродинамические качества, становится неуклюжим, малопослушным, тяжелым. Мощности мотора не хватает, нужно форсировать мощность, а этого продолжительное время делать нельзя – перегреется мотор. Когда же вибрация расчалок достигает такой степени, что их уже не может обнаружить человеческий глаз, это уже предел всех возможностей самолета. Дальше расчалки могут не выдержать, и самолет развалится. Такие случаи бывали.
Наступил день отлета. Материалы папанинцев плюс репортажи корреспондентов ТАСС и газет «Правда» и «Известия» на руках, теперь надо вылетать, и немедленно.
Ни один руководитель полета не решился бы взять на себя ответственность выпустить самолет в воздух при такой погоде. Не было никакой гарантии на благополучный исход полета. Решение на вылет мог принимать только командир самолета. А ему выбирать не из чего. Перед ним единственная задача: невзирая на козни погоды, доставить материал в Москву.
Стартовать предстояло с водохранилища реки Туломы. А берега у нее крутые, высокие – сопки и скалы. Уходить в высоту невозможно: облачность не пробить, обледенеешь и упадешь. Нужно идти только низом. После взлета Борисенко на самой минимальной высоте повел самолет по Кольскому заливу, который перешел в каньон малоизвестной речушки Манч-Жундра.
Почти с самого начала пути самолет начал обледеневать. Медленно, но непрерывно. Сквозь козырек уже совершенно ничего не видно, и, чтобы разглядеть что-нибудь, нужно высунуть голову за борт под сильную струю встречного воздуха. Очки сильно запотевают, а здесь нужен глаз да глаз. Сопки, горы, развороты, отвороты… А что впереди, что тебя там ждет, какие еще горы, сопки тебя подстерегают?
Борисенко понимал, что на земле за ним следят. Следят товарищи, друзья, следят авиаторы, знакомые и незнакомые, следят те, кто доверил ему это ответственное задание, А у экипажа складывается такая обстановка, что уже терялась вера доберутся ли они до Апатит. Самолет покрыт льдом. Стойки дрожат, расчалки вибрируют так, что их не видно. Скорость падает. Если полет начинался на скорости 200 километров в час, то сейчас – 140, а то и того меньше, сектор газа – вперед до отказа, мотор работает на полную мощность. Правда, есть еще форсаж: сектор газа – вперед за защелку, но на этом режиме можно работать всего пять минут, больше мотор не выдержит. Винт мотора тоже обледенел, отчего ухудшилась его тяга, а порой с какой-либо лопасти винта срывается лед, нарушается весовая синхронность, появляется страшная тряска.
Самолет дрожит, как в ознобе. Дальше лететь нельзя, нужно садиться. Мысли работают, перебираются всякие варианты, возможные и невозможные. И в самый последний момент созревает новый вариант. Борисенко не успевает даже посоветоваться со штурманом – времени нет. Он плавно приближается к снежному покрову, затем опускается на него увереннее и, не убавляя мощности мотора и не опуская хвост, продолжает путь на лыжах со скоростью 70 километров в час. Это произошло, когда до аэродрома Апатиты оставалось всего 15–20 километров. Вот и аэродром.
Пока самолет очищали ото льда, экипаж изучил синоптическую карту, а она неутешительна: на маршруте по-прежнему нелетная погода. В двадцати километрах от Апатит горы высотой 1300 метров. Их предстояло преодолеть. Делали навигационные расчеты для полетов вслепую.
Но вот самолет очищен ото льда, вымыт и насухо вытерт ветошью, заправлен горючим, осмотрен. Экипаж занял свои места. У летчика уже сложился план и профиль полета.
После взлета они набрали высоту 1500 метров и взяли курс на Петрозаводск. Над горами – высота была 1700 метров. Полет проходил в относительно терпимых условиях, обледенение было незначительным. Навигация велась только по расчетам: компас, скорость, время.
В районе Кеми обледенение стало более интенсивным, началась неприятная вибрация расчалок. Чтобы не допустить критического состояния, Борисенко пошел на снижение. Место опознали: они находятся на траверзе Соловецких островов в Белом море. Места экипажу были хорошо знакомы, и, главное, они знали, что сопки здесь не превышают 200 метров. Здесь и ориентиры: железная дорога, идущая на Петрозаводск, Беломорско-Балтийский канал. Штурман перешел на радиосвязь, настроился на Петрозаводский радиомаяк, и полет продолжался.
Пройдя Петрозаводск, по расчетам установили, что до Москвы не хватит горючего, и взяли курс на Ленинград. От Петрозаводска летели уже в сплошной темноте, настроившись на маяк Лодейное Поле.
Темная ночь. Но в ориентировке здорово помогает высоковольтная линия, на фоне темного леса белой полосой выделяется просека.
До Ленинграда остается 220 километров. Скорость полета – 180 километров в час. Цель близка. Чуть более часа – и они будут в Ленинграде. А там до Москвы – дорога исхожена, да и погода, может, улучшится. Уверенность в достижении цели прибавила сил. Стало веселее, и усталость будто прошла. А за плечами – свыше восьми часов полета. Да каких часов!
Обледенение прекратилось, наледь постепенно сходит. Но облака прижимают самолет к земле. Уже высота нижней кромки 100 метров. В облачность залезать нельзя, снова начнется обледенение. Чуть ли не цепляясь за телеграфные столбы, доползли до Ленинграда. Штурман по радио сообщил в Управление, и там уже. ждали.
В 20.00 произвели посадку на аэродроме около станции Шоссейная, где сейчас находится современный Ленинградский аэропорт, а тогда была, по сути, небольшая грунтовая посадочная площадка, окруженная болотами и Пулковскими высотами, с деревянными служебными и жилыми бараками, в которых работал и жил дружный коллектив авиаторов.
Сели. Борисенко рулит на стоянку, а сам не верит: неужели весь этот кошмарный полет остался позади? Сколько труда, сколько риска! И все это уже пройдено, пережито. Заруливает на стоянку, там много людей – все, кто следил за полетом. Несмотря на поздний час, его пришли встречать товарищи, друзья.
Борисенко заметил среди встречающих начальника Северного управления ГВФ Ивана Филипповича Миловидова и коротко доложил ему, как проходил полет.
Начальник выслушал доклад, поблагодарил экипаж и распорядился:
– А теперь, товарищ Борисенко, отправляйтесь на моей машине домой и отдыхайте спокойно. Свой отдых вы заслужили. Ну, а вашу эстафету продолжит товарищ Дроздов. Материал он доставит в Москву.
– Благодарю, Иван Филиппович, с удовольствием воспользуюсь вашим предложением, – смог произнести Борисенко.
Пожав руку Дроздову, он передал материал и пожелал ему счастливого пути.
Сидит Евгений Иванович в эмке, покачивается, а сам никак не может отключиться. Ему кажется, что он летит по ущелью и вот сейчас где-то справа, может, слева, а то и прямо перед носом вынырнет из мглы коварная сопка и нужно будет увернуться и быть готовым к очередной извилине каньона… Он встряхивает головой – и снова реальность: он едет по освещенной улице родного города домой. Только представьте… Домой!..
«Какие ваши планы на будущее, Евгений Иванович?» – мысленно задает он себе вопрос, подражая репортерам, которых он насмотрелся и наслушался.
– Отоспаться, дорогие товарищи! – произнес он вслух.
– Вы что-то сказали, товарищ летчик?
– Я говорю, буду отсыпаться двое суток без отрыва от подушки.
С этой мыслью и приехал Борисенко домой. А тут его уже встречают жена, дочурка, друзья с женами, соседи. Мысль об отсыпании ушла на второй план. Евгений, подчиняясь общему настроению, включился в заданный ритм, на душе стало легко и приятно. Он снова дома.
Плавно велась беседа друзей, а на кухне суетливо колдовали женщины. Вот уже и стол накрыт. Кто-то из друзей поднялся.
– Друзья мои, прошу слова! Я поздравляю Женю с удачным выполнением задания…
В это время кто-то требовательно постучал в дверь.
– Минуточку. – Евгений пошел открывать. «Кто-нибудь из запоздалых друзей», – подумал он. Однако увидел перед собой шофера, который совсем недавно привез его домой.
– Товарищ летчик!.. Евгений Иванович! – поправился тот. – Начальник Управления приказал срочно доставить вас на аэродром.
– Зачем?
– Не знаю, но, насколько я понял, вам предстоит лететь в Москву. Что-то с Дроздовым…
– Дорогие друзья! – обратился Борисенко к сидящим за столом. – Все пусть продолжается, как задумано, а мне разрешите откланяться. Будьте здоровы!
Всю дорогу он размышлял, что могло случиться с Дроздовым.
– Товарищ начальник, по вашему вызову прибыл! – отрапортовал Борисенко на аэродроме И тут же доверительным тоном спросил: – Что случилось, Иван Филиппович?
– Дроздов возвращается в Ленинград. Смог дойти только до Тосно, из-за плохой погоды и мощного обледенения дальше лететь не смог. Через 10–15 минут будет готов твой самолет. Проталины на аэродроме засыпают снегом. Видишь, оттепель, тает… Готовься, обдумай, свое мнение изложишь мне: можно ли лететь вообще и сможешь ли ты продолжать выполнение задания?
Борисенко обуревали всякие мысли. Дроздов был его командиром, первоклассным летчиком. И он не прошел. В другой обстановке корректнее было бы отказаться от этого полета, сказать: «Нет, я не справлюсь!», дабы не задеть самолюбие командира. Но он понимал, что такое задание срывать просто невозможно, и знал, что Москва ждет, Москва все время на прямом проводе.
– Товарищ начальник, спасибо за Доверие. Летчик Борисенко к выполнению задания готов. Прошу только, вместо штурмана дайте мне бортрадиста Журтникова.
После небольшого отдыха ценный материал перегрузили с самолета на самолет и снова скомандовали – Борисенко на старт.
Ночь, низкая облачность, снег с дождем, и сплошная темень. Взлетал вслепую, только по приборам, и после взлета сразу же пошел в набор высоты. Началось обледенение. Но летчик рассчитывал: чем выше, тем меньше обледенение. Синоптики предполагали, что верхняя кромка облаков – не выше 3500 метров, а фронтовой раздел воздушных масс должен проходить где-то в районе Бологого. Восточнее погода может быть лучше.
Главная задача, которую поставил перед собой Борисенко, – поскорее выбраться наверх, не дать самолету сильно обледенеть, выйти из облаков. Он увеличивал мощность мотора, насколько было возможно, и лез наверх.
Самолет обледеневал все больше, мотор работал на полную мощность, а высота прибавлялась медленно. Борисенко чувствовал каждый метр высоты сердцем, всем существом, как бы пытался помочь подняться самолету на высоту, подобно тому, как барон Мюнхгаузен пытался за волосы вытащить себя из болота. Это сравнение, пришедшее случайно, несколько развеселило Евгения. На высоте 2500 метров он заметил, что обледенение прекратилось, наледь не прибавляется и даже постепенно от воздушного потока уменьшается. На душе стало легче. На высоте 3300 метров увидел небольшие просветы в облаках, затем заметил звезды. Еще немного – и они над облаками.
Самолет все еще обледенелый, продолжается тряска и вибрация расчалок. И мотор еще работает на повышенной мощности. Но это уже победа: они за облаками. Предсказание синоптиков сбылось. Решение лететь верхом было правильным. Борисенко сам не ожидал, что ему так относительно легко удастся преодолеть трудности, связанные с погодой. Постепенно самолет освобождался от наледи, прекратилась вибрация, установился оптимальный режим работы мотора, в небе ярко светила луна, словно перемытые, переливаясь, ярко блестели звезды, поблескивали, отражая их свет, плоскости и ореол пропеллера. Все вокруг, казалось, ликовало вместе с нашими смельчаками, все радовалось их победе. В этом заоблачном просторе они шли курсом на Москву.
В районе Калинина высота полета была 4000 метров. Не сбавляя мощности мотора, на повышенной скорости Борисенко пошел на снижение и в районе Клина с 400 метров увидел землю. А вдали, впереди зарево. Это отражение огней Москвы на фоне облаков. Вот она – Москва! Желанная, долгожданная, выстраданная.
Москва, центральный аэродром. Прямо с ходу через аэровокзал самолет пошел на посадку. Характерные для самолета Р-5 хлопки выхлопных коллекторов на малом газу вызвали большое оживление встречающих.
Было 2 часа ночи. Но, несмотря на позднее время, встречающих было много, у вокзала теснились автомашины.
Трудный полет закончен. Он продолжался 12 часов. А с перерывами на посадку – от взлета в Мурманске до посадки в Москве – около 18 часов. Нежно похлопав рукой по капоту, будто это было живое существо, Борисенко медленно сошел с самолета. С криками «ура» его подхватили под руки встречающие, вручали цветы, обнимали знакомые и незнакомые люди, ввели в вокзал, усадили за стол…
Пакет передали по назначению, и наутро во всех центральных газетах были напечатаны доставленные материалы о четверке отважных папанинцев.
Нет выше счастья на земле, чем чувство исполненного долга, и в это время самым счастливым человеком был Евгении Борисенко. Его тут же отвезли в аэрофлотский профилакторий в Покровское-Стрешнево в Москве. Там отдыхали экипажи по случаю нелетной погоды. Они все знали о задании Борисенко, живо дискутировали: прилетит или не прилетит в такую погоду? Но сейчас, в третьем часу ночи, все спали. И вдруг – Борисенко! Все, как по тревоге, поднялись, всем интересно, как и что. Началась настоящая пресс-конференция, правда, без представителей прессы. Рассказ о полете был настолько интересным, что даже строгие стражи санаторного распорядка не препятствовали. Спать больше не ложились. Многие никак не могли поверить в то, что Борисенко вылетел из Мурманска утром и, по сути, вечером был в Москве. А ведь так и было.
Весной 1939 года Евгений Борисенко был удостоен чести обслуживать XVIII съезд нашей Коммунистической партии. К его открытию была подготовлена еще од-на всепогодная «матричная» авиалиния Москва – Киев. Принимать эту линию, испытать все радионавигационные установки поручили Евгению Борисенко. Он должен доставлять в Киев матрицы центральных газет «Правда» и «Известия», чтобы читатель столицы Украины имел свежие газеты с материалами работы съезда в день их выхода.
Съезд, как известно, проходил с 10 по 21 марта, а летать на– этой линии по доставке матриц Борисенко начал в начале марта. Аэродромы в это время в Киеве еще не имели взлетно-посадочных полос, размокшие, раскисшие, садиться на них нельзя было и почти с самого начала приходилось летать без посадки. Летал Евгений на своем старом испытанном и надежном тихоходе Р-5. Прилетает из Москвы, сбрасывает груз на парашюте на аэродром Бровары, получает сигнал, что груз в порядке, покачает на прощание крыльями и – в обратный путь. Туда и обратно – девять часов пребывания в воздухе, и так каждый день. Авиалинии прибавлялись, а опытных кадров не хватало. Не так-то просто их готовить. Чтобы нажить опыт, нужно время, а дело не ждет.
Нагрузка предельная. Погода в это время, как известно, мартовская, самая нелетная в году, а обстоятельства требуют бесперебойности в доставке матриц, срыва быть не должно. Для ленинградцев это дело уже привычное, для киевлян же все это ново, и особенно для работников аэропорта, для летных экипажей, которые восхищались работой летчика, его смелостью, его мастерством. Евгения Борисенко теперь знали все: и читатели, потому что в газете указано: «Матрицы газет доставил летчик Е. Борисенко», и работники аэропорта, принимавшие груз с самолета, и работники типографии, и многие другие, кто причастен к этому делу.
Бывало, стоит слякотная погода, туман – до земли, изморось. Знатоки уверяют: «Нет, сегодня не ждите. В такую погоду сам черт не решится на вылет, а Борисенко – человек…» И вдруг послышится рокот мотора. Все ближе и ближе. Уже почти рядом, а самолета не видно. И только вертикально над головой в тумане показался едва заметный силуэт самолета, от него отделился комок, распустился парашют, груз прибыл. Еще раз послышался рокот мотора и исчез. Самолет ушел в обратный путь. Все в восхищении. Все узнали летчика Борисенко, но лично с ним никто еще не был знаком.
Когда поле аэродрома в Броварах подсохло, Борисенко за полтора месяца’ полетов с матрицами впервые получил разрешение на посадку. У перрона аэропорта собрался весь летный состав, свободный от полетов, чтобы увидеть и познакомиться с легендарным пилотом, который не пропустил ни одного дня в доставке матриц и для которого нелетной погоды не существовало. Все ожидали встретить высокого, плотного мужчину, неприступного и сурового человека, который на всех будет смотреть свысока…
Готовился к первой встрече со знакомыми лишь по работе людьми и Борисенко. Подруливая к зданию аэропорта, он еще издали заметил толпу людей, и на душе стало почему-то так весело, что даже петь захотелось, несмотря на усталость. Утро было тихое, теплое, погода солнечная. Контраст поразил летчика: ведь в Москве еще холодная, слякотная погода, на большей части маршрута сплошная облачность, а здесь – весна.
Он выключил мотор, сдал прибывшим к самолету представителям груз, а сам, сняв шлемофон и расстегнув теплый комбинезон, направился к ожидавшим его людям, смущенно улыбаясь.
– Здравствуйте, товарищи киевляне! Ой, какая здесь красота, какая теплынь. И улетать не хочется, а на маршруте такая мура – ужас!
Этот монолог он произносил, одновременно пожимая всем руки. Ожидали встретить великана, а встретили простого, ничем внешне не примечательного человека, небольшого роста, улыбчивого. Своей простотой он сразу покорил всех. Завязалась дружеская беседа, посыпались вопросы. Евгений еле успевал отвечать на них: тяжело ли летать в сплошных облаках? Не боитесь ли вы интенсивного обледенения? Как ведет себя самолет в этой стихии? И так далее.
– Как вам удается все же доставлять матрицы в самую слякотную погоду, каким чутьем вы обладаете? – спросил кто-то из молодых летчиков.
– Чутье единственное: надо! А удается по-разному. Но когда летаешь часто, то умеешь разбираться, анализировать, сравнивать, да и синоптики помогают распознавать погоду: где какая температура, где наименьшая возможность обледенения. И основное – это опыт…
Каждое знакомство оставляло след в памяти. Борисенко обладал способностью запоминать людей, их лица, имена, фамилии, должности. И теперь, прилетая в Киев, здороваясь с уже знакомыми летчиками, работниками аэропорта, каждого называл по имени, а то и по отчеству. Все его принимали как хорошего, близкого знакомого.
Условия работы так сближали людей, что со временем все сотрудники аэропортов, все летчики гражданской авиации знали друг друга либо лично, либо по работе, так как все мы, авиаторы, знали экипажи Чкалова, Громова, Гризодубовой. Таков образ жизни советского человека: трудовое общение объединяет людей. А чем шире кругозор, чем больше приобретает человек известность, популярность в своей трудовой деятельности, тем больше дорожит ею, и это облагораживает его как личность, становится стимулом к самосовершенствованию. Положительный отзыв товарищей является для советского человека высшей наградой.