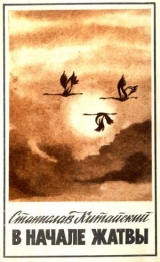
Текст книги "Повесть "Спеши строить дом""
Автор книги: Станислав Китайский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Работа Чарусова? – спросил Размыкин подошедшего за солью Витязева.
– Так точно, – сказал Витязев и смутился – привычка. – Чарусов у нас художественная натура! То есть он думает, что он художественная натура. Он всегда требует, чтобы все было художественно. У нас даже сортир художественный.
– Это плохо? – спросил Размыкин.
– Это нерационально.
– Может, вы и правы, – произнес Размыкин. – Однако, знаете ли... Вот возьмите старые водонапорные башни на нашей Транссибирской. Все на высоком художественном уровне, двух одинаковых не найдешь. Или вот старые байкальские туннели – любо глянуть. А ведь тоже нерационально. Может, красота сама по себе уже рациональна?
– Не знаю. Об этом надо говорить с Чарусовым. Он много об этом рассуждает.
– И что он говорил?
– Минуточку! Посолить надо. Пойдемте.
Витязев уселся на чурку у костра и заколдовал над ухой. Размыкин смотрел на его точные, расчетливые движения, на сосредоточенное лицо, на большие уверенные руки, будто пытаясь понять, что же ему не нравится в этом отрепетированном, правильном человеке.
– А где Перевалов? – поинтересовался следователь, не найдя Алексея.
– Обабки ищет, – ответил из-за столика Архангел, – чего их в темноте шарить?
Следователь недовольно крутнул головой. Архангел тут же понял свою ошибку и закричал неожиданно красивым, сильным голосом:
– Леха-а! Перевалов! – звук прокатился по лесу, как по партеру.
Размыкин хотел крикнуть «бис», но не успел: чуть в стороне сразу же отозвался Алексей.
– Ладно. Пусть его, – остановил следователь участкового.
– Так вот, – начал Витязев, обсушив на костре ложку и пристроив ее на специальную полочку у рогульки. – Чарусов несколько помешан на мировой гармонии. Для него в природе в ее прекрасно и художественно. Когда пытаешься возразить ему, он применяет запрещенные приемы: переходит на личность, а потом добивает.
– Это вызывало между вами трения? – спросил Размыкин.
– Никогда. Он ведь не убеждает, а разъясняет, – насмешливо растягивая последний слог, ответил Витязев. – Но пользуется посылками, приемлемыми только для него самого. Поэтому какие трения? Мы сюда собрались не отношения выяснять, а отдыхать. Спорить, конечно, спорили. Но до трений не доходило. Здесь никто никого не держал, каждый мог уйти, когда ему заблагорассудится, мог работать, мог дурака валять.
– Интересно, – заметил Размыкин, – в общем, наивный коммунизм. А почему же больше все-таки работали? Вон сколько сделали! – кивнул он на сруб, там, в еще золотом свете зари, приткнувшись к углу, уже блаженно спал эксперт, прикрыв лицо шляпой, так что виден только приоткрытый рот и мухи около него.
– Руки чесались... Так мы начали о красоте. Не знаю, кого уж там начитался Григорий Евдокимович, но говорить любит цитатами, причем всегда уточняет: «Кант, том четвертый, глава третья» и так далее – пойди проверь! Он, может, и действительно цитирует, но мне кажется, подтасовывает свои мысли под великих, прекрасно зная, что нам с Владимиром Антоновичем проверить трудно.
– Вы все говорите о нем: «делает», «цитирует», «подтасовывает» в настоящем времени. Вы действительно верите, что он жив?
– Конечно. Так вот как-то мы заспорили, должно ли быть оружие красивым. Кто-то из наших авиаконструкторов заметил, что некрасивые модели не летают. Я утверждал, что рациональность мы в данном случае принимаем за красоту, по-моему, это действительно так. Но Григорий тут же процитировал Гомера, вспомнил сокровища скифских курганов и еще целую кучу авторитетов, чтобы доказать, что оружие всегда стремится быть именно красивым, а не только практичным. Это потому-де, что будь оружие некрасивым, его никто в руки не захотел бы брать, стало быть, не было бы и воинов, то есть профессиональных военных. И так далее... Надо сказать, что он к нам, военным, или, как он говорит, «мундирам», относится как к сумасшедшим детям. Он говорит, что зло, ну, зло как какая-то сила, что ли,– так вот, такое зло, дьявол, можно сказать, и придумало делать оружие красивым. Правда, тут есть у него какие-то мерки... Но надо, чтобы он сам.
Разговор перебил Баянов.
– Что делать будем, Анатолий Васильевич?
– Что делать? Сказки будем слушать. Потом спать будем. А утром будем работать. Что вы там написали?
Баянов протянул ему протоколы и смущенно отвернулся, ему всегда было стыдно своей малограмотности, но за профессиональность протоколов он ручался и поэтому на замечания начальства всегда злился и теперь был готов ответить резко, с вызовом. Но замечаний не последовало.
– Спасибо, – поблагодарил его Размыкин, – очень хорошо вы все видите, товарищ Баянов. С вами можно в разведку, хотя в разведке, сами понимаете, не бывал – возрастом не вышел.
– Я тоже в разведке не был ни разу, – успокоил его участковый. – А смотреть вот наловчился: должность такая – смотреть.
Витязев тем временем снял с огня котел и пригласил всех к столу. Алексей принес целую кепку обабков, нанизал их на березовый прутик и повесил над углями.
– Идите уху хлебать, Перевалов, – пригласил его Витязев.
– А когда вы рыбачили? – спросил Размыкин, похвалив уху.
– После того как обнаружил, что Чарусов исчез. Надо было чем-то заняться, – сказал Витязев.
– Крепкий вы народ, военные, – не то позавидовал, не то осудил эксперт. – Труп пропал, а вы – рыбачить...
– Какой труп? Не было трупа. Чарусов просто ушел.
– Но ведь вы же сами констатировали смерть!
– Да, – согласился Витязев, – но мы не врачи, могли и ошибиться.
– Темна вода в облацех, – вздохнул эксперт и приналег на уху.
– Ничего мы не ошиблись, Вася, – успокаивающе сказал Владимир Антонович. – Я лично раза три щупал пульс. Ты тоже не меньше. Дыхания не было. Верно же? Так что, к сожалению, не ошиблись. Не могли ошибиться.
– Зеркальце надо было, – сказал Баянов.
– Зеркальцами не пользовались. Вот Василий Михайлович даже брился своей «механичкой» на ощупь. Я в кружку смотрелся. Чарусов не брился вообще. На Санта-Клауса походить стал.
– А почему на Санта-Клауса, а не на Деда Мороза?
– Почему, почему! Да потому, что на Санта-Клауса. Не понимаю, что вас не устраивает. Чуть заикнись, сразу – «почему»? Да потому! Вы можете не вести следствие хоть пока ужинаем? – взъелся Владимир Антонович. – «Почему?»
– Не нервничайте. Я просто спросил. Учитель и вдруг – Санта-Клаус... Подумал, может, отсюда молодежь на импорт кидается?
– Нет, не отсюда! Она кидается, глядя на ваш джинсовый костюм. Шик-модерн! И нашлепка медная на заднице. А вы для них больше чем учитель. Вы киногерой! Шерлок Холмс! Сыщик! Пример для подражания.
– Не заводись! – приказал Витязев. – Зеркальца у нас действительно не было, да мы и не подумали о нем. Пощупали пульс – нету! Послушали дыхание – тоже нету. Вывод один: смерть. Правильно? – спросил он эксперта.
Тот подернул плечом – не то комара на ухе даванул, не то жестом хотел сказать, что бывает, мол.
– Мы и рассудили с Владимиром Антоновичем, что Григорий умер, и к телу прикасаться не стоит уже потому, что вам все равно надо было быть здесь, посмотреть, проверить.
Может, его действительно кто убил. Да если и сам умер, вам все равно лучше, если труп не трогать. Правильно?
– Вы все сделали правильно, – сказал Размыкин. – А порубочный билет у Чарусова был?
– Конечно, был, – сказал Владимир Антонович.
– А разрешение лесничества на постройку?
– Не знаю. Да кому оно, разрешение? Наши всегда раньше баню или зимовье в лесу рубили, потом остается только собрать по номерам. Проще, возни меньше. Иногда такой сруб годами в лесу стоял. Теперь могут и утащить. А товарищ Баянов не шибко кинется искать, ему увеличение происшествий на участке ни к чему. Верно? – подъел Владимир Антонович участкового.
– Верно, – согласился Баянов. – Воруют и дрова, и лес. Если на пропой, то найдем. А если чужие кто, то где тут? У меня... У меня вот шесть деревень – попробуй! Не успеваешь протоколы на складах, на фермах оформлять. Опять же приезжие... На кой черт их принимают? Работать не работают, бичи бичами, пить на что-то надо, вот и тащат все походя! Драки опять-же. Работка!..
– Чего же не ушел? – спросил эксперт. – Мужик ты молодой...
– Молодой, – согласился Баянов. – Шестой десяток приканчиваю.
– Шестой?! – воскликнул эксперт. – Врешь!
– Без надобности никогда. Внуки уже школу кончают. А не ушел, потому что своего не довоевал. Преступник – он тот же фашист. Не всякий, конечно, но...
Баянов начал рассказывать свою историю. Витязев подал крепкий чай с добавкой чаги и смородиновых почек – необыкновенного вкуса и аромата, и все пили и нахваливали, и никто не хотел возвращаться к разговору, от которого все равно было не уйти, поэтому слушали Баянова с подчеркнутым вниманием.
– Я немцев увидел сначала пленными. Недалеко от запасного полка, куда я попал, они за колючей проволокой какой-то заводик восстанавливали. Мы ходили смотреть. Вроде люди как люди. Кормили их хорошо, не то что наших, табак давали. Начальниками у них ихние же офицеры были. И вот смотришь и не веришь, что это те самые, которые творили такое... Мы уже многое знали про их дела, не все, что сейчас знаем, но многое – война к концу шла.
Издали снизу вдруг послышался далекий заблудившийся голос.
– Подвода едет, – сказал эксперт. – Долгонько что-то он... Как говорится, только за смертью и посылать.
– Оклик повторился, но голос вроде бы ослаб.
– Свернул он куда-то, что ли? – забеспокоился Владимир Антонович. – Пойду встречу.
– Перевалов пойдет, – сказал Размыкин и тут же попросил Витязева: – Пальните-ка в белый свет три раза!
– Ружье чищеное, я осматривал, – сказал Баянов Размыкину. – Тот благодарно кивнул.
– Если есть сигнальные, то сигнальными. Нету? Палите так. Это чтобы наш Харон не повернул обратно,– объяснил Размыкин эксперту. – Идите встречайте, товарищ Перевалов. А вы не хотите пройтись, Серафим Иннокентьевич?
– Слушаюсь! – отозвался Баянов, легко для своего возраста поднялся с колоды и, на ходу уже вытирая рот аккуратным носовиком, пошел за Переваловым.
– Вы знаете, кто такой Харон, Леонид Федорович? – спросил следователь.
– Хрен его знает!
– У древних греков он перевозил мертвых через реку на тот свет. Прекрасный чай у вас здесь, полковник. И вообще вы здесь недурно устроились, – сказал он стоявшему у палатки с переломленным ружьем Витязеву. – Да стреляйте же, не томите! Не люблю ожидать выстрелов.
Витязев расчетливо, с почти равными промежутками, трижды выстрелил. Размыкин так и не понял, когда он успел перезарядить ружье.
– Ловко вы!
– Привычка, – ответил Витязев. – У нас на объекте, кроме охоты, никаких развлечений не было. Двадцать лет практиковался.
– Простите, вы в каких войсках?
– ПВО.
– Тогда все ясно! Странные мы все-таки – люди! Всегда выберем занятие, не похожее на человеческое. Это же добровольная ссылка на всю жизнь.
– Ссыльным отпусков не дают, – усмехнулся Витязев, – у нас отпуска хорошие. Служба не сахар, но бывает и похуже. Привычка.
– Никогда не привыкаешь, – возразил Размыкин. – Да не в этом дело. Как вы думаете, полковник, что все-таки здесь произошло? Подлейте-ка еще кружечку, да покрепче!
Витязев налил ему чаю, поправил костер, долил и повесил чайник. Отвечать не торопился.
– Так что, по-вашему, произошло? – напомнил вопрос следователь.
– Не знаю.
– Конечно, не знаете. А если пофантазировать?
– Не умею фантазировать. Да и не умел никогда. Вот Чарусов, тот вам двадцать версий предложил бы, одну другой заманчивей. Я привык только анализировать и обобщать. Здесь нет места ни тому, ни другому. Завтра поищем, может, найдем что, тогда и будем думать.
– Но какое-то предположение, пусть смутное, пусть призрачное, все-таки есть у вас. Понимаете, мне надо иметь как можно больше таких предположений. А у меня их нет. У меня есть три более-менее реальных допущения. Первое: Чарусова убили вы вдвоем с Просекиным, а теперь разыгрываете хорошо продуманную комедию. Второе: убили вы, зная, что Просекин на рыбалке все равно встретит труп и при расследовании можно будет все свалить на него; так оно вроде и ладно, но вы – человек далеко не наивный и понимаете, что мы, сыщики, свое дело знаем и могли бы докопаться до истины, методики у нас прекрасные, и вы, когда Просекин пошел звонить, утопили труп на болоте в окне, где его и сам черт не найдет. И третье: убил Просекин, сообщил вам, сам пошел вроде в деревню; он предполагал, что вам не высидеть у трупа сиднем целый день, дождался, когда вы пошли на табор, забрал тело и так же швырнул его в окно, а потом наверстывал время бегом и загоняя до полусмерти коня. Есть и еще одна версия, слишком неопределенная: кто-то давно следил за вашей жизнью и распорядком, все хорошо учел и, сделав свое черное дело, сейчас спокойно отсыпается где-нибудь у черта на куличках. А кто он, этот самый «кто-то», кому нужно было убрать покойного, кому выгодно было это или безвыходно? Вопросики!
Витязев молча кивнул.
– Есть еще и этот ягодник, этот Алексей – как там его? – спросил Галайда.
– Перевалов, – подсказал Владимир Антонович.
Следователь снисходительно посмотрел на эксперта и согласился.
– Есть и Алексей. Знакомство у нас давнее, – объяснил он эксперту, и тот понимающе кивнул. – Правда, недолгое. Работящий мужик, с характером. Но на такое дело... Нет. Да и по времени не совпадает. А проверить – проверим. Сейчас нам надо уточнить, кого мы ищем, что представляет собой этот самый Чарусов Григорий Евдокимович. Пока, кроме имени, мы ничего о нем не знаем.
– Знаем еще, что он писатель, – подсказал эксперт, – что вот дом затеял строить, что ему сорок пять лет, что бобыль... Мы многое знаем!
– Писателя такого мы не читали, зачем эта затея с домом, только догадываемся, о личных связях, понятия не имеем и даже фотографии его не видели, – в тон ему добавил Размыкин. – То есть ничего мы не знаем. Мы не знаем даже – живой он или мертвый. Вот Василий Михайлович убежден, что живой. Если это так, то на кой, спрашивается, черт нам надо знать о нем что-нибудь? А если мертвый, то где труп? Я не могу даже возбудить дело – понимаете?
– А это вы, Анатолий Васильевич, интересно подметили: если человек жив, то на кой он нам черт нужен? Не интересен он нам, безразличен, можно сказать. Живешь, ну и живи себе. Ты своей дорогой, я своей. Вроде даже и нету его, живого-то! А вот достаточно его кому-нибудь прихлопнуть, и он становится героем дня: всем до него дело, всем интересно, кому факты, кому сплетни, и всем он вроде родной и близкий. То же самое, если и он убил или еще чего там... Ну, нам по службе положено. А другие?.. А может, и по службе нам надо бы больше интересоваться человеком, пока он жив, живет, так сказать, в рамках закона, а?
– Это что же, досье на каждого заводить? – спросил Размыкин насмешливо. – Сходил он к куме погреться – в досье! Зашел в магазин папирос купить – у какой продавщицы, взял? – и так далее. Так, что ли?
– Н-да. Вы правы. Досье это глупости – жить никто не захочет. А по-другому, как это самое внимание ему уделить? Вот и получается!.. Интересно... Сложное это дело – жить с людьми. А все-таки что-то не так здесь. Очень не так.
– Все так, – возразил Размыкин. – Надо просто не витать в облаках, а делом заниматься. Каждому своим, порученным тебе делом. Нам с вами убитыми и убийцами, полковнику вот – подчиненными, Алексею хлеб выращивать, и все в установленных пределах.
Это так, – согласился эксперт, – только где эти пределы? Ну, полковнику – понятно: выполняет солдат устав или нарушает его; юристу закон предел – нарушается, не нарушается. Но вот ЧП, и вам уже, Анатолий Васильевич, надо знать о том же Чарусове больше, чем о собственной жене. Вот вам и пределы!
– О жене тоже надо знать в пределах, иначе не получится никакой жены.
– Закрывать глаза?
– Конечно. Если знать все, то война сплошная, а не любовь. А так, в пределах, оно и ладно. Примеры нужны? Нет? Прекрасно. Пределы – великое дело, Леонид Федорович, если вдуматься.
– Вы говорите совсем не то, что думаете, – рассердился эксперт. – Пределы!.. А если я ее просто люблю со всеми ее глупостями и жить без нее мне не интересно? Вот люблю и все! Двадцать лет люблю. Какие тут пределы? Мне и ссориться с ней приятней, чем с другими любезничать.
– А она на вас воду возит, – в тон ему продолжил Размыкин. – Вы постоянно считаете себя недооцененным, этакой жертвой, и вам уже приятно сознавать себя жертвой, даже хочется еще жертвенней быть. А такие люди очень опасны: черт его знает, что он завтра выкинет – может, царское платье ей купит, а может, задушит. У нас один женоубийца семь лет ежедневно, – заметьте: ежедневно! – писал убитой письма. В стихах. Письма-то были какие – Шекспир! Да что там! – страшная вещь комплекс неполноценности. Берегитесь, Леонид Федорович! Шучу, шучу... Что же вы молчите, полковник? Вам не интересно.
– Ну, почему же? – отозвался Витязев. – Интересно. Я тут с вами согласен: предел есть предел. Если человек выходит за пределы... За пределами человек уже не человек, не работник, не солдат – так, никто! Но бывает и наоборот. Редко, но бывает. Вот Чарусов, он все время за этими самыми пределами. Ему надо самое-самое. В полном смысле за пределами: если на верхнем пределе, то первопричина космоса, если на нижнем – то почему нейтрон стремится к протону... С ним интересно: мир видишь в целом и вроде бы подглядывать за всем начинаешь. Знаете, такое мальчишеское щекотливое любопытство. Этакий мистический восторг. Только жизнь – это действие, где все понятно и никакой мистики. Вы правы, Анатолий Васильевич. В любопытстве к человеку пределы необходимы. Они везде нужны – и в любви, и в требованиях, и в поощрениях. На каждом шагу.
– Пределы – это сознательные ограничения. Так, выходит, вы за человека ограниченного? – спросил эксперт.
– А почему бы и нет? – сказал Витязев. – Только ограниченного в своеволии. Общество всегда ограничивает индивида, заставляет выполнять известные требования, принуждает трудиться... Вот возьмите солдата! Он ограничен уставом и потому дееспособен. А так каждый начнет рассуждать
о смысле жизни – и хлеба не будет.
Э-э, милый, – возразил эксперт, – если бы действительно все, как вы говорите, задумались о смысле жизни, у нас был бы рай земной. Я полагаю, что люди думают о чем угодно, только не об этом. Послушайте-ка, о чем на самом деле говорят: бабы о деньгах, тряпках и никудышных мужьях, мужчины о «Жигулях», «Москвичах» и о деталях к ним, ну, еще о женщинах. По-вашему, это имеет отношение к смыслу? Скорей к Уголовному кодексу. Нет, товарищ полковник, тут вы явно выдаете желаемое за действительное. Люди у нас не думают, а соображают, не разговаривают, а толкуют о том о сем. А ведь все с образованием, все телевизор смотрят. Да и с пределами своими вы оба тут перебрали: не любит наш человек никаких пределов, не любит и знать их не желает! Конечно, в армии легче, там приказ – и все! Не о смысле жизни печемся мы, а о том, как получше устроиться в ней. И пока это будет продолжаться, а это будет продолжаться еще ой как долго, мы с Анатолием Васильевичем без работы не засидимся. А то, что мы интересуемся человеком, только когда он ушел за пределы, тут тоже, наверное, своя закономерность имеется. Не любим мы живых, вот в чем дело, и мороковать тут есть о чем.
– Любовь, – это не наша специальность, доктор, – улыбаясь, сказал Размыкин. – Вы хотите узнать секреты жизни и любви с помощью своего ножа, а на самом деле вы просто кромсаете уже безжизненное тело. Поэтому вам не понять, Леонид Федорович, вы – доктор мертвых! А эти рассуждения... Работать надо! Тогда меньше поводов для рассуждений будет. Скажите мне, где Чарусов? Кто он такой – что за личность, каковы его взаимоотношения с людьми, чего он хотел и чего не мог? Не знаете? И я не знаю. А вот Василий Михайлович знает. Не все, конечно, но знает. И он нам сегодня расскажет, что знает. Расскажете, полковник?
– Как прикажете... С чего начнем?
– С вас начнем. Где родились, где крестились и, конечно, о ваших отношениях к исчезнувшему товарищу.
– Я родился здесь, в лесу, неподалеку отсюда. Вон там есть еще следы когда-то бывшей деревеньки, называлась она Заглубокое. Скорее не деревня, а так – дворов до тридцати было. Перед войной ее ликвидировали: что перевезли в Хазаргай, что здесь пожгли. Предки скотом промышляли. Пашни было мало, а покосы до сих пор держатся. На залежах клубнику берут. Отца не помню, война забрала. Мать колхозница. Нас, детей, было четверо. Выжили потому, что мать, сколько помню, хлеб для трактористов стряпала. Она и сейчас на пекарне еще подрабатывает. Не потому, что нужда, а просто привыкла, не может без этого. Выжили. Закончил школу. Мы все вместе учились с первого по десятый. Правда, с Чарусовым за одной партой ни разу не сидел, хотя очень хотелось: я был меньше всех ростом и всерьез не шел, а играли вместе, ходили друг к другу. Я уже в училище вытянулся. Григорий всегда относился ко мне, как к младшему, хотя мы ровесники, он только на полгода старше. Он и в детстве был для всех авторитетом, для меня тоже. Учился он хорошо, но не лучше всех. Меня, конечно, лучше. Как все способные, был чуть ленив, У него это и сейчас есть. Но умный. И сноровистый. После девятого болел, перенес менингит, все боялись за него, но выкарабкался, влюбился в медиков, после десятого собирался в мединститут, завалил вступительные и ушел в армию. Мы все были, так сказать, переростками, в войну сидели по два года в начальных классах: кто из-за болезней, кто, чтобы не болеть, – ходить-то не в чем было. Вон у нас Зинка Храмова до пятого класса в одних заячьих штанишках бегала, больше не в чем было. Ни обуток, ни одежки... В общем – так... Чарусовы жили бедно, беднее других: семеро детей, все погодки – где тут? После армии Григорий поступил в медицинский, я тогда уже заканчивал авиационно-техническое, встречались, конечно, но редко. У курсантов время лимитировано, да и Гришка врубился в учение. А если он во что врубится!.. Потом вскоре женился, ребенок появился, он оставил институт, ушел после третьего курса, работал фельдшером в больницах, оклады там – сами знаете, а семья – квартиру снять, еда, одежда. Он прирабатывал то кочегаром, то грузчиком. Притом оставил медицину совсем, даже вспоминать о ней не любил, подался в какие-то дикие бригады, в шабашники, строил коровники всякие, дома рубил, зарабатывал хорошо, но в это время, лет десять, мы почти не встречались, пробовали переписываться, но этого он не любил, и так потерялись. Работал он в основном летом, я по пути в отпуск всегда заезжал к ним, но его не заставал. Жена говорила о нем, как о потерянном, что-то у них не заладилось, расходились, сходились, потом все-таки разошлись окончательно. И мы не встречались с ним до этого лета. Он к матери моей, бывая в деревне, всегда заходил, я к его сестре, так что знали друг о друге, но не встречались.
– А что у него за жена была? – перебил его Размыкин.
– Жена? Да наша же. Варвара Осипова. Она в университете на кафедре органической химии работала, потом перешла в НИИ, там и работает. Сын уже закончил политехнический.
– Как ее фамилия сейчас?
– Чарусова. Они не разводились.
– Почему?
– Видимо, ни Григорий, ни Варвара не находили этого нужным. Они шибко умные обое, как говорят в деревне.
– Она замуж не выходила больше?
– Нет. Официально не выходила.
– А он не женился?
– Тоже. Тоже официально – нет.
– А какие у вас с ней отношения? Вы были этим летом у нее?
– Нормальные. Дружеские. Летом мы с ней встречались. Заходил, попил чаю, поговорили.
– О чем поговорили?
– Ну, товарищ следователь!.. О жизни поговорили.
Вы простите, полковник, но ведь я не из праздного любопытства. Вы с ней были близки?
От этого вопроса Владимир Антонович внутренне содрогнулся – откуда знает? – и ему вдруг показалось, что следователь давно уже знал, что здесь обязательно случится что-то такое, и на каждого из них заготовил пухлый кондуит, где все записано и заверено печатями.
Витязев долго не отвечал, лицо его, большое, прямоугольное, в свете костра будто вырубленное из какого-то темного дерева, стало жестким, бронированным. Он подкладывал в костер широкие белые щепки по одной и ждал, когда пламя охватит ее всю, и только потом подкладывал следующую.
– Вам понятен вопрос?
– Да.
– Что – да?
– Да – понятен. Да – были. Близки были.
– Когда сошлись?
– Мы сошлись еще до их окончательного разрыва. Я ехал тогда в отпуск и зашел к ним. Чарусов был на заработках.
– Вы женаты?
– Женат.
– А с Варварой – как ее? – в дальнейшем поддерживали связь?
– С Варварой Петровной. Да, поддерживал.
– И Чарусов знал об этом?
– Думаю, знал. Мы никогда о ней не говорили.
– А вы знали об их связи, Владимир Антонович?
– Об этом вся деревня знала. Шило в мешке. У нас же полдеревни в городе, все обо всех знают. И товарищ полковник выложил вам все только потому, что вы все равно узнаете об этой связи, – ответил Владимир Антонович.
– Простите, вы любили ее? – спросил эксперт Витязева.
Тот посмотрел на него затяжным серьезным взглядом и вдруг широко и легко улыбнулся.
– В школе. В школе любил. Потом все проще.
– Н-нда! – крякнул эксперт.
Но Размыкин движением руки осадил его! не лезь, мол.
– А как она к вам относилась?
– Она современная женщина. Относилась без всяких притязаний.
– А как к ней относился в последнее время Чарусов?
– Не знаю, Я же сказал: мы о ней никогда не говорили.
В это время послышались еще далекое фырканье лошади, людские голоса, стук колес и из-за дальнего куста показалась упряжка. Возница, видно, так и не слезал с телеги, а Перевалов с Баяновым шли чуть позади, о чем-то оживленно беседуя.
Сидевшие у костра замолчали. Эксперт обиженно сопел, уж от кого, от кого, а от военного, да еще полковника, он такого не ожидал. Витязев подбрасывал щепки в огонь, но теперь не смотрел на них, а поглядывал в сторону прибывших, не на них, а дальше, будто ждал, когда там появится еще кто-то. Размыкин оставался спокойным, будто рассказ полковника ничего не добавил к тому, что он знал, и теперь он анализировал все, пытаясь отыскать и обдумать, что же изменилось.
– Вон теперь нас какая компания образовалась, – не выдержал молчания эксперт, – пятеро в тайге. Не считая кобылы. Хотя собака была бы лучше, настоящая служебная собака.
– Собаку, наверное, придется вызывать, – сказал Размыкин. – Если завтра, не найдем труп, вызовем. Может, и поисковую группу вызывать придется. Владимир Антонович! – обратился он к Просекину. – А почему вы без собаки? У вас же есть собака?
– Ошибаетесь, Анатолий Васильевич. У меня нет собаки. Собака нужна только на зверовой и промысловой охоте, а я чисто тургеневский охотник, только по перу.
– У Тургенева всегда были собаки. Он любил собак, – возразил Витязев.
– Собака времени требует. А где у учителя время? Опять же в избе легавую держать – негигиенично, а на улице она замерзнет. Лайку взять, так она по птице бесполезная. Одному лучше. Пробовал держать спаниэльку, с коровой в стайке держал, но ничего не вышло, не смог научить ничему. Утятница, а воды боялась. В лесу только носится, как угорелая, все распугивает. Отдал ее сыну, не знаю, как там он с ней. Одному лучше: не убьешь ничего, так хоть отдохнешь по-человечески. Опять же кормить ее в лесу надо, лишний груз тащить.
– Вы надолго обычно уходите в лес? – спросил следователь.
– Как я могу уйти надолго? Когда? Так – на выходной сбегаешь, побродишь. А больше на часок, стрелишь пару раз и домой. Вот и вся охота. Некогда все. Охота начинается – как раз отпуск кончается. Да еще огород, покос... Когда тут?
– А как же вы нашли время для этой стройки? – спросил следователь. – Огород оставили, семью, корову? Все оставили, чтобы только помочь Чарусову. Как это понимать?
– А так вот и понимать: оставил и помогал. Я не ему помогал. Я себе помогал.
– Как прикажете понимать?
– Это допрос?
– Протоколы мы потом составим. Темно уже. Считайте, что вы здесь все время на допросе, Владимир Антонович.
– Ну, если так... С женой поссорился. Надо было побыть наедине и мне, и ей. Надеюсь, вы не станете спрашивать причину ссоры?
– Не стану. Если только это не имеет никакого отношения к нашему делу.
– В том-то и дело, что имеет, – вдруг вмешался Витязев. Владимиру Антоновичу показалось: с удовольствием вмешался, с улыбочкой. – Ты извини, Володя, тут надо... Дело в том, Анатолий Васильевич, что жена ревновала его к одной учительнице, Светлане Аркадьевне. Как ее фамилия? – спросил он Просекина.
– Маркитина.
– Начнем треп про женщин? – невесело пошутил Размыкин. – Вы не против, Леонид Федорович? Или ваши нравственные уши не выносят подобных вещей?
– Валяйте, – разрешил эксперт. – Хотя слушать мне это действительно противно. Вроде нормальные люди, а устроили какой-то французский роман. Чтоб вам пусто было! Только вон мужики идут, при них хоть воздержитесь. Интеллигенция!
Подошли мужики. Владимир Антонович отметил, что Баянов в их окружении чувствовал себя значительно лучше, естественней, что ли: он смеялся, шутил, отдавал распоряжения, куда поставить коня, куда телегу, и от имени всех троих попросил у Размыкина разрешения уехать домой.
– Им работать надо, – извиняясь сказал он. – Алексею с утра на подборку ячменя, пора, сами видите, какая! – а Демид Матвеевич подмены не имеет, старуха дома... И я бы с ними до мотоцикла. А? Что нам тут делать? – всю ночь дрожжи продавать? Староват я для этого. Радикулит опять же. Нет, разрешите мне с ними. А утром вернусь.
Размыкин секунду подумал и согласился:
– Езжайте. Делать тут действительно нечего ночью. Утром, Серафим Иннокентьевич, зайдете к Уваровскому, пусть пришлет собаку. С проводником. И вернетесь.
Галайда тоже запросился домой, но узнав, что добираться до Корабля надо не на телеге, а пешком и что дорога мало чем лучше прямка, но зато в два раза длиннее, отказался.
– Только вы, Серафим Иннокентьевич, уж как приедете, позвоните моей, чтоб не беспокоилась. А я лучше тут, в палатке.
– А я в палатке не могу, – сказал Баянов. – После контузии боялся в палате спать, на балкон выносили. Болезнь есть такая – боязнь закрытого пространства. Долго это было. Потом привык. Но опять же в чужой избе не могу уснуть, так – ночь промаешься... Только дома. Или вот так у костра. Так что поехали, товарищи!
– Коню надо пересапнуть, – сказал Демид Матвеевич. – Теперь уже все равно – часом раньше, часом позже... Вот только Лексей не выспится – пока порассказывает да Марея еще...
– Ты за меня не волнуйся, – сказал Алексей. – Меня еще на все хватит. Но с утра надо с подборником повозиться... Успею, – малость подумав, сказал он сам себе, – росы тяжелые ношли, пока высохнет!







