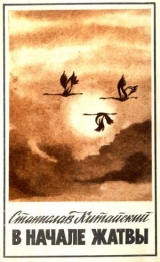
Текст книги "Повесть "Спеши строить дом""
Автор книги: Станислав Китайский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– Это давно было. Как он сам говорил, задолго до Указа. Может, и болел... Но по виду не скажешь – крепкий, как листвяк. Жаловаться никогда не жаловался. Скорей всего, ничем он не болел. Так мне кажется.
– А почему же пить бросил? Насколько я знаю, бросают только под страхом смерти. Вы не распивали там?
– Почти нет. У Витязева был коньяк, мы иногда так -символически. Григорий – ни на дух. Говорил, что длительный опыт показал несостоятельность этого эксперимента – поливать горе спиртом, чтобы скорее сгорело, а счастья, впрочем, как и истины, в вине нету. А радость только тогда радость, когда она естественна, а не вызвана дурманом. То есть он был убежденным противником спиртного. Впрочем, говорил, что сейчас в Прибалтике стало модным, понимаете – модным, не пить. И мода эта набирает силу будто бы. Говорил еще, что интеллигентному человеку просто стыдно должно быть сейчас хлестать водку. Время не то. У него тут целая теория была. И смысл ее сводился к тому, что если мы не бросим пить, то потеряемся как нация, что и требуется кое-кому... Да у него на все своя теория имелась. Может, это и держало нас возле него.
– Ну вот, так! – воскликнул Баянов, закончив ремонт трубки, по этому возгласу Владимир Антонович понял, что он успел надоесть Архангелу со своими откровениями. Баянов начал крутить ручку, но сигналы не доходили.– Где-то контакт отошел,– поставил он диагноз.– Давай теперь ты. А я схожу чего-нибудь поесть раздобуду. Время-то уже вона! Я быстро...
Однако сходить не удалось: под окнами затормозил милицейский «бобик». Баянов пошел встречать приехавших.
Владимир Антонович тоже хотел пойти, но тут же передумал: не они ему нужны, а он им, теперь они работники, а он так, свидетель. Но то, что он не пошел, ставило его в положение заранее подозреваемого, и это было нехорошо.
Первым в контору вкатился лысый человек в мокрой под мышками рубахе, поздоровался и кинулся к бачку с водой. Следом за ним, сильно наклонившись в дверях, вошел здоровенный мужчина в джинсовых брюках, с закатанными рукавами рубашки и в очках. Он чем-то походил на известного когда-то штангиста Власова, и Владимир Антонович так и окрестил его для себя – Штангист. То, что он был такой спортивный, модный и, главное, вызывающе молодящийся, говорило, что следователем он быть не может. Наверное, шофер, подумал Владимир Антонович. Шоферы у власть предержащих всегда наглы и представительны. А у этого и лицо еще какое-то не то равнодушное, не то брезгливое.
– Размыкин,– представился Штангист, – следователь. А это наш эксперт Леонид Федорович Галайда.
Владимир Антонович назвал себя. Следователь дольше, чем можно, задержал на нем взгляд и кивнул.
– Ну и жарища! – сказал, оторвавшись от кружки, эксперт. – Труп-то хоть в тенечке там где-нибудь? В такую жару... – Он стал говорить о неприятных сторонах своей работы, но Владимир Антонович не слушал его, вернее, слушал, но не слышал, не думал, что все, о чем говорит эксперт, имеет какое-либо отношение к Григорию, он все посматривал на ходившего по конторе богатыря, трясшего рубаху на груди, и убеждался, что ничего хорошего ждать от него не приходится. Он считал, что со спортсменами надлежит вести себя осторожно, потому что они из-за отсутствия чувства юмора всегда истолковывают все однозначно, а гипертрофированное самолюбие – без этого спортсменов не бывает – чуть что – приводит в действие механизм натренированных мышц, причем без злости, лениво эдак... Он никогда не испытывал на себе их умения, но знал достоверно, что это бывает, и всегда чувствовал себя с ними скверно. Этот, конечно, мышцы в ход не пустит, но и на ум его, видно, рассчитывать не надо. Слишком спокоен он, не по-живому спокоен. Ему все известно наперед. До скончания века.
Баянов коротко и толково изложил суть дела, причем выходило, что дело это выеденного яйца не стоит. Следователь выслушал его и согласился:
– Умер так умер. Мы тут при чем? Зачем вы дезинформировали нас? – обратился он к Владимиру Антоновичу.
– Потому что они решили, что, возможно, Чарусова кто-то убил. Мне кажется, они поступили правильно. Надо посмотреть, чтобы после не пожалеть, а то оно как бывает! – сказал Баянов. – Лучше посмотреть.
– Труп-то все равно нам поднимать, – сказал эксперт, –не в постели человек умер. Служба у нас такая, Анатолий Васильевич. Надо ехать!
– Понятых надо захватить, – сказал следователь Баянову.
– А зачем их везти? – возразил участковый. – Демид Матвеевич Макаров – конюх, я его с телегой послал туда, это раз, а там Алексея Перевалова возьмем. Вот и все.
Следователь все больше не нравился Владимиру Антоновичу: банковский доклад выслушал молча, рассеянно глядя в окно, ни одним вопросом не перебил; на него, Владимира Антоновича, ноль внимания, будто он и вовсе ни при чем; ехать ему не хотелось, дело не заинтересовало... Каким хотел бы видеть следователя Владимир Антонович, он и сам не знал, но только не таким. Этот Размыкин слишком уж самозначительный, никаких тайн для таких не существует, адреса бога и черта у него в кармане, и вина того и другого у него уже доказана...
– Мы ничего не упустили, Леонид Федорович? – спросил следователь эксперта, будто не он, а эксперт был главный здесь. – Нет? Ну, тогда поехали. Вы с нами или на своем вороном? – поинтересовался он у Баянова.
– Зачем мотоцикл зря гонять, – ответил Баянов и засмущался, что выразилось только в том, что он отвернулся от следователя – на детском лице его не отразилось ничего. – С бензином туго.
Всю дорогу Баянов что-то объяснял лысому эксперту, тот вытирал несвежим носовиком голову и соглашался с ним, но о чем они говорили, до Владимира Антоновича доходило плохо. В машине было душно, откуда-то снизу пробивалась пыль, лезла в ноздри, скрипела на зубах, и Владимир Антонович старался дышать реже, подолгу задерживая воздух в груди, и только когда в дверцу косо врывался ветерок, он жадно и торопливо хватал его, и казалось, что только тем и был занят. На самом же деле он ни на минуту не прерывал мысленного спора с Размыкиным и даже побеждал в этом споре, то есть доказывал свою непричастность к гибели Григория, но достаточно было ему взглянуть на крутые плечи и модно подстриженный затылок следователя, как всякая уверенность исчезала. Он знал, что тот тоже проделывает нелегкую мысленную работу и проделывает ее профессионально, без всякого душевного смятения, как шахматист анализирует дома отложенную партию, я поэтому шансов выиграть у Размыкина неизмеримо больше.
Конюха они догнали уже в лесу, но было ясно, что, пока он доберется до места, стемнеет.
– Ты чего спишь? – крикнул ему, приоткрыв дверку, Баянов. – Гони веселее, не к куме едешь! На Шебарге, у ключика, встретим!
Старик что-то крикнул в ответ, но его никто не услышал – машина резко рванулась и понеслась по еще широкой и гладкой дороге, оставляя за собой длинный шлейф пыли.
У Корабля навстречу им вышел из-за куста Алексей, будто все время и ждал тут, и не ушел с дороги, пока «газик» не остановился.
– Здорово! – весело приветствовал его Баянов. – Через ручей проедем?
– Сядете, – сказал Алексей, – там и на телеге сядешь. Конь-то идет?
Владимир Антонович успокоил его, сказав, что конюх скоро подъедет, и поспешил отвернуться от пытливых Лехиных глаз.
– Демид не поторопится, – с упреком сказал Алексей, – часа три протащится. Как же убийцу в тайге искать будете? – вдруг весело обратился он к следователю. – Тайга большая!
Размыкин смерил его взглядом и промолчал.
– Найдем, – ответил за него Баянов. – Как идти лучше – по зимнику или по тропе проберемся?
– По тропе ближе, да там свернуть вовремя надо. Помнишь сворот? – спросил Алексей. – Там лес спустили, от камня бери на болотину, на сухую листвень, под ней кладь.
А то купаться придется. Да че тебе говорить, сам знаешь.
– Вроде знаю, – согласился Баянов. Он был из местных и раньше хорошо знал эти места, а теперь бывал тут только по снегу, на загонных охотах, и мелкие приметы порядком подзабыл. – Не заблудим. Ты нас, Леша, поведешь. Понятым будешь. Понял? Скажи своим женщинам, чтобы не ждали тебя. Возможно, задержимся.
– А может, лучше по зимнику? – неуверенно сказал эксперт, когда Алексей ушел на голоса женщин. Эксперту предстояло тащить увесистый чемоданчик с инструментом, да и ходок из него неважный, а тут болото, кочки... – По зимнику хоть дорогу видно, – предположил он. Но ему не ответили.
Следователю очень не хотелось вылезать из машины, хоть и сидел он легко, как сидел всю дорогу – с печатью независимости на широком лице, и смотрел даже весело.
– Пойдемте, Анатолий Васильевич, – обреченно сказал эксперт, – день не стоит, солнце не пасется. – Он взял с сидения свой чемоданчик и поставил его у ноги на траву. Вздохнул.
Когда вернулся Алексей, Размыкин легко выскочил из машины, достал свой следовательский портфель, постоял, шумно выдохнул воздух через круглые ноздри, повел плечами и кивнул: пошли!
– Слушай, начальник! – остановил его Алексей. – Мы с тобой не встречались в Кержатуе лет пятнадцать назад?
– Встречались, Леха, встречались.
Идти было легко, даже приятно. После машинной духоты дышалось легко, свободно. Пахло смолкой и разогретым листом. Но вскоре дорога перешла в тропинку, которая тоже вдруг кончилась, потонув на десятка два метров в осочистых кочках безруслового ручья. Затем она снова объявилась, пошла гладкая, усыпанная коричневой хвоей, и эксперт, успевший почерпнуть в туфли мутной торфяной воды, весело жаловался на несправедливость судьбы, всегда умеющей между медом всучить человеку ложку дегтя.
– Но самое обидное, – философствовал он, обращаясь к шагавшему за ним Владимиру Антоновичу, – что иной, хлебнув эту ложку дегтя, потом уже вкуса меда не понимает, у него везде – деготь. Встречал я таких, и немало, сами понимаете – не с ангелами дело имеем. Надо всегда помнить, что мед существует, что он не призрак, а реальность. Нет, я не бодрячок, которому все нипочем. Разница между оптимистом и бодрячком в том, что оптимист принимает мир, как он есть, с медом и с дегтем, а бодрячок не знает вкуса ни того, ни другого. Живи себе трезво, без загибов, не сотвори себе кумира ни из радости, ни из беды... Вот вам сейчас все в черном свете представляется, а это не так. Жизнь есть жизнь.
Владимир Антонович слушал эксперта, но не верил ему. Этот уже не молодой и слабый человек рассказывал о себе таком, каким хотел бы быть, а в жизни он скорей неудачник, и жена заставляет его трясти половики, а мед у него – только вот такие редкие минуты освобождения от работы, от семьи, от властных распоряжений начальства, и впереди ведь это, и больше ничего. И Владимир Антонович
разом не поверил в его профессиональное уменье, будь он мастером своего дела, мастерство само подняло бы его над всеми неурядицами, заставило бы уважать его. А так придумывай сам себя, доказывай, что дважды два – сколько начальству нужно, и все – мед.
Тропинка спустилась на закраек болота, и идти стало труднее, ноги запутывались в густой траве-метлице, тонкой и крепкой, как шелк, комары налетали тучами, и маренговый форменный китель Баянова стал от них похожим на джинсовую куртку следователя – выгоревшим, серым. Размыкин не обращал на комарье внимания, только изредка делал перед носом дамское движение пальцами. От предложенной «дэты» отказался – видно, чтоб не быть ничем обязанным подследственному. А эксперт лил лосьон на лицо часто и помногу, но все равно чесался и раздраженно ругал тайгу со всеми ее обитателями. То, что следователя и Леху комарье не трогало, особенно возмущало его.
Они шли вместе, плечо к плечу – здоровенный Размыкин и небольшой, щеголеватый в своем рабочем наряде тракторист, что-то вспоминали давнее, но важное для обоих и сейчас, наболевшее, потому что время от времени у них вырывались из речи звучные словечки, и Владимиру Антоновичу вдруг подумалось, что именно эти словечки отпугивали кровопийц, по крайней мере, ни следователь, ни Алексей ни разу не шлепнули себя но лицу, и он сказал об этом эксперту.
– Заговоренные они, что ли? – ответил эксперт. И повторил вопрос криком: – Почему вас комары не жрут, Анатолий Васильевич? Откройте секрет!
– Мы с Лехой заговор знаем, – отозвался Размыкин. – Вам он не поможет.
Когда свернули в болото, эксперту пришлось совсем худо. Леха и Владимир Антонович с Баяновым пошли как бы еще легче. Перепрыгивая с кочки на кочку, умело пользуясь извивами, они далеко отрывались от спутников и подолгу поджидали их. Размыкина подводила спортивность. Сделает три-четыре ловких прыжка с кочки на кочку, потом промахнется, взмахнет руками и всей тяжестью своего тела вштопорится меж кочек, полежит, встанет и прыгает дальше, придерживая очки и делая вид, что ничего не случилось. Эксперт же падал и увязал так часто, что больше полз на четвереньках. И когда добрались до речки, он зашел прямо в воду, благо терять было нечего, долго пил из пригоршней, плескал в лицо, устало, шумно фукал.
– Какой черт вас занес на эти кулички? – наконец крикнул он Просекину. – Чего понадобилось? Хрен ли вы здесь делали?
– Дом строили, – ответил Просекин.
– Чего? – изумился тот, застыв на секунду в позе мокрой курицы. – Дом? Ну это идиотизм! Хе, дом! – и он засмеялся, роняя с подбородка частые капли.
И то, что эксперт почти слово в слово повторил Баянова, рассмешило Владимира Антоновича.
– Экие вы стандартные! – сказал он, – Чуть что, сразу – «идиотизм»! Впрочем, все непонятное почему-то всегда кажется «идиотизмом».
Ему не возражали.
Когда добрались до излучины, где лежало тело Чарусова, солнце уже висело над самым хребтом, жара спала, лесные запахи усилились, и голоса зазвучали округло и гулко. Зная, что Витязев должен находиться у трупа, Просекин окликнул его, дождался ответа и повел спутников на голос прямо по чаще. Размыкин широкими жестами разбирал ветки, будто плыл по зеленым волнам и шумно отпыхивался. Эксперт берег глаза, защурял их, прикрывая локтем, ветки больно хлестали его но лицу, и он беспрерывно матерился – устало и зло. Вдруг чаща кончилась, под ногами в редкой осоке захрустела, зашевелилась галька.
На берегу у маленького дымокура они увидели большую фигуру Витязева. Он зачем-то переоделся в форменную без отличий одежку, выгоревшую и несвежую, но так, видно, ему было привычней. Все облегчендо вздохнули, как будто все неприятности были позади.
– Что тут у вас стряслось? – спросил Баянов, пожимая крепко руку Витязеву. – Надо же...
– Да, неприятность, – согласился Витязев. По его виду можно было сразу понять, что он никакого отношения к происшедшему не имеет и только по недоразумению оказался здесь и это ему очень неприятно. – Извините, так получилось...
– Какие тут извинения, – отмахнулся Размыкин. – Вы в каком звании, Василий Георгиевич?
– Михайлович! Полковник.
– Где же ваш труп, полковник? – Размыкин тут же поймал себя на ошибке и неожиданно для всех рассмеялся: – Не ваш, конечно. Вашего приятеля, Григория Евдокимовича Чарусова.
– Его трупа тоже нет, – улыбаясь, сказал Витязев.
– Как – нет?
– Украли? – всполошился Баянов. – А может, медведь утащил? Какого хрена лыбишься? Где труп?
– Нету, – ответил Витязев. – Есть живой Чарусов. А где он, не знаю.
– Ты что, Вася? – насторожился Владимир Антонович. Мысль, что Витязев «чокнулся», вспыхнула в нем сразу и уверенно: идиотская усмешечка, несет черт-те что, в полковники себя произвел... Ему сделалось остро жалко Витязева, жальче, чем мертвого Чарусова: – Что с тобой? Ты же
солдат, Вася! – Владимир Антонович с мольбой посмотрел на ошарашенного эксперта и понял, что тот тоже думает так же, и перевел глаза на румяное лицо Витязева. – Повернулся! – наконец уверился он. —Этого только и не хватало! Теперь докажете, что он убил. А его, никто не убивал! Никто! Не убивал! Понимаете! Не убивал!
– У меня нет валерьянки, – спокойно сказал Размыкин, – не таскаю. И у Леонида Федоровича нету.
Это был не только призыв к Владимиру Антоновичу самому, но и замечание эксперту: чего тут ртом воздух хватать, все бывает, уважаемый товарищ Галайда.
– Может, расскажете, в чем дело, полковник?
Витязев вздохнул, стер с лица улыбку и будто этим же движением руки надел на лицо другую маску – спокойного и рассудительного военного.
– Если бы я знал, в чем это дело! Мистика какая-то... Так вот, когда Владимир Антонович ушел звонить вам, я остался здесь с... – ему явно не хотелось говорить «с трупом», он замялся, но нашелся: – Здесь, у Григория. Не знаю, сколько просидел, может, час или полтора. Да нет, меньше. Потом решил сходить на табор перекусить чего-нибудь – мы не завтракали, и, может, удочку прихватить: так сидеть, сами понимаете, действительно чокнуться можно. Когда вернулся, трупа не было. И следов никаких. Если бы медведь, он волок бы его. А так – ничего. Если кто-то скинул его в речку, то тело застряло бы вот тут же на перекате, а там – ничего. На том берегу тоже никаких следов. Значит, подумал я, тело унесли. Но трава не примята нигде, сквозь чащу тоже никто не продирался. Я решил, что его унесли по нашей тропинке к дому, и пошел туда.
– А сюда ты от дома возвращался не по тропинке? – спросил Баянов.
– По тропинке мы только во время рыбалки ходим, а так чего кружить? Напрямую проще и ближе. Берег ои и есть берег.
– А как долго вы были на таборе? – поинтересовался Размыкин.
– Не засекал. Пока чай вскипятил... Около часа, наверное.
– Ну, ну, дальше! – поторопил его Баянов.
– Вернулся к дому. На палатке висела записка: «Ушел на почту». Знаете, как в газетных киосках. У нас такая шутка была, Григорий ходил «на почту», то есть если он отлучался в деревню или за ягодой, за грибами, то вешал эту табличку.
– Так табличку или записку? – спросил Размыкин.
– Табличку. Из бересты. Сами увидите. У меня тоже своя была... У Просекина – «Ушел на базу».
– Почему на базу?
– Он носил у нас звание баталера. Хозяйничали же мы все но очереди.
– Ну, ну, и дальше!
– Дальше эта табличка продолжает висеть на пологе палатки.
Размыкин достал сигареты и закурил. Остальные с любопытством следили за его неторопливыми движениями, будто по ним пытались отгадать, что же будет дальше.
– Вот такие дела, – подытожил следователь. —Что будем делать, Леонид Федорович? Вам не кажется, что эти двое дураков из нас делают?
Эксперт пожал плечами и сплюнул.
– А утром таблички не было? – спросил следователь.
– Да вроде не было. Точно не скажу, – засомневался Витязев.
– Не было, – твердо сказал Просекин. – Точно, не было. Я бы увидел. Ее кто-то потом повесил, чтобы с толку сбить. Надо отпечатки пальцев снять.
– А вы что предлагаете, товарищ участковый? – не слушая его, спросил следователь, поняв, что места для шуток здесь нет.
– Ждать предлагаю. Здесь догонять – дело дохлое.. Ждать надо, – твердо сказал Баянов.
– Чего ждать? Или кого ждать?
– А хрен его знает. Ждать, и все!
– Кутузов! – сказал в его адрес Размыкин. – Что ж, будем ждать. Дотемна осмотрим место происшествия. Да смотрите, осторожнее. Завтра еще раз осмотрим. Палатку тоже надо будет осмотреть. Все надо осмотреть. А ничего не хочется. Хочется только спросить у вас, уважаемые, – обратился он к Витязеву и Владимиру Антоновичу: – А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было?
– Был, – ответил за них Баянов. – Был мальчик, сорока пяти лет. А куда делся? Из палатки пропало что-нибудь?
Этого ни Витязев, ни тем более Просекин не знали.
Размыкин огородил предполагаемое ложе тесьмой и объявил, что всем предстоит некоторый променаж. Он разбил группу на три пары – эксперта поручил Витязеву, Баянову придал Алексея, а сам припарился к Владимиру Антоновичу с тем, чтобы провести предварительный осмотр местности хотя бы в коротком радиусе. Он тут же назвал всем примерные ориентиры района, который надо было прочесать сначала вдоль речки, а потом поперек.
– Если обнаружите какие-либо следы, огородите их. Если найдете труп, близко не подходите, зовите меня. Ходить парами, друг от друга не дальше четырех-пяти шагов.
– Не доверяете? – подметил Леха.
– Не доверяю. Никому из вас троих не доверяю. Еще вопросы? Нету. Тогда пошли. Держаться на расстоянии видимости.
– Слышимости, – поправил его Архангел. – На расстоянии слышимости. Увидеть мы друг дружку не увидим, особенно в чаще.
Следователь согласился с ним.
– Вы думаете, что-нибудь найдем? – спросил Владимир Антонович, когда они-оказались одни.
– Вряд ли. Но следы можем обнаружить. Хоть какие-то. Не улетел же труп по воздуху.
Размыкин пытался во время поиска поговорить с Владимиром Антоновичем об исчезнувшем покойнике, но вскоре понял, что это было исключено. Непролазная чаща – стомережкая сеть из черемухи, тальника и елочек, где пробраться можно было только сжав зубы и приглушенно матерясь, сменялась высокой, по пояс, кочкой, так искусно замаскированной шелковистой осокой, что провалы обнаруживались только под ногой, когда ухнешь туда со всего размаха. Какие тут разговоры! Несколько раз Размыкин с Владимиром Антоновичем натыкались на свежие козьи лежки, нашли пару гнездовий ястреба-тетеревятника с остатками птичьих перьев и костей на мху, подняли глухаря, но ни медвежьих, ни человечьих на бродов не обнаружили.
У других результаты были не лучше. Променаж явно затягивался. Пары то сходились, то разбредались слишком широко, перезвукивались.
Бессмысленность прочесывания была ясна всем. Следователю яснее других. Он знал, что если убийца даже наступит на труп, то не издаст ни звука, а шагающий рядом не заметит ничего: рослый Витязев несколько раз на его глазах, в трех метрах, исчезал в осоке, будто испарялся, и возникал снова, как чудотворное явление. Но распоряжение не отменялось.
Наконец эта адская работка была закончена, и все снова собрались на месте, где был обнаружен утром Чарусов.
– Все, больше ни шага! – заявил эксперт, падая на гальку, – сейчас подохну. Верно говорят: бог создал лес, а дьявол болото. Здесь дивизию можно спрятать, не то что труп. Собаку надо, Анатолий Васильевич.
И все согласились, что собака незаменима.
– А может, Тришка уже на таборе? – спросил Витязев Владимира Антоновича. Владимир Антонович устало хмыкнул и отвернулся: он и сам придумывал и отвергал версию за версией, но такой глупости понять не мог.
– Серафим Иннокентьевич, идите с людьми на табор, поработайте, – сказал Архангелу следователь. – Считайте, что постановление о производстве обыска вынесено. А мы тут уж с Леонидом Федоровичем. С богом! Владимир Антонович, вы останьтесь, возможно, пригодитесь. По крайней мере, к табору проведете. А пока посидите, отдохните.
Владимир Антонович отошел в сторонку и лег.
– И чем могу? – спросил Леонид Федорович, когда они остались со следователем вдвоем.
– Чем? Да ничем. Вот пофотографируем, зальем пастой следы, порисуем, составим протокол... Все так, для очистки совести. Здесь сплошные негативные обстоятельства, как пишут в учебниках. Единственное, что помогло бы нам, так это сплошное прочесывание местности. Попробуй-ка прочесать! А надо будет... Но это уже не ваша забота, Леонид Федорович. Простите, что заставил вас мучиться. Вообще-то вы могли бы уйти, шофер нас будет ждать до десяти, но вы заблудитесь. Так что лучше остаться. Как вы думаете, что здесь произошло?
– Это думайте вы. Вы – следователь. Я только полагаю, что ни Просекин, ни Витязев не убивали Чарусова.
– И почему вы так думаете?
– Потому, что не убивали. Не те они люди. Кому надо было, тот и убил. Только не они. А труп, думаю, кто-то по речке спустил. Речка быстрая, спустить легко. Подцепи сучком и только направляй по течению. Он теперь, может, уже вон где!.. Здесь надо будет копать и копать. И ни до чего не докопаешься.
Это вы, Леонид Федорович, зря. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. А зачем переоделся Витязев, как вы полагаете?
– Ничего я не полагаю. У него и спросите... Вон еще вроде бы след, у борщевика. Да у пучки, у пучки, это она – борщевик... Я думаю, он переоделся только потому, что захотелось переодеться. А может, из соображения собственной безопасности. Вы замечали, что на людей в военной форме покушений почти не бывает? Вот то-то! Здесь психология: военный, он под охраной народной любви, дорогой Анатолий Васильевич. Вы в солдатах были?
– Это надо понимать, служил ли я в армии? – переспросил Размыкин, снимая круговую панораму и досадуя на облако, закрывшее закатное солнце. – Вот чего не знаю, того не знаю. Вообще-то я уже на шпалах – ношу звание майора.
– Майора?
– А что тут такого? Вон Витязев – полковник, а не старше меня. Светила мне и вторая звездочка, но не выдержал, не получилось. Я ведь, Леонид Федорович, многостаночник: был и «кумом», и начальником режима. И оперативником. Все было.
– Примите мои сочувствия!
– Да не в сочувствии дело, Леонид Федорович. Я жил интересно, но хлопотно. Не сочувствия достоин, а восхищения. Вы знаете, почему люди в разведку идут? Знаете, конечно. Высокий патриотизм, желание наилучшим образом послужить идее, принести максимальную пользу и так далее. Все это, конечно, так. Но здесь есть и еще один момент. Это возможность наибольшей самореализации как актера. Сыграть на сцене или в кино Штирлица – это одно, но для настоящего артиста это пшик!.. Сыграть, когда зрители, они же и участники спектакля, готовы в любую секунду, как только ты выйдешь из образа, поднять тебя на ножи – это совсем другое. То, что приходится играть нам, а я считал себя тоже разведчиком, да и был им, не сыграть ни одному народному. Правда, популярность не та, да и самоперерасход значительно больше. А компенсации почти никакой. Устаешь. И я сейчас вроде как на отдыхе.
– А почему бы вам не пойти в оперетту, например? Глядишь, на пенсию вышли бы незакатной звездой и все такое.
– Эксперт недопонимает. Профессиональный актер, допустим актер МХАТа, просто не может участвовать в самодеятельных спектаклях. Не тот уровень художественности. Ему самодеятельность смешна до трогательных слез. А самолюбие куда денешь? А честолюбие? Не только профессиональное, но просто человеческое честолюбие? Актеры всех уровней честолюбивы, как павлины. Я тоже. Так что оперетта отменяется.
Работа продвигалась медленно, и для наблюдавшего Владимира Антоновича казалась не работой, а почти ненужным времяпрепровождением: примеры, замеры, слепки... Но надо было ждать.
Когда осмотр места был закончен, Размыкин вдруг изменился на глазах, снова стал большим и ленивым, из юродствующего сыщика превратился в обычного Слонопотама, как обозвал его еще по дороге Леонид Федорович. Эксперт рассказала Владимиру Антоновичу, что кто-то из женщин однажды окрестил Размыкина Слонопотамом и кличка прижилась: он был, вернее, казался слишком большим и толстым, а оттого и неуклюжим, как слон в посудной лавке, хотя никогда ничего не задевал, не натыкался, не разбивал, но все ожидали, что это вот-вот должно было произойти, и «слонопотам» гуляло из уст в уста. Как и Владимиру Антоновичу, эксперту когда-то Размыкин с первого взгляда показался наивным и недалеким, а главное – бесхарактерным. Возможно, что впечатлению этому способствовали большие и, наверное, сильные очки: когда он снимал их, лицо становилось глупым и беззащитным. «А на самом деле он умен! – с восхищением добавил эксперт. – Это у нас каждый на себе убедился. Прикидывается все, прикидывается...» Эти слова вспомнились теперь Владимиру Антоновичу, но уже совсем в другом свете: прикидывался следователь только потому, что, собственно, следователем никогда не был и ждать от него можно чего угодно.
– Да, интересно все это у вас сложилось, Анатолий Васильевич, – говорил между тем эксперт. – А позвольте узнать, почему вы решили, что вам удастся роль следователя?
– Я об этом всю жизнь мечтал. Из армии, я в пограничниках служил, поехал в высшую школу милиции, чтобы быстрее следователем заделаться. Но не вышло – начальству всегда виднее. Потом заочно юрфак. Рекорд поставил: десять лет учился. Опять-таки чтобы стать следователем. Но по особо важным... И вот – пожалуйста!.. Впрочем, я этим все время только и занимался. Ну, не совсем этим. Но прошу учесть, в исключительных условиях. И вот портфеля с игрушками не было. Больше так – индукция-дедукция. И еще – никаких протоколов. В роли следователя мне не нравится больше всего бумагомарательство. Я за всю жизнь столько бумаги не исписал, сколько за эти три месяца. Потому с трепетным уважением отношусь сегодня к безвременно исчезнувшему Григорию Чарусову, каторжнику чернильницы и пера, а может быть, пишмашинки и диктофона. Вы читали что-нибудь из его произведений?
– Слушайте, – взмолился эксперт, – пойдемте к костру. Заели эти сволочи, спасу нет. Вас они не трогают, вам хорошо...
– Я с ними в кежемских лесах мирный договор подписал. Правда, неравный: они меня жрут, а я их не трогаю. Нервный расход меньше. И нет такого уж зуда. Так вы не ответили, читали?
– Нет, – сознался Леонид Федорович. И тут же посетовал: – На классику времени не хватает.
– Я тоже не читал. Да, действительно, лучше классику. Впрочем, современных надо читать, хотя бы своих местных. Особенно мне – ведь с кем дело имеем? Народ в большинстве одномерный, жизни не знает, живет легендами и надеждами. Но из писаний современников я тоже мало чего узнал. Так!.. Такого навыдумывают, такого понапишут – где и берется! Все норовят посложнее, позаковыристей, а получается пустота. Хотелось бы поговорить об этом с нашим Чарусовым... Вы не заснули там Владимир Антонович?– спросил он, не повышая голоса. Владимир Антонович понял, что следователь хочет удостовериться в том, что он слышал весь их разговор, и сказал так же тихо:
– С вами уснешь!.. Один тут уже уснул, а где он? .
– Ну, тогда ведите к себе. Темнеет что-то быстро.
Они пошли по следам баяновской группы и через несколько минут вышли к табору.
Рядом с большим срубом, увенчанным фронтонными стропилами, стояла двухместная палатка, светились свежетесаные бревна, горел костер, где над таганком колдовал Витязев. Баянов что-то писал, разложив бумаги на длинном столике, сооруженном из широкого сколота на березовых столбиках. Меж деревьев висели длинные низки грибов, вялилась рыба, укрытая от мух тюлем. Щепа была сложена в аккуратные поленницы, и все вокруг было вроде как подметено. Кострище окопано по всем плакатным правилам. То есть стройка, по словам Размыкина, оказалась меньше всего похожей на настоящую стройку с ее милым сердцу безобразием, а все на тот же противопожарный плакат, нарисованный пунктуальным художником. И эта невсамделишность, чистота и порядок свидетельствовали для Размыкина не что иное, как глупую игру, которая велась здесь жировавшими бездельниками. Но сруб был настоящий, бревна лежали ровно, по ватерпасу, углы пригнаны по отвесу, без зазоров, так что мха было не видно, и пазы были выбраны достаточно глубоко, по профилю нижнего бревна и вроде бы тоже без мха, но он прокладывался и прокладывался хорошо, как следовало. Размыкин неторопливо обследовал каждый венец, но изъяна нигде не нашел – на совесть поработали мужики. С чего-то вдруг ему вспомнился барк, вытащенный из моря на ялтинскую набережную и отданный под питейное заведение. Вспомнился, наверное, потому, что Размыкину было жалко корабля, отреставрированного искусными краснодеревщиками и обреченного на такую бесславную участь, и теперь эта жаль возродилась в душе при виде ювелирно сделанного сруба, о чем он не преминул поставить в известность сопровождающего его Владимира Антоновича. Потом он так же обстоятельно осмотрел снаружи палатку, повертел в руках табличку с надписью: «Ушел на почту» – это была не табличка, а изящная миниатюрка. Сливочный прямоугольник бересты, будто разлинованный природными черточками, был распялен на легкой дощечке ровно, без горбинок и вздутий с помощью сосновой проваренной смолы и прибитый мелкими деревянными гвоздиками, штифтами, какими когда-то сапожники подбивали сапоги, но прибитый так, что «головки» штифтов образовывали простенький, изящный орнамент. Надпись была строгая, как табличка «Мест нет» на столике гостиничного администратора, написали ее толченым углем, замешанным на той же живице, довольно толстым слоем, и буквы, очерченные каким-то острым предметом, казались выпуклыми, налепленными, объемными, так что, будь эта табличка действительно в каком-нибудь газетном киоске, люди специально подходили бы рассматривать ее и нисколько не возмущались бы отсутствием киоскера: табличка как бы утверждала, что владелец ее имеет самое законное право никогда не опускаться до присутствия быть на месте.








