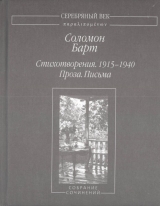
Текст книги "Стихотворения. 1915-1940 Проза. Письма. Собрание сочинений"
Автор книги: Соломон Барт
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
У Барта, в сборнике «Душа в иносказаньи», есть то, что можно было бы назвать лирическим содержанием. Ему есть о чем писать. Стихи его даже как будто изнемогают под напором всего того, что поэт хотел бы в них вложить, – но остаются все-таки живыми. Среди книг последнего времени это одна из тех, которые действительно что-то «обещают» – хотя автору и надо еще много поработать (в особенности над русским языком) и от многого отделаться. Но работа, вероятно, будет плодотворной. К Барту уже и теперь довольно часто приходят слова, которых никак не ждешь – и которые сразу принимаешь, как нужные, верные, незаменимые[32]32
Георгий Адамович, «Стихи», Последние Новости, 1936, 13 февраля, с. 2.
[Закрыть].
Хотя – в отличие от обширной «монографической» статьи Гомолицкого 1933 г. – в парижской прессе отзывы на поэзию С. Барта появлялись только в составе обзорных статей, эти скупые оценки свидетельствовали о вполне серьезном отношении к новой фигуре в эмигрантской поэзии. Более того, если деятельность Гомолицкого в середине и конце 1930-х годов приносила ему известность, главным образом, в поэтических кругах Праги и «лимитрофов», то есть в центрах, оппозиционно настроенных по отношению к Парижу, то, как ни редки были отклики на стихи Барта в «столичных» изданиях, он всё же там упоминался чаще, чем любой другой русский варшавский литератор.
К моменту выхода книги Барта Письмена он разошелся со всеми – кроме В. С. Чихачева – прежними друзьями в варшавских русских литературных кругах. Этим объясняется бойкот им одного из самых честолюбивых проектов Льва Гомолицкого – Антологии русской поэзии в Польше, выпущенной осенью 1937 года. Составитель ее так сообщил об этом:
Не обошлось при собирании материалов и без странностей. Два поэта прислали письмо с требованием не помещать их стихотворений в антологию. Это – В. С. Чихачев и С. Барт. Последний объяснил свой отказ «опасением» нарушить своими стихами «литературную однопланность» (?!) сборника. Видимо, оба автора считают ниже своего достоинства фигурировать в антологии русской поэзии в Польше[33]33
Н., «Антология русской поэзии», Меч, 1937, № 34 (170), 5 сентября, с. 7. В Мече Лихачев задержался дольше Барта – он печатался там до конца 1936 года. Но выступив 12 декабря 1936 г. с докладом о том, «Что такое настоящая литература», он «взял на себя неблагодарную миссию развенчания признанных обществом варшавских поэтов» (и, в частности, подверг нападкам Е. Вадимова и Г. Соргонина). См.: «Доклад В. С. Чихачева», Меч, 1936, № 51,20 декабря, с. 7. В 1939 г. в своем обзоре эмигрантской русской поэзии, в значительной степени написанном под влиянием разговоров с Гомолицким, Барта выделил польский литературный критик Юзеф Чехович. См.: Józef Czechowicz, «Muza wygnańców», Pion. Tygodnik literacko-spoleczny (Warszawa), Rok VII, nr. 3 (276), 22 stycznia 1939 roku, s. 4.
[Закрыть].
Нелегко разобраться в поэтической биографии Барта, как она обозначена его книжками. Действительно, тот факт, что Душа в иносказаньи названа второй книгой стихов, подтверждал, что отсчет велся от Камней… Теней…, и ни Флоридеи, ни тем более Стихи 1933 г. во внимание браться не должны были. Тем страннее, что вышедших накануне войны Ворошителей соломы автор вдруг определил как книгу пятую, включив первым номером в приложенную библиографию старую московскую книгу. Но это влекло за собой путаницу в ином отношении: дело в том, что Письмена, вышедшие из типографии в ноябре 1935 г., рассматривались автором не как сборник стихов, а как «поэма». Так именно именовалась она в отчете о последнем публичном собрании Литературного Содружества[34]34
При перечислении участников литературной части вечера в статье говорилось: «С. Барт, отрывки из поэмы которого „Письмена“ прочел Г. В. Семенов». См.: «Вечер Литературного Содружества», Меч, 1937, № 11, 21 марта, с. 7.
[Закрыть]. Поворот к «большой форме» у Барта произошел параллельно аналогичному переходу от «миниатюры» к эпосу у Гомолицкого. Поэма последнего «Варшава», вышедшая летом 1934, обратила на себя внимание как А. Бема, так и «парижан»[35]35
Wiktor Skrunda, «Echa „gniewnych jambów“ w poemacie Lwa Gomolickiego „Warszawa“ (1934)», Studia Rossica. XI. Puszkiniana. Literatura rosyjska dawna i no a. Leksyka i leksykografia. Paremiologia i paremiografia. Pod red. Wiktora Skrundy i Wandy Zmarzer (Warszawa, 2000), s. 187–197; Л. С. Флейшман, «Пушкин в русской Варшаве», Пушкин и культура русского зарубежья. Международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения. 1–3 июля 1999 г. (Москва: Русский Путь, 2000), с. 109–143.
[Закрыть]. Но у Барта процесс этот так и не привел – ни в Письменах, ни в Ворошителях соломы – к обособлению «поэм» от «лирического цикла». Несмотря на упорные попытки по созданию «большой формы», Барт, «поэт-мыслитель», как называли его современники[36]36
Л., «Вечер Литературного Содружества», Меч, 1936, № 8,23 февраля., с. 6.
[Закрыть], остался в принципе лириком.
Статьи С. Барта подтверждают впечатление о полной его самостоятельности и свободе мысли, глубокой продуманности и авторитетности выражения литературных позиций и суждений. Исключительный интерес представляет собой и дошедший до нас образец художественной его прозы – «Дуэль»: это не столько беллетристика с упором на фабулярное развитие темы, сколько повод для интроспекции и рефлексии, своеобразное продолжение его эссеистики.
По странной иронии судьбы, последний варшавский сборник Барта, Ворошители соломы, вышедший весной 1939 года, постигла столь же грустная участь, как и самый первый, московский. Он и существует и не существует одновременно: почти весь его тираж погиб в пламени войны[37]37
В отзыве о литературных материалах, помещенных в июльском выпуске Русских Записок 1939 г., Г. Адамович писал:
С. Барт, поэт, живущий в Варшаве, мало у нас известный, очень своеобразный и «трудный», представлен двумя стихотворениями – а по двум стихотворениям судить о нем нельзя. Что стихи не пусты, почувствует, вероятно, всякий. Но кто хотел бы уловить музыку того «высокого косноязычья», которым Барт одержим, должен прочесть его сборники. О последнем из них – «Ворошители соломы» – надеюсь вскоре поговорить.
– Георгий Адамович, «Литература в „Русских Записках“», Последние Новости, 1939, 3 августа, с. 3. Намерение свое Адамовичу осуществить не пришлось.
Более суровой была оценка В. В. Богдановича, видного русского церковного деятеля в Вильно, заявлявшего в своем суммарном газетном отклике на все четыре варшавские книги Барта:
Не лучше ли было бы из четырех-пяти книжек сделать одну, но такую, где всё было бы понятно, если не уму, то хотя бы чувству читателя, а то наряду с очень хорошими стихами встречаешь и странные по форме, и еще более темные по содержанию. <…>
Нет веры, нет огня, нет истинного вдохновенья; подъема. В «тусклом сознании» лишь мутные образы, «сердце каменно молчит», а «протест» против потерянного рая выражается лишь в «ворошении» стихотворной соломы и странных словесных выходках.
– В. В. Богданович, «„Чахлое сознание“ (Поэзия С. Барта)», Русское Слово (Вильно), 1939, № 87 (2205), 15 апреля. Цит. по публикации П. Лавринца в Интернете: www.russianresources.lt/archive/Bogdanovich/Bogdan_3.html.
[Закрыть]. Стихи, написанные после Ворошителей соломы, поэт думал объединить в новый сборник Тяжелый бег. С мыслями о будущем, посмертном издании Барт уходил из жизни – см. его письмо к Г. Семенову из гетто.
Варшавские книги Барта воочию демонстрируют не только резкий перелом по отношению к российским дебютам, но и беспрерывный рост на протяжении 1930-х гг., напряженность, интенсивность исканий. Осуществлялись они на столь высоком художественном и духовном уровне, что, несомненно, вызвали бы внушительный резонанс, имей Барт вокруг себя литературную среду, сходную с тем, которую в Праге создавал «Скит поэтов». Но все усилия Гомолицкого по консолидации молодого поэтического поколения «восточноевропейской оси» с центром в Варшаве остались, в конечном счете, безуспешными. А с другой стороны, Барт по всему своему психологическому складу оказался органически неготовым к тем компромиссам, которых требовала бы такая среда. В результате, несмотря на то, что известность Барта за пределами Варшавы росла по мере выхода каждой новой книги, литературное его одиночество усиливалось, и он как бы снова оказывался выталкиваемым за пределы литературной жизни. На этом фоне и следует рассматривать его сближение с приехавшим из Праги Дмитрием Гессеном. Получив через него от автора Душу в иносказаньи и Письмена, В. Мансветов так отозвался о них:
<…> О Барте. – Он, конечно, «настоящий поэт», и мне не хотелось бы говорить о нем глупость, но, если бы я взялся писать критику на его стихи, я «изругал» бы его со всею беспощадностью, на какую только способен. Блок как-то вскользь обмолвился об одном (и, может быть, самом главном) назначении поэзии «строй находить в нестройном вихре чувства». У Барта налицо «вихрь чувства», но «строй» его не ясен (не найден). Он на редкость «неорганизованный» поэт, его стихи – это собрание черновиков, обрывков, набросков, под которым всё время хочется видеть надпись «не отделано и не кончено». Читая его, я принужден непрерывно что-то отгадывать (что за стихами, – что может быть за ними и чего не видать), что-то откапывать из-под вороха риторического хлама и груды самых непростительных, самых безалаберных и вызывающих на резкость безвкусиц и пошлостей. Право, это нелегкий и невеселый труд, – читать Барта. А «отмахнуться» нельзя, – нельзя не почувствовать, что это «настоящий поэт», что за всем этим «мусором», где-то очень глубоко спрятанный, тлеет тот самый «тайный жар», без которого невозможна никакая поэзия (да и никакая жизнь) и который в конечном счете «оправдывает» или, во всяком случае, «извиняет» всё.
Я от души желаю ему долгой жизни, может быть, он все-таки найдет свой строй, и тогда, возможно, окажется, что он не только «настоящий», но и в чем-то «значительный» поэт.
Мне некоторые его стихи говорят много («по-человечески»), другие раздражают, третьи вызывают улыбку (нет, нет, совсем не обидную, – скорей «завистливую», недоверчивую: «ишь ты, „вихрь“-то какой»), Очень меня занимает его странный и яростный «роман с Пастернаком» (особенно в «Письменах»), о чем я мог бы написать очень много.
Как Р. S. к Барту: от его стихов без ума Коля Терлецкий, который слезно просил меня достать ему как-нибудь книжку «Душа в иносказаньи». О том же меня просил и Бем. Но что я могу? Обратиться к Вам (через Вас – к Барту) покорнейше…[38]38
Письмо В. Мансветова Д. Гессену от 7 мая 1938. Архив Д. С. Гессена. Literárni archiv Památniku Naródniho pisemnictvi v Praze.
[Закрыть]
С. Барт умер в гетто 14 августа 1941 года[39]39
Могила его сохранилась. См.: http//cementary.jewish.org.pl. Эту справку мне предоставил Pjotr Mitzner.
[Закрыть].
Донесенные до нас Д. С. Гессеном сведения о последних годах и днях жизни Барта воссоздают человеческие свойства поэта, в корне расходящиеся с портретом, нарисованным в «Китайских тенях» Георгия Иванова. Познакомился Гессен с Бартом на закате его жизни, когда тот оказался снова в полном литературном одиночестве. Он навестил Барта в начале 1938 г., вскоре после переезда из Праги, явившись к нему по поручению В. Мансветова. Знакомство переросло в тесную дружбу, окрасившую последние годы жизни поэта. Д. Гессен собрал и сберег его стихи, в том числе рукописи самых последних недель жизни, – замечательные по лирической силе документы, бросающие глубоко трагический свет на всё его творчество.
Д.С. родился в Петербурге 25 июля 1916 г. в семье выдающегося русского философа Сергея Иосифовича Гессена (1887–1950)[40]40
А. Валицкий, «Сергей Гессен: философ в изгнании», в кн.: С. И. Гессен. Избранные сочинения (Москва: Росспэн, 1999), с. 3–28.
[Закрыть]. С. И. Гессен был сыном политического и общественного деятеля, сыгравшего крупную роль в России и в эмиграции, в 1920–1930 гг. бывшего редактором берлинской газеты Руль, И. В. Гессена[41]41
См. о нем: В. Ю. Гессен. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика (С.-Петербург, 2000).
[Закрыть]. В сентябре 1917 г. семья Сергея Иосифовича – жена, Нина Лазаревна (урожд. Минор), и двое сыновей, Евгений и Дмитрий, – переехала в Томск, где он был избран деканом историко-филологического факультета и где они пережили Октябрьскую революцию и гражданскую войну. Зимой 1921 г., вернувшись в Петербург, они выехали в эмиграцию и после нескольких лет в Берлине поселились в Чехословакии. Д. С. четыре года провел в Тюрингии, где учился в школе-интернате, а по возвращении в Прагу поступил там в немецкую гимназию. Вспоминая о пражских годах, Д. С. называл коллег и друзей отца, людей, оставивших глубокий след в русской интеллектуальной жизни эпохи, которых ему довелось видеть в их доме, – Д. И. Чижевский, И. И. Лапшин, Н. О. Лосский, П. Н. Савицкий, Р. О. Якобсон, Ф. А. Степун, социолог Г. Д. Гурвич. В 1935 г. С. И. Гессен получил приглашение в Свободный университет в Варшаве и навсегда переехал в Польшу. Родители Д. С. развелись, мать осталась в Праге. Старший брат Д. С. Евгений был членом пражского «Скита поэтов», и через него Д. С. близко сошелся с участниками этого кружка, в первую очередь с В. Мансветовым и его женой Марией Толстой[42]42
См. о них справки в ценном сборнике: «Скит». Прага. 1922–1940. Антология. Биографии. Документы. Вступительная статья, общая редакция Л. Н. Белошевской. Составление, биографии Л. Н. Белошевской, В. П. Нечаева (Москва: Русский Путь, 2006).
[Закрыть]. С ними он поддерживал постоянную связь и после того, как в сентябре 1937 г. переехал в Варшаву, поступив учиться на славянское отделение Варшавского университета[43]43
29 ноября 1937 г. В. В. Бранд сообщал в письме к А. Л. Бему: «Сюда приехал учиться сын С. И. Гессена – Митя. На нас всех он произвел очень хорошее впечатление. Рассказывал, между прочим, о „Ските“, читал скитские стихотворения» (Архив А. Л. Бема. Literárni archiv Památniku Naródniho pisemnictvi v Praze).
[Закрыть]. Вспоминая о первых своих годах в Польше, Д. С. писал:
Из варшавских русских я близко сошелся с Л. Н. Гомолицким, С. Бартом, юным Георгием Клингером, был частым гостем в редакции «Меча», но после Праги Варшава казалась мне страшным захолустьем. Вскоре у меня завелись и знакомства среди поляков, из них назову в первую очередь поэта Юзефа Чеховича (погибшего в один из первых дней войны в родном своем Люблине во время бомбежки). У Чеховича я познакомился с Чеславом Милошем, с которым встречался и позже, дружил с поэтом Кшиштофом Бачинским (павшим в первый день Варшавского восстания), Тадеушем Боровским, прозаиком и поэтом, автором лучшей книги об Освенциме (покончил с собой в 1951 г., когда был апогей сталинизма в Польше).
С началом войны Д. С. пошел добровольцем в польскую армию, попал в плен и, когда пленных отправляли поздней осенью 1939 г. в Германию, бежал с поезда, вернувшись в Варшаву. Он жил сначала у отца, а потом у своих польских друзей, создавших один из центров антифашистского сопротивления. Там Д. С. перевел несколько статей с польского языка на немецкий для подпольно выпускавшегося журнала «Клабаудерманн», предназначавшегося для немецких солдат. Весной 1940 г. он женился на Брониславе Фаратовской из некогда знатного, но совершенно обнищавшего шляхетского рода. Жил он давая уроки русского и немецкого языков, а жена его работала в отделе здравоохранения Варшавского городского управления. Вместе с женой они во время немецкой оккупации приютили у себя и спасли несколько евреев. Позднее институт Яд-Вашем в Израиле наградил их обоих медалью Праведника народов мира. С осени 1942 до весны 1943 г. Д. С. руководил нелегальной группой обучения по программе средней школы в деревне Олесние Седлецкого воеводства. В рядах Армии Крайовой он участвовал в Варшавском восстании 1944 г. и последние полгода войны провел в лагере раненых военнопленных в Цайтхайне. В конце апреля 1945 г., после освобождения, он вернулся в Польшу и разыскал жену с сыном, родившимся незадолго до Варшавского восстания. Д. С. так вспоминал об этом времени:
Так как в разрушенной до основания Варшаве нам негде было жить, мы приняли решение начать новую жизнь на «диком Западе», т. е. отошедшем после войны к Польше Западном Поморье. Сперва мы осели в Кошалине, а позже переехали в Щецин. Я получил работу мелкого служащего в городском управлении, подрабатывая одновременно рецензиями в местной газете, позже стал секретарем Общества польско-советской дружбы. И я, и моя жена вступили в Польскую рабочую партию; я из советского патриотизма, охватившего меня после нападения гитлеровской Германии на Сов. Союз, от которого я излечился 21 августа 1968 г., в день вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию; жена же со школьных лет придерживалась левых взглядов, сочувствовала бедным и всегда была готова заступиться за гонимых и преследуемых.
Вернувшись в Варшаву спустя два года, Д. С. поступил на работу в отдел информации Министерства иностранных дел, где редактировал бюллетень, а затем заведовал репертуарной секцией Генеральной дирекции театров, опер и филармоний, откуда, после доносов и обвинений в отсутствии идеологической бдительности, был уволен, оставшись в течение некоторого времени безработным. Позднее он был принят в Польское агентство печати – сначала переводчиком, а затем редактором и заведующим редакции на русском языке. Одновременно он работал в лексикографической секции Польско-советского института и подготовил двухтомный Большой польско-русский словарь, выдержавший пять изданий. В последние годы жизни Д. С. работал над польско-русским и русско-польским словарем крылатых выражений. Долго вынашиваемый замысел мемуарной книги он не успел осуществить, и печатаемый в этом томе очерк о С. Барте представляет собой набросок задуманной работы.
К собиранию стихотворного наследия С. Барта Д. С. приступил уже в 1942 г., после смерти поэта. Он переписал находившиеся у него тексты стихотворений и составил машинописную тетрадку, которая должна была послужить основой для издания в будущем[44]44
Эти материалы сейчас хранятся в архиве Гуверовского института (Стэнфорд).
[Закрыть]. Однако в послевоенные годы, отойдя полностью от русской эмиграции, Д. С. не возвращался к этому проекту, не видя шансов его реализации, пока в 1999 г. не узнал о возможности выпустить эту книгу в серии Stanford Slavic Studies. Он снова вернулся к работе над изданием, в которой видел исполнение своего нравственного долга. Смерть, наступившая после долгой болезни 19 ноября 2001 г., не позволила ему довести подготовку книги до конца и увидеть ее вышедшей из печати[45]45
Стэнфордское издание удостоилось нескольких отзывов в печати: Вадим Крейд. Новый Журнал, 228 (2002), с. 333–337; Н. А. Богомолов, «„Когда-нибудь дошлый историк…“ (Обзор изданий второстепенных поэтов XX в.)», Новое Литературное Обозрение, 2003, № 2, с. 333–338; Федор Поляков, Die Welt der Sloven. Band XLVIII (2003), S. 397–398; O. Yu. Sobolev, The Slavonic and East European Review. Vol. 82, No. 1 (January, 2004), pp. 94–95; Olga Zaslavsky, Slavic and East European Journal. Vol. 50, No. 2 (Summer 2006).
[Закрыть].
Источники текстов и варианты
Стихотворения
12. Впервые: Альманахи стихов, выходящие в Петрограде. Под ред. Дмитрия Цензора. Вып. 1. Издание непериодическое (Пг.: Цевница, 1915), с. 9. Перепеч. по этому альманаху в кн.: Невод. Антология русской поэтической миниатюры. Сост. Виктор Кудрявцев (Смоленск, 1999), т. 1, с. 257.
25. Приводим вариант в машинописной тетради (с. 8) из архива Гессена в Гуверовском институте (Стэнфорд):
О вы, вспоенные борьбою
И упоенные жестокостью своей!..
Вот я иду взыскующей тропою
На торжища шумливых площадей,
Чтоб видеть темные обличья
Творящих мир, хулящих суету,
Чтоб на ладони билось сердце птичье.
Кровавый крик роняя в пустоту.
Роятся истины. Их много,
Как справедливости и в дулах и в клинках —
Как темен человечий страх,
Светла, тиха его тревога.
1939?
36. Впервые: Альманахи стихов, выходящие в Петрограде. Под ред. Дмитрия Цензора. Вып. 1. Издание непериодическое (Пг.: Цевница, 1915), с. 8. Первые шесть строк вошли без изменения, как самостоятельное стихотворение, в Стихи, 1933, с. [6]. С новой концовкой помещено в сб. Камни… Тени…, с. 4.
89. В расширенном варианте, с иной концовкой, вошло в сб. Камни… Тени…, с. 55.
91. Ср. расширенный вариант в Камни… Тени…, с. 41 (№ 127 в наст. изд.).
93. Стихотворение представляет собой поздний вариант стих. № 36.
97. Впервые: Молва, 1932, № 34, 15 мая, с. 3. Вошло в Стихи, с. [9], с разночтением:
строки 7–8:
И я простер невольно руки —
И тихая явилась ты
Разночтение в рукописной тетради Д. С. Гессена в Гуверовском институте (Стэнфорд):
строка 4:
Я слово тихое принес
98. Вошло в Стихи, 1933, с. [2], с незначительными графическими и пунктуационными различиями.
110. Впервые: Альманахи стихов, выходящие в Петрограде под редакцией Дмитрия Цензора. Вып. 1. Издание непериодическое (Пг.: Цевница, 1915), с. 9.
112. Впервые: Молва, 1932, № 5, 10 апреля, с. 3. Вошло в Стихи, 1933, с. [24], с разночтениями:
строка 6:
И мнится – под пенье псалмов
строка 8:
Под сенью поникших ветвей.
Тот же вариант строки 8 – в тексте стихотворения в тетради Д. С. Гессена в Гуверовском институте (Стэнфорд). В экз. Стихов авторское исправление в строке 6:
И мнится – сквозь пенье псалмов
115. Впервые: Молва, 1932, № 5, 10 апреля, с. 3. Вошло в Стихи, 1933, с. [15].
116. Впервые: Молва, 1933, № 99, 30 апреля, с. 3. Разночтение:
строка 8:
В хмурь, в туманы, в кривизну дорог.
При этом вторая и третья строфы в газетной публикации даны в обратном порядке.
118. Вошло в Стихи, 1933, с. [3], с незначительными пунктуационными различиями и разночтением в строке 8:
Предельной мудрости весна.
119. Впервые: Молва, 1933,№ 266,19 ноября, с. 3. Первоначальный вариант первой строфы:
Я помню день и дом. Я ждал самозабвенно,
Как солнце на камнях, – окаменев,
Как мрамор ждет, чтоб благости мгновенной
Принять несрочный золотой посев.
122. Первоначальный текст в газ. Молва, 1933, № 77, 2 апреля,
с. 3:
Ты приходила утром в час тумана.
Ты зажигала синие костры,
Ты озаряла сонные поляны
Узористой, затейливой игры.
Цвела весна и гроздья золотые…
Леса звенели шепотом тугим,
И вдоль полей в пространства ветровые
Шел от земли творенья терпкий дым.
О мудрости, о вечности, о Боге
Твои слова вещали в тишине.
И проросла в глуши земной тревоги
Томленья боль о небывалом дне.
Уходит жизнь… И снова в час тумана
Ты зажигаешь синие костры —
Последние прощальные поляны
Давно уже проигранной игры.
125. Вариант в рукописной тетради Д. С. Гессена в Гуверовском институте (Стэнфорд):
Ты пришла из такой темноты
В этот свет, в слово, в смежность.
Из такой пустоты – в эту терпкую нежность,
В этот мир за окном,
В этот дом.
И жмешься ко мне: к моей наготе, немоте, пустоте.
Я слышу:
Свергается вечность с крыши
Дождем, огнем, мятежом.
126. Впервые: Молва, 1933, № 137, 18 июня, с. 3. Разночтения:
строка 3:
Колонна! о ты, вознесенный
строка 6:
Стоишь ты, недвижим и нем,
127. Ранний, более короткий вариант вошел в Стихи, 1933, с. [13] – см. № 94 в наст. изд.
132. Вошло в Стихи, 1933, с. [11], с разночтением в последней строке:
Всходит мир безвестный – юный мир земной.
См. справку в рецензии Ф. Полякова на первое издание сборника: Die Welt der Slaven. Band XLVIII (2003), S. 397–398.
137. Впервые: Молва, 1932, № 34, 15 мая, с. 3. Вошло в Стихи, 1933, с. [8], с незначительным разночтением.
142. Первые пять строк напечатаны в качестве самостоятельного стихотворения: Молва, 1932, № 5, 10 апреля, с. 3 и Стихи, 1933, с. [16].
149. Впервые: Меч, 1934, № 31, 16 декабря, с. 5, с посвящением Л. Б.
155. В строку 7 внесена конъектура (в тексте сборника: «Иль бытом? Чему всю муку, всё неверье,»).
166. В тексте в рукописной тетради Д. С. Гессена (Гуверовский институт) вариант второй строфы:
Туман. Пустошь. Сжав кулаки, встаешь.
Лишь облако в бегу. И серп луны кровавый.
И слышишь первую по телу дрожь
И лижешь губы языком шершавым.
187. По поводу третьей строки в девятом стихотворении Барт в письме из гетто напоминал Г. Семенову: «„Письмена“: не „после обедни“, а „придя с обедни“» (Архив Гуверовского института, Стэнфорд).
200, 201. Молва, 1932, № 190, 20 ноября, с. 3. Эти стихотворения не были включены в первое издание.
202. Русские Записки. Ежемесячный журнал (Париж), XIX (июль 1939), с. 77–78, с опечаткой в пятой строке:
И ночью звезды вдоль черня,
Ср. тетрадь Гессена (с. 7), где отнесено к сб. «Ворошители» и проставлена дата: 1939.
203. Русские Записки. Ежемесячный журнал (Париж), XIX (июль 1939), с. 77–78. Текст исправлен по машинописной тетради Д. С. Гессена: С. Барт. Стихи. Варшава, 1942, с. 6, где проставлена дата: 1939. В рукописной тетради Гессена стихотворение отнесено к сборнику «Ворошители».
204. В машинописной тетради Гессена (с. 1) дата: 1939.
205. В машинописной тетради Гессена (с. 14) дата: 1940?
217. Печатается по автографу в архиве Д. С. Гессена. В машинописной тетради добавлена дата: 1940.
218. Печатается по автографу в архиве Д. С. Гессена. Вариант в машинописной тетради Д. С. Гессена, с. 19:
Из сточных труб стекают слезы,
Стекает дождь из детских глаз
…………………
Мой первый, мой предельный час.
Как умирание в горах,
Как звезд подводное теченье,
Снится такое шевеленье,
Исчезновенье, вечность, страх.
Но нет грустней и нет больнее,
– О, личики, прижатые к стеклу! —
Чем нежным быть, быть всех нежнее
И предаваться только злу.
1940
219. Тот же текст-в машинописной тетради Д. С. Гессена, с. 20.
220. Приводится по автографу в архиве Д. С. Гессена. Идентичный текст в машинописной тетради Гессена, с. 15 (ср. там же, с. 4).
221. Приводится по автографу, сохранившемуся в архиве Д. С. Гессена. Тот же текст – в машинописной тетради в архиве Д. С. Гессена, с. 10.
222. Приводится по автографу, сохранившемуся в архиве Д. С. Гессена. Тот же текст – в машинописной тетради в архиве Гессена, с. 16. В строке 15 принята конъектура (в оригинале: «В боль»).
Проза
Дуэль. Молва, 1933, № 166, 23 июля, с. 3. Публикация сопровождалась сноской: «Рассказ С. Барта „Дуэль“ был прочитан на собрании Литературного Содружества 24 июня 1933 г.».
Статьи
«Приятие мира». Молва, 1932, № 137, 18 сентября, с. 4.
Социальный заказ и тема о смерти. Молва, 1933, № 104, 7 мая, с. 4. В своей статье, коснувшись понятия «социального заказа» в связи с произведениями советской литературы и по поводу прошедших в Варшаве выставок советского искусства, В. В. Бранд, бескомпромиссный сторонник «активизма» в борьбе с властью большевиков, писал, в частности:
Нельзя требовать творчества по заказу, но можно требовать молчания или, по крайней мере, нераспространения того, что служило бы соблазном в годы борьбы за существование нации.
Эти мысли навеяны мне тем, что очень многие современные художники говорят о смерти.
Нужны ли нам, русским, сейчас произведения искусства, воспевающие покорность, созерцание, неделание, смерть?
Не вредны ли эти произведения, создавая в нас настроение, обратное тому, которое нужно для борьбы за освобождение?..
В конце статьи говорилось:
Нам, русским, нужны песни о жизни, о солнце, о силе.
Живые, смелые песни. Независимо от того, будут ли они в слове, музыке, красках или мраморе.
Всё же безвольное, покорное, зовущее в небытие, утверждающее смерть не только не нужно, но и вредно.
Нужно помнить, помнить и помнить, что мы зовем не к смерти, а к жизни, что мы творим бунт созидающий.
Ср. в докладе Л. Гомолицкого 1932 г.: «Главная тема поэзии С. Барта – смерть».
Отвечая на статью Барта, В. В. Бранд писал:
С. Барт, приведя в своей статье «Социальный заказ и тема о смерти» («Молва» № 104) выдержки из моей статьи «Бунт созидающий» («Молва» № 90), находит в них противоречие и говорит:
– Разве окончательное в корне отрицание социального заказа, не влекущее за собою закрывание глаз, можно назвать окончательным и коренным?
Для меня вопрос С. Барта непонятен. Почему, отрицая социальный заказ, т. е. принуждение художника творить по заказу, я не могу говорить о пользе или вреде того или иного художественного произведения и должен закрыть глаза на впечатление, которое может художественное произведение произвести, на те настроения, которые явятся следствием его влияния на массы?
Если отрицать влияние искусства на жизнь, если считать, что художник творит в безвоздушном пространстве, то С. Барт прав. Но на самом деле это не так. Чем талантливее художественное произведение, тем более находит последователей – в особенности произведения литературные. <…>
Приводя многочисленные примеры из русской и иностранной литературы, в которых говорится о смерти, о великом таинстве смерти, С. Барт нисколько не противоречит тому, что сказано в моей статье, тому, что я восстаю и бунтую не против темы о смерти, а против воспевания смерти. <…>
– В. Бранд, «Еще о смерти (Ответ С. Барту)», Молва, 1933, № 111, 16 мая, с. 2.
Об основном. Молва, 1933, № 266, 13 ноября, с. 3. Это выступление Барта вскоре упомянул А. Л. Бем в своей статье «О советской литературе», говоря о неожиданной популярности произведений советской литературы на Западе:
Ведь уже одно то, что посредственные советские романы переведены на многие языки, а некоторые из них пользуются значительным распространением, как, например, «Цемент» Гладкова, должны нас заставить задуматься. <…> Этот успех советской литературы среди широкого круга читателей надо объяснить и с ним необходимо считаться. Я уловил кое-что из фактов, сюда относящихся, в той разноголосице, которая обнаружилась на собрании «Литературного содружества» в связи с обсуждением и осуждением советского выпуска журнала «Вядомости литерацке». Как раз в упреках, направленных некоторыми по адресу эмигрантской литературы, которые смутили С. Барта и вызвали его статью «Об основном» (в номере «Молвы» от 13-го ноября), мне почудились нотки читательского раздражения по отношению к эмигрантской литературе, раздражения, вызванного отсутствием того, что привлекает читателя к литературе советской, вопреки всем ее недостаткам.
– А. Л. Бем, «Письма о литературе. О советской литературе (Письмо третье)», Молва, 1933, № 272, 26 ноября, с. 2; А. Л. Бем, Письма о литературе (Praha, 1996), с. 145–146. О реакции в окружении Д. В. Философова на «советский» номер Вядомостей Литерацких (29 октября 1933 г.) см.: Л. С. Флейшман, «Пушкин в русской Варшаве», Пушкин и культура русского зарубежья (Москва: Русский Путь, 2000), с. 124.
Русская Зарубежная Академия Литературы. Молва, 1933, № 278, 3 декабря, с. 4. Помещая эту статью, Д. В. Философов в том же номере писал:
С. В. Барт обращает внимание на сложный вопрос о взаимоотношении между литературой эмигрантской, зарубежной и советской. Я совершенно согласен с ним, что проектированная Зарубежная Академия литературы должна быть вне политики. И это в двух смыслах. Прежде всего, она должна быть чужда нашим, эмигрантским, партийным спорам. Эту точку зрения мы выдержали, составляя список писателей. Что греха таить, многие из писателей, фамилии которых в вышеупомянутом списке стоят рядом, вряд ли желают быть знакомы друг с другом. Таким образом, этот список заключает в себе не только величайшее неравенство качественное, но и несовместимость политическую. Нельзя сказать, что Французская Академия совершенно вне политики. Крайних левых и в литературном и в политическом смысле она все-таки побаивается. Внутри же ее имеются, грубо говоря, две группы. Одна – Марселя Прево, а другая – Ренэ Думика. Но тут-то и обнаруживается высокая культура Франции и высота культурного уровня членов ее Академии. Сколько епископов и кардиналов были ее членами, это не помешало, однако, Эрнесту Ренану стать членом Академии.
Сложнее вопрос об отношении к советской литературе. Мережковский сказал, что у зарубежных писателей есть свобода, но нет земли, а у советских писателей есть земля, но нет свободы. Ту же мысль высказал в своем стихотворении Смоленский, указавший на нашу «тесную свободу» и на их широкую тюрьму. Ясно, что обе русские литературы, и тамошняя – тюремная, и наша – свободная, недомогают.
Смоленский правильно говорит, что наша здешняя свобода – тесная. Смешно, конечно, ее сравнивать с рабством, в котором находятся писатели тамошние, тем не менее, и у нас не малина. Ведь вот, помещая статью уважаемого С. В. Барта, я задумался над вопросом: а не напишут ли такие видные общественные и литературные деятели, как Сергей Войцеховский или Буланов-старший, в какую-нибудь парижскую «патриотическую» газету, что он не благополучен по патриотизму? Но как бы там ни было, все-таки известная свобода у нас есть. Газета «Возрождение» может утверждать, что я перешел на службу к большевикам, но к стенке меня все-таки не поставит. А потому – «вперед без страха и сомнения»! Если Бог не выдаст, никто нас не съест.
Я согласен с С. В. Бартом, что в конце концов единственный суд, который признают в глубине души своей все выдающиеся писатели, это именно суд зарубежный. С. В. Барт пишет, что похвала Литературной Академии была бы высшим, сокрытым от глаз соглядатаев, торжеством для советских писателей.
Положение это, на мой взгляд, верное.
Весь вопрос в том, как его конкретизировать. Зарубежная Академия могла бы, в той или иной форме, отмечать наилучшие произведения советской литературы или наиболее талантливых ее писателей. Но согласится ли С. В. Барт со мною, что такая похвала может слишком дорого стоить обитателю широкой советской тюрьмы? Похвалит Зарубежная Академия кого-нибудь из писателей, а его немедленно превратят в «лишенца»! Я чуть-чуть не назвал одну фамилию, но вовремя остановился: как бы не повредить.
Словом, хотя С. В. Барт и прав но существу, его предложение следует хорошенько обдумать и поступить очень осторожно.
По странной случайности, через несколько дней после моей первой статьи о проектированной Академии, И. А. Бунин получил премию Нобеля. Это маленькое событие дало большой аргумент в пользу моего проекта. Характерно также, что некоторые произведения Бунина, написанные им уже в изгнании, были напечатаны и на территории советской России. Этот факт является аргументом в пользу предложения С. В. Барта…
– Д. Философов, «Зарубежная Академия», там же, с. 2. Ср.: Д. В. Философов, «Проект Литературной Академии Русского Зарубежья», Молва, 1933, № 266, 13 ноября, с. 3.
Horror vacui. Меч, 1934, № 3–4, 27 мая, с. 14.
О вымирании поэзии, новаторстве и стилизации. Меч, 1934, № 11–12, 22 июля, с. 11–12.
Бессонница. Ю. Терапиано. Стихи. Меч, 1935, № 15, 14 апреля, с. 6. В статье цитируются стихотворения, помещенные соответственно на стр. 7, 21, 9 (приведено целиком), 12 и 16 книги Терапиано. Ср.: Георгий Адамович, «Литературные заметки», Последние Новости, 1935, 14 марта, с. 2 (о сборнике И. Голенищева-Кутузова «Память» и «Бессоннице» Терапиано); Владислав Ходасевич, «Книги и люди. Новые стихи», Возрождение, 1935, 18 июля, с. 3 (целиком о книге Терапиано); К. Мочульский, <рец.:> «Ю. Терапиано. Бессонница», Современные Записки, LVIII (1935), с. 476–477.
Л. Гомолицкий. Смерть с голубыми глазами. Молва, 1933, № 83, 9 апреля, с. 3. С сокращениями помещено в качестве предисловия в кн.: С. Барт. Стихи (Варшава, 1933).








