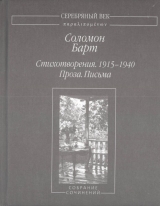
Текст книги "Стихотворения. 1915-1940 Проза. Письма. Собрание сочинений"
Автор книги: Соломон Барт
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
О вымирании поэзии, новаторстве и стилизации
В свое время французский критик в некрологе, посвященном Сюлли-Прюдому, назвал его последним поэтом Франции. Провидение зло насмеялось над провидцем, породив множество новых поэтов – не на луне, а на земле и в той же Франции.
На чем же основано постоянное восхождение в злободневность пресловутой темы о вымирании поэзии (стихотворной), об иссякновении творческих возможностей языка? Периодически повторяются в печати эти ламентации об оскудевании творческих путей и, несмотря на ложность прогнозов, находят отклик и в серьезном критике, и в настоящем поэте.
Объясняются жалобы и прорицания просто тем, что печального лика прорицатели исходят из какого угодно теоретического и статистического материала, но забывают о самом существенном, о таинстве творческого акта и о главном его факторе, несоизмеримом в сравнении с другими – об индивидуальности.
Покуда существует индивидуальность, творческие возможности каждого искусства, и в частности поэзии, неисчислимы. Но в том-то и беда, что не всегда со стихотворческим дарованием сочетается яркая индивидуальность и что обеднение индивидуальной стихии, т. е. личная трагедия поэта, переносится им на поэзию. Переносится мимо воли, а иногда и кощунственно.
Такого рода поэты, обычно сводя задание поэзии к чисто формальным (внешним) элементам, суживают понятие поэзии до версификации и таким образом приходят к выводам тем более плачевным, чем уже версификаторская жилплощадь их дарования. Вообще теоретизирование поэта почти всегда служит признаком ущербленной индивидуальности.
Может показаться парадоксальным, что в подтверждение своего положения приведу в виде примера Маллармэ, Валери, Стефана Георге, у нас – Андрея Белого, Цветаеву, Маяковского (разница эпох здесь не имеет значения). Я будто бы противоречу себе, ибо названные имена принадлежат весьма крупным поэтам. Но дело в том, что именно на таких величинах можно проследить, как даже малейший ущерб индивидуальности заставляет автора в некоторых произведениях покинуть плодородную почву стихийного созидания и сойти на бесплодный асфальт схематических мудрствований.
Стилизация – это отсутствие индивидуальности. Большой поэт может быть более или менее выдающимся стилистом, стилизатором же – лишь в виде редкого исключения и вследствие вышеуказанного ущерба его индивидуальности. Большой поэт не ищет новых путей. Новый путь уготован ему его дарованием, соотношением стихии языка со стихией его индивидуальности. Новый путь – в нем, в его творческой мощи, в кажущемся капризе, в мнимом произволе, которые, однако, никогда таковыми не бывают.
Пушкин, оформляя, направляя языковую буесть, в этой буести самой, в сочетании ее со стихией его духа находил непреложные нормы, ибо творческие нормы сводятся к творческой интуиции, не предвосхищаемой никакими теоретическими выкладками.
Чтобы точнее определить эту интуицию, приблизить ее к вполне сознательному восприятию, необходимо подойти к ней со стороны психологической, и тогда в психологическом ракурсе она определится как абсолютная искренность и честность с самим собою перед лицом своего творения.
Пушкин явлен нам не для того, чтобы мы от него отходили, чтобы из трусости или тщеславия и гордыни мы сбивались с проложенного гением основного пути. Мы не должны бояться того, что станем писать под Пушкина. Лишенным своеобразного дарования в этом отношении никакое теоретизирование не поможет. Эпигонство у них на роду написано. Что же касается талантливой индивидуальности, то она обязана (чаще всего она иначе и не может) стремиться к тому, чтобы, отягченная благородным грузом лучших традиций, творить, как Пушкин, Тютчев, как избранный Блок и Гумилев. Все мы, верящие в свои силы, должны следовать за ними, если желаем в полной мере проявить свою индивидуальность.
Не в новаторстве, а в просеивающей преемственности верное и единственное русло творческой стихии: в преемственности и в индивидуальности, которые одна другую никогда не исключают, а, сочетаясь и взаимно пополняясь, ведут к эволюции.
Гении между собой всегда принадлежат к одной семье. Ни климат, ни народность, ни среда не исключают этого родства, которое тем очевиднее в пределах одной страны и одной народности. По прямой линии можно проследить их внутреннюю связь, я сказал бы даже связанность между собой, – то духовное родство, которое так же неотделимо от них, как их гениальность.
Новаторство от ума. Ум, непреложно подчиняясь своему регулирующему и систематизирующему свойству, сам накладывает на себя путы граней и пределов. В индивидуальной же стихии – залог вечной новизны, тончайших нюансов, самой сложной и животворящей оригинальности.
Скажу без преувеличения, что на примере большинства европейских литератур можно убедиться, что совершенство стиля не имеет ничего общего со стилизацией и с новаторскими тенденциями, в которых, напротив того, всегда кроется указание на упадочность того или иного круга или кружка пишущей братии.
Бессонница
Ю. Терапиано. Стихи. Издательство «Парабола»
Если сборник «Бессонницы» случайно попадется кому-либо под руку, если кто-либо случайно начнет его листать, то, перелистав, отложит и забудет. Сборник покажется сильно заурядным. Ни новаторства, ни виртуозности нет в нем и следа. Обычные ритмы, устаревшие рифмы, автор даже сплошь рифмует глаголы.
Иному снобу обидным покажется: как это, мол, допустимо, чтобы культурное издательство предлагало читателю столь пресную поэтичную снедь.
Но вот вернулся человек попоздней домой, лег в кровать и призадумался. Не спится человеку: томит бессонница. Не всегда она от нервов или от несварения желудка. Бывает бессонница и от душевной отрыжки, от несварения в душе. Что-то залегло, залежалось, и вдруг давно позабытое объявилось и надавливает на слюдяные стенки сознания.
Человек закрывает, открывает глаза. В зеницах мгла: он бредит. Нахлынуло самое мучительное, ибо самое бредовое и самое явное: зачем живу, и чем живу, и во имя чего?
Помолимся о том, кто в тьме ночной
Клянет себя, клянет свой труд дневной.
Обиды вспоминает, униженья,
В постели <жесткой> лежа без движенья.
И он когда-то жил в иной борьбе: не в борьбе за существование, а за вечные идеи: за справедливость, за правду, за сознательную творческую жизнь. И не воплотилось ли это в те страшные годы в понятие борьбы за отчизну?
Почему я не убит, как братья —
Я бы слушал грохот пред концом,
Я лежал бы в запыленном платье
С бледным и торжественным лицом.
Кровь ручьем бы на траву стекала
И, алея на сухой траве
Преломляла бы и отражала
Солнце в бесконечной синеве.
Я молчал бы, и в молчанье этом
Был бы смысл, значительней, важней
Неба, блещущего ясным светом,
Гор и океанов и морей
А большая нежность к кому-то, к чему-то или ко всему – смешная теперь?
С сердцем, переполненным любовью,
Но кому отдать ее – не зная,
Ночью припадаю к изголовью,
К изголовью ночью припадаю.
Вот вошла в меня любовь без меры.
Нет лица ей, нет имен, нет слова.
Я прошу у Бога сил и веры,
Спрашиваю сил у Бога снова.
И в тоске неясной, что знакома
Всем, кто тенью вечности тревожим,
Как беспутный сын у двери дома,
Плачу я, что мы любить не можем.
А вера в богочеловека?
И когда увижу тень Твою,
Сердце бьется и темно в глазах.
Спрашиваешь Ты, а я таю
Всё мое смущение и страх.
Но самое главное, самое существенное, предрешающее все мысли, все чаяния и все дела человека – это глубокое, необоримое чувство чести.
…Нам страшно жить;
Неправедные, ко всему глухие,
В пустынном мире, пред пустым окном,
Ночами, в свете безысходном, ложном,
Тревожимые внутренним огнем,
И ты. и я, всегда о невозможном
Зачем мечтаем мы, сестра моя?
Стучат шаги. Над городом печальным
Миры – иерархия бытия, —
Немые звезды…
«Бессонница» Ю. Терапиано вся светится светом глубокого чувства чести.
Для того, в ком вибрируют созвучные струны, этот сборник – большое поэтическое (не формальное, не внешнее, если таковое вообще бывает) достижение.
С.Б.
ИЗ ПИСЕМ С. В. БАРТА
Письма к А. Л. Бему
1
Многоуважаемый Альфред Людвигович,
Ваш неожиданный приезд в Варшаву был для меня событием, к которому я готовился с большим душевным напряжением. Какой соблазн иметь возможность лично Вас послушать, удостоиться беседы с Вами, узнать о многом, что волнует, в чем так трудно разобраться, Ваше четкое, глубоко продуманное мнение. Соблазн стал мучением, когда по болезни я не смог присутствовать на Вашем чтении в «Содружестве».
К счастью, Георгий Георгиевич Соколов, который любезно согласился вручить Вам мой сборник, передал мне подробно содержание Вашего доклада[2]2
А. Л. Бем, приехавший в Польшу для участия во втором международном съезде славистов, прочел в Литературном Содружестве два доклада: 29 сентября – на тему «Проблема вины у Достоевского», а 1 октября – о ситуации в советской литературе и о только что прошедшем съезде советских писателей. См.: «А. Л. Бем в Литературном Содружестве». Меч, 1934, № 21,7 октября, с. 7.
[Закрыть].
Сказанное Вами о Достоевском не субъективная фантастика, которой имеется в изобилии в русских и иностранных трудах о нем, сказанное Вами это знание в высшем значении слова и притом конгениальное ясновидцу «души» человеческой.
До чего возмутительна статья Адамовича, превозносящего лауреата за счет Достоевского и Чехова. Хорош и сам Бунин, приналепливающий[3]3
Слово читается предположительно.
[Закрыть] к романам Достоевского эпитет бульварные[4]4
См. статью Г. Адамовича «Лица и книги», Современные Записки, LIII (Париж, 1933), посвященную сопоставлению Бунина и Толстого (см. особенно с. 326–328).
[Закрыть]. Это может быть оправдано разве тем, что между крупными индивидуальностями весьма часто наблюдается даже резкое взаимное отталкивание.
И Философов в своем сбивчивом возражении Вам в «Содружестве» выказал весьма поверхностное отношение к проблеме «Достоевский».
Третьего дня мы с польским поэтом Арнольдом Вильнером (он в свое время бывал в «Таверне Поэтов» и просит передать Вам душевный привет)[5]5
Мы располагаем лишь самыми скупыми сведениями об этом поэте. По-видимому, стихи его публиковались на страницах журналов и газет. Одно его стихотворение – «Spotkanie w barze» – репродуцировано в книге: Ferdynand В. Ruszczyc, Jacek Urbański. Maja Berezowska. Antologia twórczości (Warszawa: BGW, 1994), s. 52. Его перевод пушкинского стихотворения «Прозаик и поэт» («О чем, прозаик, ты хлопочешь…», 1825), помещенный в ченстоховской газете Młoda Polska в 1934, был перепечатан в кн.: Marian Тороrowski. Puszkin w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczi, 1950), s. 95.
[Закрыть] перечитали Вашу статью «Развертывание сна у Достоевского»[6]6
А. Бем, «Развертывание сна („Вечный муж“ Достоевского)», Ученые Записки, основанные Русской учебной коллегией в Праге. Том 1, вып. 3 (Прага, 1924), с. 45–59. В расширенном виде статья вошла в кн.: А. Л. Бем. Достоевский. Психоаналитические этюды (Прага: Петрополис, 1938), с. 54–76.
[Закрыть]. Эта статья еще больше утвердила нас в мнении, что изучение Достоевского имеет в Вашем лице авторитетного защитника от угрожающего ему со стороны узколобых вредителей поношения.
Надеюсь, Вы не откажете мне и Вильнеру в нашей совместной просьбе сообщить нам перечень всего, напечатанного Вами за последние десять лет. Особенно интересуют нас Ваши статьи о Достоевском.
Надеюсь также узнать ваше мнение о моей книжке. Для меня это бесконечно важно. В здешнем «Содружестве» я совершенно одинок, т. е. чувствую себя одиноким. В «Бродячей Собаке» в Петербурге и в «Обществе Свободной Эстетики» в Москве я познал совершенно иное отношение к себе. Два первых моих стихотворения были напечатаны в том же сборнике, где были помещены Гумилева: «Над этим островом какие выси…» и Осипа Мандельштама «Бетховен».
В сборник «Камни… Тени…» помещены мною стихи, не расходящиеся с заглавием его. В 17-ом году вышел в Москве мой сборник «Флоридеи». Юрий Исаич Айхенвальд одобрил его.
В 18-м году я приехал в Варшаву, где работаю в весьма трудных условиях, особенно нравственно трудных.
Думаю, что достаточно о себе. Я и то злоупотребил уже Вашим великодушием.
Искренно уважающий ВасС. Барт.
6/Х 34 г.
Мой адрес: Warszawa, Moniuszki 17, m. 4
В. Kopelman, dla S. Barta.
2
30/XI 34 г.
Многоуважаемый Альфред Людвигович,
Как я был взволнован Вашим письмом, Вашим удивительно чутким и нежным отношением ко мне. Дело не в том, какого мнения человек обо мне ли или о моих делах, дело в нем самом, в его достоинстве, справедливости, благородстве. Я признаю только один культ, – это культ личности.
Вы догадались, что я не нуждаюсь в правде-справедливости, что мне можно преподнести и правду-истину. И всё же по прирожденной доброте и деликатности Вы щадили мое самолюбие. Большое сердечное Вам спасибо, бесконечно уважаемый и дорогой Альфред Людвигович! В скором времени выйдет моя вторая книжка. Быть может, надеюсь, она заслужит Ваше одобрение.
Мне, однако, хочется похвастать перед Вами. Из Парижа получил я два одобрительных отзыва, даже exagérés[7]7
Преувеличенные (франц.).
[Закрыть]. Но больше всего поразил меня отзыв Тувима.
Позволю себе привести несколько цитат из его письма:
«Moja opinja о nich jest jak najlepsza. Inna sprawa, że dalekie są od t. zw. „zycia“. Ale kto wie czy ta „bezczasowość“ nie jest właśnie zaletą… Najpiękniejsze są dla mnę wiersze pańskie na str.: 13, 19, 21, 24. Zwłaszcza ten pierwszy. Ale i w innych (z nielicznymi wyjątkami) pięknie Pan służy общему досмысленному делу (цитата из моего стихотворения). Trudno о głębsze sięgniecie w jądro poetyckich odczuwań!»[8]8
«Мое мнение о них самое хорошее. Другое дело, что они далеки от т. н. „жизни“. Но кто знает, не является ли эта самая „безвременность“ их достоинством. Наилучшие для меня Ваши стихотворения на стр.: 13, 19, 21, 24. Особенно первое. Но и в других (за несколькими исключениями) Вы хорошо служите <общему досмысленному делу (цитата из моего стихотворения)>. Трудно [представить] более глубокое проникновение в ядро поэтических чувствований!» (польск.).
[Закрыть]
Невольно напрашивается мысль, что критерий в искусстве нечто весьма неуловимое. Собираюсь прочесть доклад о критерии в искусстве в «Домике в Коломне».
Ваши статьи о Достоевском мы обязательно раздобудем с Вильнером. Он очень рад, что Вы не забыли его, и просит передать Вам привет. Не откажите поблагодарить г. Мансветова за его рецензию о моих стихах. Рад, что он хоть кое-что в моей книжке принимает[9]9
В печати отзыв Мансветова на сборник Барта не появился.
[Закрыть].
С душевным приветом
искренно уважающий Вас
(Соломон Веньяминович) С. Барт.
Примечания
Письма к А. Л. Бему печатаются по автографам в его архиве, Litérarni archiv Památniku Naródniho pisemnictvi v Praze.
Письмо к Д. С. Гессену
Митя.
Если возможна дружба, то Вы – друг… Не говорю – мой друг. Дело не в сентименте, не в слабости, а в понимании… Мой разговор с Вами всегда не напрасен. Глубоко человеческий отклик, даже мудрость, даже мудрая нежность – Вы единственный, кто так хочет подойти ко мне…
Положение мое ужасно тем, что оно нравственно-смердяще. Вся жуть бессилия и зависимости от тупых и злых от своей тупости людей, вся мелочность и грубость мелкомещанской среды – вот воздух, которым должен дышать напоследок. Это – нравственно. А физически – дым, дым, весь день дым и ночью часто сплю в непроветренной комнате. И вот, Митя, вообразите себе (Вы поймете!) физическое задыхание в дыму, астматические спазмы – страшнее всего. Но, не испытавши, не поймешь. Вчера ночью задыхался несколько минут. Глаза и руки побежали к вам, Митя, Митенька… Влекло к Вам как к человеку и как к глыбе…
Подъемлет глыбу торса, камень век[10]10
Начало стихотворения Барта, которое он прочитал Д. С. Гессену. Вошло в Душа в иносказаньи, 1935 (см. № 166).
[Закрыть].
В Вас много первобытного. Такими же представляю себе молодого Толстого и молодого Ибсена. Острые углы, неуклюжесть, но вселяет доверие и влечет…
Ваш характер совершенствуется. Он неизменно очищается от примесей, которые меня смущали. За последнее время Вы стали глубже, тоньше, я сказал бы даже изысканней. Ваша изысканность при некоторой Вашей жесткости отдает крепостью хорошего напитка, здоровой теплой волны.
От нездоровья и расстройства не нахожу настоящих слов. Это меня мучает, т. к. в нюансе ведь весь человек, вся его индивидуальность.
Письма из гетто Г. В. Семенову и Д. С. Гессену
*
Дорогой Георгий,
Еще раз благодарю за письмо. Уже не надеялся, не верил. Примело своей сердечностью, как чудом. Написал бы много, но сил нет, мысли путаются.
Благодарю за присланное, хотя пришлось сбыть за 11 зл<отых>. Ты не воображаешь себе моего состояния. Разве мой изможденный организм можно питать колбасой? Желудок не примет. За те же деньги мог бы масла и сахару! Но нужнее всего наличные на лекарства. Не для лечения (всё равно погиб), а чтобы уменьшить боль, сердцебиение, чтобы не так задыхаться.
Страшно мне, Георгий. Страшной смертью погибну среди чужих, отвратных мне людей. Ухожу в пустоту. Никакого сияния, ни чуда. Пожалей! Протяни руки, прижми к себе. О, Жорженька, эти ночи!.. Приди, поплачу и умру. Глаза закроешь. Стихи мои бедные! Помнишь ли поправки? «Письмена»: не «после обеда», а «придя с обедни». Все книжки вместе с «Тяжелым бегом» в одной книжке издайте, после смерти! Что Митя? Напишите! Спасите, пока жив, от мелочных забот.
Соломон.
*
Митя,
Вы обещались помочь мне, но помощи от Вас никакой не было. Письма Вашего Жорж мне не передал. Мой мир сейчас это моя черная каморка и вечный голод. Приходилось ли Вам вырывать от голода, чувствовать отвращение к пище от пресыщения голодом? Но самое ужасное в голоде это психические состояния. Сколько в них бредового! Я работал. Останутся стихи. Но кто ими заинтересуется, когда меня уже не будет? Так и пропадут со мной. Могу ли я на Вас рассчитывать? Раз Вы меня забыли, то тем паче не сохраните моих стихов.
Здесь люди быстро вымирают. Дороговизна и живут ведь на последнее, распродавая пожитки, вернее, остаток их. На кого могу я здесь рассчитывать? Каждый день прибывают беженцы и обрывают двери. У каждого одна только мысль: как бы спасти себя. Люди панически боятся друг друга, презирают, не могут не презирать самих себя. Уж слишком нужда и страдания оголили человека. Вся его звериная сущность напоказ, так и прет из каждого взгляда, слова, жеста. Но именно здесь и надо ждать чуда. В последнем своем падении, в последней грязи человек вдруг озаряется таким величием, таким теплом доброты и ласки, что забываешь о голоде и гибели своей. Пришлось мне увидеть здесь несколько таких жестов, что благодаря им живу еще, только ими и держусь.
Да, воистину, не единым хлебом жив человек.
Беседуете ли Вы с Жоржем обо мне? Не сплю по ночам, смотрю на холодное небо, на изразцы моей печи и думаю о вас обоих.
Об этих мыслях моих перед Страшным судом ответствовать буду, не смущаясь. Может быть, мои мучения еще всплывут где-то когда-то в иных загадочных мирах и там будут оправданы, – сейчас же у меня такое ощущение, точно в смертной болезни жду своей очереди.
С. Барт.
Л. Гомолицкий
Смерть с голубыми глазами
О творчестве С. Барта
(Доклад, прочитанный в Литературном Содружестве)
Главная тема поэзии С. Барта – смерть.
Смерть – это та его «единственная», его возлюбленная, которой он отдал без остатка всё свое вдохновение, все свои мысли и сердце.
Говорит он о жизни – и голос его сух и невнятен. Но вот, вы слышите нарастание звучания; стихотворение превращается в симфонию, слово приобретает величественную значительность… Он заговорил о смерти.
Жизнь, ее повседневность или праздничность, даже природа, даже любовь к женщине – не вдохновляют С. Барта.
Любовь для него полна горечи, отравлена сознанием бренности и недостижимости земной радости и раздвоена каким-то душевным опустошением.
Он говорит:
Любовь… но это так печально.
………………
Всё, что вершится на путях,
Что сердце жадное тревожит —
Всё только прах, цветущий прах.
И в другом стихотворении:
Ласкают пальцы белый прах…
Но в сердце лишь осколок страсти.
1
И понятно, раз в сердце лишь «осколок страсти» – все огорчения, бури и крушения в неверной стихии любви – только мучительны для опустошенного сердца.
Не может дать С. Барту утешения и природа. И она полна для него опасностей и страданий. Он задыхается весенним днем, – воздух слишком «колок» для его легких. Наслаждение миром – достояние тех, «кто дышать умеет».
Описания его лишены пластичности. Вступая в его мир, мы погружаемся в вихрь звуков и теней. Всё здесь ускользает от нашего прикосновения, меняя формы.
Образ и слово становятся зыбкими, теряют свое прямое значение, делаются намеками на отвлеченные представления. Но звуки колдуют, ведут, внушают – и вы забываете о нереальности вас окружающего.
Ничего не могут дать ему и люди. Мир их – «торжище шумливых площадей». В нем поэт встречает только «темные обличья хулящих мир, творящих суету». И если он спускается в него, то только для того, чтобы через скорбь сознания своей отчужденности прийти к мудрости, к высшей ступени созерцательного познания – в сущности, отрицания людского мира.
«Злая змеиная мудрая нежность» хранится в его сердце для ближнего. Но с нею ему все-таки легче в тишине своей комнаты, вдали от шума и суеты.
И представить его можно только в тишине одиночества. Вот, с полузакрытыми глазами в сумерках он раскачивается, шепча эти скупые слова:
Тихо над книгой. Ладони скрестил.
В скорби и в нежности то же сиянье…
2
Жизнь по С. Барту – игрушка неумолимого жестокого рока. Року молится он в одном из своих стихотворений:
И Палачу как скучно без затей.
Как в небе много трепетных свечей.
И я затеплил ярую свечу,
И я всю ночь молюся Палачу:
Казни меня, казнящий без вины.
Казни любовь и царственные сны.
Тебе тоску в награду отдаю,
Безмерную и вечную – мою.
Но боли скопилось уже так много, что «маленькая ложь» жизненного самообмана становится невыносимой, кажется ненужной и напрасной. И он восклицает:
Испепелить, испепелить
И эту маленькую ложь —
И он не сможет больше жить…
Испепелить!.. Испепелить!..
«Люби меня», —
обращается к нему голос жизни. Но поэт отвечает:
Могу жалеть.
«Люби меня».
Нет… умереть
Мне было б легче, чем любить!
Испепелить!.. испепелить…
Удивительно это отсутствие страха смерти у С. Барта. Жажда смерти вырастает у него в какую-то всепоглощающую страсть. Сначала, как будто, мелькают моменты колебания, сомнения. Кажется, жизнь еще не потеряла над ним власти. Но вот он точно срывается в черный провал уничтожения, сжигая в себе остатки жалости жизни и страха. И память жизни расплывается в его сознании в «полузабытое лицо».
Эта стремительность полета в бездну с удивительной силой передана им в следующем стихотворении:
Туда, туда – в безликий тлен.
Избыть столикой жизни плен.
Избыть себя, свой дух, свой прах,
Свою истому, боль и страх.
И нежность разлюбить: твое
Полузабытое лицо.
3
Пепел – его излюбленное слово. «Пепельная тень» на лице мертвеца, пепел – сгоревшая плоть… А затем – тленье, тленный, тлен. Жизнь для него – огонь, вспышка, пляска, звон, всплеск. Смерть – пепел, тленье, тлен, тишина, скованные губы, каменное надгробие.
И тишины исполнюсь я, и тленья,
Сгорю дотла,
говорит он о вожделенном часе смерти. И в других стихотворениях:
И тишину и исщербленный камень
Назвать своим заслуженным концом.
………………
Слишком тихо у могильных плит.
В агонии он слышит «смерть, идущую вдоль комнат на тихое земное торжество». Да, земное торжество смерти – тлен, пепел, тишина.
Но какой торжественной симфонией он приветствует ее приход! В лучшем своем по музыкальности и конструкции стихотворении, особенно богатом внутренними рифмами, аллитерациями и созвучиями, С. Барт так воспевает «час уничтоженья»:
Не трубы прогремят, не тру-
бы озарят тревогою тот день.
На восковые скованные губы
Возляжет траурная тень.
Тот пепел, нацелованный же-
стоко и ласкою и муками земли,
Расскажет вам, что я избыл все сроки
И все повинности свои.
4
Стихи С. Барта проводят через все этапы медленного угасания, покорного муке и смерти.
В доме умирающего жуткая настороженная тишина – «в шаги и шорохи вникал угрюмый ветхий дом». Приближение неизвестного чувствуется в каждом шаге, каждом движении. Кажется, проходящий по пустым залам входит в них «не один». И этот «кто-то второй» нашептывает пока еще невнятную тайну. И вдруг… смятение. Все бросаются к окну, куда вылетела жизнь и умчалась, вскочив на коня…
Чей это конь отпрянул вскачь?
Так дайте ж свет скорей!
И бег в свечах, и стук дверей,
И плач… и плач… и плач…
Так С. Барт изображает миг смерти.
Но вот всем стало ясно, что свершилось непоправимое. Волнение улеглось, плач перешел в тихие слезы, а мертвец возлег на стол при свете свеч. Тут в поэте происходит раздвоение: мысленно созерцая свой труп, его вечная духовная частица приближается к своему прежнему обиталищу, чтобы дать ему последнее целование —
Чей это гроб туманят свечи
Слезами тусклого огня?
Чьи это призрачные речи
Встречают призрачно меня?
И эта песнь… Взмахнув крылами,
Умчался в небо душный свод.
И веет древности веками
Надгробной мудрости полет.
Своя ли боль, иль боль чужая?
Целую бледное чело.
О гроб великий! даль ночная!
Предельной тишины русло!
И вот уже похоронное шествие увлекает останки «сгоревшего дотла» к тишине исщербленного надгробия. Мудрой тишине кладбища посвящены лучшие стихи С. Барта. Вот одно из них:
Весеннее небо. Весенний погост.
Напев похоронный так прост,
Как будто успенье приходит весной,
Как будто цветенье – покой.
Влекут и уводят аллеи крестов.
И мнится – под пенье псалмов
Весна сочеталась со смертью моей
Под сенью поникших ветвей.
И солнце склонилось. И день изнемог.
И тихо за синий порог,
Покорно ступая, несут – пронесли
Последнее утро земли.
5
Казалось бы, надгробная тишина, веющая холодом, тлен, окаменение смерти должны приводить в содрогание всё подвижное, теплое, живое. Должны внушать отвращение. Но С. Барт представляет себе смерть в виде девушки с золотою косой и голубыми глазами.
Может быть, какое-нибудь впечатление «печального» детства заронило в его душу этот образ. Одно отрывочное четверостишие С. Барта намекает на это —
Над садом старинным я помню звезду,
Печального детства светило,
И девушку помню; и – в сонном пруду
голубую могилу…
С тех пор, пройдя через разочарования и страдания в жизни, память о «голубой могиле» девушки превратилась для опустошенного сердца в страну,
Где боль цветет во имя Бога,
Где смерть веселая дана.
Как свидания, ждет поэт прихода своей голубоглазой девушки – смерти:
У смерти моей голубые глаза
И странные нежные речи.
У смерти моей золотая коса
И детские робкие плечи.
Темнеет. На травы ложится роса.
Стихаю для трепетной встречи.
Уже различая ее приближающие черты, он восклицает:
Это ты, как виденье легка.
Это ты – сквозь века, сквозь скитанья…
Наконец, она появляется для первого и одновременно вечного объятия —
И я простер невольно руки,
И тихая явилась ты.
И где-то в зеркалах, в пролетах
От глубины до глубины,
В безумном, в непомерном взлете
С тобой мы были сплетены.
6
Не напрасно дана «веселая смерть» поэту. «Вспомни, вспомни, – говорит он: – смерть не всё сжигает…».
Тишина земного торжества смерти – намек на иную тишину-тишину тайны «вечности существования». Всё временное преходяще – и мысли и лица, но
…Звезды в сияющей мгле,
Облака, облака и зарницы
Никогда не пройдут на земле.
Смерть – только переплавление несовершенной формы в более совершенную, синее очистительное пламя. И заклинанием кажется стихотворение С. Барта, раскрывающее этот высший смысл смерти:
Чтоб родиться, нужно умереть —
В тленье кануть, в тлении сгореть.
Ты не бойся тела – плотью дух сожги.
Все безумства мира, все пути твои.
Синий пламень… синяя река…
Синий пламень… первая строка…
Дрогнула завеса… Ярый, золотой
Всходит мир телесный, юный мир земной.
Путь души – канатной плясуньи, по оригинальному образу С. Барта, – вечное балансирование над бездной страдания и смерти, пока в момент, когда «ропщет бубен» и «ждет стихия», она не восходит в вечное, «небес касаясь».
7
За окном – за синей льдиной.
За покоем снежной дали
В робком свете книги синей
Зори вечные звучали.
Он пришел – о боль свершенья!
В белом облаке метели.
Я не верю в привиденья.
Но шаги прошелестели.
Встал в сторонке, точно нищий,
Весь в снежинках – в звездной пыли.
Тени строгие кладбища
На лице его застыли.
Я молчала. Скорбь иная
Мне открылась в этом миге.
Отступая, замирая,
Я замкнулась в синей книге.
На первый взгляд темное и косноязычное стихотворение это становится ясным, стоит только внимательно вглядеться в него при свете поэтического светильника С. Барта.
Мир, в котором течет жизнь человека, – комната. За окном ее в «синей книге» небесной тайны звучит о чем-то вечность.
Но вот он – гонец смерти – внезапно входит в комнату жизни в белом облаке холода уничтожения. «О боль свершенья!» – восклицает поэт.
Строгие тени кладбища застыли на лице пришельца и иная скорбь – не житейская боль, не «кровный крик» страдания, срывающийся в «пустоту», – но иная, мудрая, тихая скорбь сознания неизбежности переплавления, преображения в смерти раскрывается в этом миге.
И, отступая, жизнь входит в «синюю книгу» неба, входит из явного в тайну, из тленного – в вечное…
8
Мировоззрение автора неуловимо. Оно раскрывается в области неосознанного.
Он любит холодные цвета «голубой» и «синий», подчеркивая ими метафизичность своих образов.
У его смерти – голубые глаза. Могила – голубая. Синий пламень переплавления в смерти. Синяя книга неба. Синий порог – кладбище. Синий весенний воздух.
Томление, вечная тоска, ожидание, тревога, неясные переживания и, наконец, тени и безмолвие наполняют его стихи.
Он воскрешает романтику.
В одном своем стихотворении он, одинокий, поет осанну «распятому Другу», в то время как чуждые им, толпясь, проходят мимо холма – вечной Голгофы – «стада поколений».
Смиренномудрое, одинокое утешение мукам он нашел в своем романтическом христианстве. Не потому ли так торжественно звучит его восторженное приветствие смерти. —
Великая радость во мне.
Великая нежность. Без злобы
Стихаю в преддверии гроба.
Что было, то было во сне…
Великая радость во мне.
9
Мне остается сказать о форме и художественных приемах С. Барта.
Как в народных заговорах, в отдельных стихотворениях С. Барта повторяются одни и те же слова. Кажется, поэт снова и снова произносит их, опьяняясь их звучанием:
Синий пламень… синяя река…
Синий пламень… первая строка…
………………
И плач… и плач… и плач…
………………
Казни меня, казнящий без вины,
Казни любовь и царственные сны…
Любит он повторять и обороты, одинаково строить соседние фразы, любит параллельные места. Любит начинать несколько фраз подряд «и», «как», «где». Любит повторять в одном стихотворении одни и те же строки.
Повторения его то стремительны:
Туда, туда в безликий тлен…
то кажутся имеющими бесконечную длительность:
прощаясь навеки… навеки…
то приобретают строгую значительность:
Вспомни. Вспомни. Смерть не всё сжигает.
Рифма, в общем не богатая и иногда дающая осечку, у него подчеркнуто значительна главным образом не в конце, а в середине строчки:
Туда, туда, в безликий тлен
Испить столикой жизни плен…
………………
Это ты, как виденье, легка.
Это ты – сквозь века, сквозь скитанья…
Как ни статичен, казалось бы, мир стихов С. Барта, в них много движения. Ощущение ритма движения в С. Барте обострено в зачет пластичности. Зато движение, о котором он повествует, видишь, точно воочию, присутствуешь при нем. Даже, как бы, ощущаешь ветер, производимый этим движением. Так, он пишет:
И тихо за синий порог,
Покорно ступая, несут, пронесли
Последнее утро земли.
………………
Твоя любовь как луч в снегах!
Как зори в окна – настежь! настежь!
Стремительность, покой, ускорение, замедление и мерность он умеет передать удачным словом, скачком через пустоту логического зияния, повторениями, замедлением или ускорением ритма и т. д. Недаром у него столько восклицательных и вопросительных знаков, тире и многоточий.
С. Барт испробовал много стихотворных размеров и все претворил, подчинил себе, окрасил своею индивидуальностью. Подражания в его стихах не чувствуется. Но сознается их родство лирике Тютчева и Блока.
Каждое его стихотворение имеет свою самостоятельную жизнь. Это завершенные до конца художественные единицы – я говорю о лучших его стихах. Со своими недостатками и достоинствами они входят в жизнь того, кто их понял и полюбил, входят как нечто живое – почти существа.
Сначала стихотворение звучит, потом звуки раскрываются в слова, а слова – в бездонную тайну вечного.
Таков их путь к читателю.
И я могу смело, не боясь впасть в преувеличение, сказать, что это единственный и истинный путь настоящей поэзии. То, чем оправдано и во веки веков закреплено ее существование в жизни.
Л. Гомолицкий








