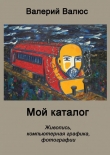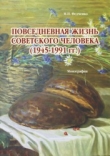Текст книги "Кэте Кольвиц"
Автор книги: Софья Пророкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Картины нужды
«Симплициссимус» – яркий, зубастый юмористический журнал. Он еще очень молод, ему нет и десяти лет. Издается в Мюнхене, но широко известен по всей Германии. Много заграничных подписчиков выражают ему свои симпатии.
Читатели коротко называют журнал «Симпль», что близко к русскому «Чудаку», хвалят за дерзость, за умение весело говорить правду, если она кому-то и неприятна. Под обстрелом – убожество нравов буржуазного общества.
«Симпль» горд тем, что на его страницах печатаются рисунки превосходных художников, фельетоны лучших сатириков.
Он был рад и гостям, печатал рисунки Теофиля Стейнлейна, новеллы Мопассана.
Пригласили участвовать в журнале и Кэте Кольвиц. Вначале казалось странным, как же уживутся ее глубокие произведения, бичующие язвы общества, среди многоцветных юмористических рисунков. Может ли соседствовать на одних страницах трагедия и комедия?
Но это были напрасные опасения. Глубина мысли листов Кольвиц как бы делала убедительной изящную звонкость карикатуры. Они подружились, и Кэте Кольвиц несколько лет подряд постоянно печаталась в «Симплициссимусе».
Обычно она рисовала углем. Работа в журнале ей чрезвычайно нравилась. Стоит лишь один раз ощутить магическое слово «тираж», как уже всегда будет манить возможность говорить с огромным числом читателей.
Работа в журнале приносила радость, держала в напряжении.
Когда рисунок заказан, его ждут, без него не может выйти очередной номер, тогда находятся сверхсилы и оригинал вовремя отправляется в Мюнхен.
Номер в руках у читателей. Его держит пассажир трамвая. Какой-то человек, отдыхая на садовой скамейке, развернул журнал, и взгляд его прикован к рисунку Кольвиц.
Огромной, бесчисленной аудитории незримых читателей Кольвиц напоминала о кровоточащих ранах.
Возможность изображать «многие тихие и громкие трагедии жизни большого города» делала для Кольвиц эту работу исключительно захватывающей.
В дневнике за сентябрь 1909 года появляется такая многозначительная запись:
«Вчера счастливый день… шестой и при этом последний лист для «Симпля» нарисован… Я так довольна, что теперь могу хорошо и легко работать. Я могла бы сейчас без труда сделать еще несколько рисунков для С. С помощью долгих штудийных работ я теперь так продвинулась, приобрела определенные навыки, которые позволяют мне без модели выразить то, что я хочу».
Картины нужды. Многие из этих рисунков вошли потом в монографии художницы, стали прославленными завоеваниями ее искусства.
Сильные, запоминающиеся образы.
Женская фигура прижалась у стены. Каменные ступени ведут к Шпрее. Еще несколько шагов, и вода поглотит эту отчаявшуюся мать с двумя детьми на руках. Одному из них она закрыла ладонью рот. А другая так мала, что смотрит своими ясными доверчивыми глазами на мир, обняла мать за голову, прильнула к ней, мягкая и теплая. Через мгновение оборвутся три жизни.
Кольвиц показывает высшую степень отчаяния, женщину, у которой не осталось ни грана надежды.
Всей страстью своего искусства Кольвиц рвалась к людям, стучалась в их сердца, звала: откликнитесь, так дальше нельзя жить!
Кольвиц понимала: сочувствием бедняку не поможешь, его надо вытащить из бедности.
Смотришь сейчас эти рисунки, опубликованные в начале века на страницах «Симплициссимуса», и словно листаешь страницы истории, узнаешь судьбы несчастных соотечественников художницы.
У двери стоит женщина, работница бань. Ничего радостного не дала ей жизнь, ни дня счастья. Только унижение, бедность, беспросветность. Она смотрит на читателя со страниц журнала своим осуждающим печальным взглядом.
Они преследуют, эти залитые слезами глаза, от них никуда не уйдешь. И даже самый вялый человек захочет сделать что-то такое, от чего повеселели бы глаза женщины, не знавшие ни одного мгновения радости.
И другой рисунок. Он называется: «Единственное счастье». Родился ребенок. Мать лежит с ним, а другой маленький – в этой же кровати. Рядом сидит насупленный отец семьи. Дети – счастье, но как трудно их накормить, если человеку негде заработать.
Один рисунок назван «Ночлежка» и как будто сделан к горьковскому «На дне». В центре бродяга обнимается с опьяневшим человеком, а сам пока залезает к нему в карман. Справа, спрятав руки под фартук, стоит женщина со злым испитым лицом. А слева – еще один свидетель этой отвратительной сцены, человек в картузе, подперевший рукой подбородок. Он видит, но тоже ничего не скажет потерпевшему, который с щедрой добротой пьяного доверчиво прильнул к случайному знакомому.
Страшный по обнаженности характеров рисунок. Превосходный по художественной выразительности.
Женщина поджидает опьяневшего мужа. Он отнес, может быть, все, что было в семье, но жена отведет его домой, жалкого, не держащегося на ногах.
Или какой-то другой пьяный вернется домой и в жестоком угаре изобьет ни в чем не повинную жену. Маленькая девочка в Ужасе обняла мать, страшась своего одичавшего отца.
Тягостные сцены людского горя. Им нет конца. Материнство, которое могло быть счастьем семьи, в этих рабочих кварталах превращается в источник женского страдания.
Родные часто спрашивали Кэте Кольвиц, почему она замечает чаще всего только печальное в жизни, есть ведь и радости у людей.
Кольвиц обычно не знала, что ответить. Она-то хорошо знала, как печаль глубоко въелась в жизнь, как мало в ней светлого. И ради этого светлого она и отдавала свой талант осуждению мрака.
Журнал «Симплициссимус» начал выходить в Мюнхене в 1896 году и так определил свое назначение: «С горьким смехом вскрывать убожество, в которое опускается наше стареющее общество», а также беспощадно срывать маски добропорядочности с доброго старого времени.
Группа талантливых художников блестяще справлялась с этой программой.
Кэте Кольвиц встречалась с ними на страницах журнала, со многими познакомилась. Высокий уровень сатирической графики делал для нее особенно привлекательным сотрудничество в журнале.
Один из корифеев «Симплициссимуса» – Олав Гульбрансон. Блестящий карикатурист, он также прославился своими острыми и неожиданными шаржами. В грозном для России 1905 году был опубликован его превосходный дружеский шарж на Максима Горького. Многие писатели, актеры и ученые показаны в журнале в остроумных юмористических портретах Гульбрансона.
«Симплициссимус» заключил пакт на дружбу с революционными русскими сатирическими журналами «Жупел» и «Пулемет». На страницах немецкого «Симпля» под обстрел попали язвы политической жизни России.
Но слишком откровенные разоблачения у себя на родине вызывали вмешательство власть имущих. Основатель журнала, одареннейший сатирик Гейне Томас-Теодор провел шесть месяцев в тюрьме за помещение рисунков, неугодных немецкому императору. Очутившись на свободе, вновь принялся за прежнее.
Лучше всего Кэте Кольвиц узнала Генриха Цилле, тоже часто помещавшего рисунки на страницах «Симплициссимуса». Старше ее на девять лет, он начал выставлять свои работы, когда Кэте Кольвиц была уже широко известна.
Талантливый самоучка только в пятьдесят лет смог предаться творчеству, после того как его по возрасту уволили из фотографического общества, где он долгие годы работал литографом.
Генрих Цилле стал выдающимся сатириком Германии. Его называли ласково Отцом улицы и часто видели с альбомом в руках во дворах, в захолустных переулках, в кабачках рабочего Берлина.
Бесчисленные рисунки Цилле посвящены берлинским ребятам, женщинам большого города – их бедам и радостям. Самую сложную житейскую драму художник показывал улыбчиво. Это был горький смех сквозь слезы, но всегда смех. И проеме люди Берлина платили нежной любовью своему художнику.
Цилле оставил несколько быстрых набросков с Кэте Кольвиц. Он и ее увидел смеющейся, показал, как чистосердечно мела веселиться эта седая женщина с печальными глазами.
Раздумья
Позирует молодая женщина. Она держит на руках резвого маленького ребенка и веселится вместе с ним. Добродушна, миловидна и чистосердечна.
Кольвиц довольна моделью и встречается с нею день за днем. Все больше отдает она себя скульптуре. Увлекается, полна надежд и вновь погружается в отчаяние.
Как заманчива пластика. Она требует порыва, храбрости, ей не ужиться с осторожностью.
Сколько наслаждения дают часы, проведенные перед обнаженной моделью. Вечером записывает в дневник: «Она была роскошна с мальчиком, когда держала его на коленях и бесилась с ним. Мальчик чувствовал себя очень хорошо возле ее наготы, как маленький зверек, как фавник… Она тоже полна животной доброй веселости и обладает даром болтать с детьми, что им так нравится».
Весной Кольвиц больше ничего не делала, только лепила. Мягкая, податливая глина вбирала в себя ее пылкость и стремление к могучим формам. Но все это еще было далеко от совершенства.
Показывает работу знакомым скульпторам. Встречают холодно. Да и сама видит, что пока это только дилетантство, не больше.
Скоро лето, пора оставлять мастерскую. Трудно расстаться с моделью, со своей группой, с которой связано уже много надежд.
Нет, вещь еще не завершена. Пусть постоит, укутанная мокрыми полотнищами. Хорошо отдохнуть от нее и потом посмотреть свежим взглядом. Может быть, тогда яснее обнаружатся промахи.
Кольвиц пишет Беате Бонус: «В последнее время я много лепила. Это мне доставляет огромное удовольствие, и я надеюсь в этом чего-то достигнуть».
Сделан барельеф для памятника деду Юлиусу Руппу. Она едет в Кенигсберг. На остроконечном камне водружается бронзовый портрет неутомимого проповедника. Памятник установлен на средства членов религиозной общины, которым дорог человек, так много своего сердца отдававший людям.
Юлиус Рупп похоронен возле мрачного кафедрального собора, невдалеке от дома. По другую сторону – могила Иммануила Канта. Строгие колонны стоят вечными стражами возле саркофага великого философа.
После огромного успеха серии «Крестьянской войны» Кольвиц очутилась на распутье. Она чувствует, что вступила в переходную пору. Многое достигнуто, и повторять себя нет смысла.
Делится с подругой своими размышлениями: «Вся осень при действительно прилежной работе принесла только неудачи в гравировании». Она даже усомнится: «Могу ли я вообще вернуться к офорту?»
К этому времени относится один из лучших автопортретов Кэте Кольвиц. Великолепный офорт, выдающий ее совершенное гравировальное мастерство. Она в глубоком раздумье склонилась на руку, охватившую лоб. Если вникнуть в письма и дневниковые записи тех дней, станет понятной эта озабоченность.
Подрастали мальчики. Старший, Ганс, мечтавший о сцене, стал изучать медицину и уехал для этого во Фрейбург.
Карл Кольвиц отговорил его от сценической карьеры. Сын послушался совета, но к медицине относился без воодушевления. Он стал потом серьезным, вдумчивым врачом. Сцена осталась лишь романтическим воспоминанием юности.
Младший, Петер, неожиданно потянулся к искусству. Кольвиц с затаенной радостью угадывала эти проблески художественной одаренности сына. Она так сказала об этом в дневнике: «В глубине смеется мое сердце, что мальчик сейчас на всех парусах несется в искусство… Этот этюдник он взял в Венген и привез оттуда этюды, которые меня колоссально обрадовали. Мальчик видит цвет и иногда воспроизводит вещи так приятно, что я удивляюсь и необузданно радуюсь, так как если он действительно станет хорошим живописцем, как чудесно это было бы».
Работы Петера видел известный живописец Макс Либерман и посоветовал ему учиться. Он берет уроки у художника Бранденбурга и готовится к поступлению в художественно-промышленное училище.
Кольвиц предостерегает сына от дилетантства. Она говорит ему о важности хорошей школы. Мать сердится, когда сын не понимает ее высоких требований к искусству.
Петер пишет свой автопортрет, но стесняется показывать его. Она сожалеет об этом. «Твой автопортрет я не видела в его первоначальных стадиях, он кажется мне замученным. Выло бы лучше, если бы я не отворачивала голову так добросовестно, когда входила в твою комнату».
Стремление сына к искусству сближает их. Он очень быстро растет, но часто болеет. Доктора Кольвиц беспокоит здоровье сына. При его неистовом росте опасны эти постоянные простуды.
Петер едет вместе с матерью во Флоренцию. Но это мало дает для укрепления здоровья. Он проводит целые дни в музеях.
Тогда его отправили к знакомым в деревню, на полевые работы. Там лучше окрепнет. Кольвиц навещает сына. Она едет к нему в Любохин. Сначала эта поездка даже не очень ее радовала: «В это время я усиленно работала над маленькой скульптурной группой влюбленных».
Но в вагоне уже ее охватило нетерпеливое ожидание встречи с сыном.
«Я увидела его бегущим за станционным зданием, мы поехали потом в маленьком одноконном экипаже. Я пробыла там три дня и уже с первого дня чувствовала боль, что должна снова оставить Петера. Я любила его так сильно в эти дни, быть с ним рядом было для меня счастье… Ночью в постели я плакала и тосковала, как будто я уже уехала.
Он представился мне совершенным в своей простой детской наивной приветливости, с добрым и мягким смехом…»
Кольвиц писала сыну: «Я радуюсь тому, как ты видишь форму. Я нахожу, что ты это видишь органически. Но твой цвет эмоционален. А эмоциональность себе можно позволить только после усиленной сознательной работы».
Вместе с Петером Кольвиц совершает загородные прогулки. Сын хочет написать этюд в подарок ко дню рождения отца.
Они останавливаются в живописном месте. Петер пишет, а Кольвиц лежит на траве и вдыхает запах сосен, полевых цветов.
Она никогда не писала этюдов, лишь молча любовалась природой.
В тот день кругом были покой и торжественная тишина. Можно хоть ненадолго отвлечься от тревожных мыслей, которые уже очень давно донимают ее.
Кольвиц круто повернула в своем творчестве. Сделанное позади, нужны большие усилия, чтобы от этого оторваться. Как-то отвечая на вопросы Артура Бонуса, работавшего над монографией об ее творчестве, Кэте Кольвиц писала:
«Вы спрашиваете, откуда образовался перерыв с 1910 (собственно 12-го), до 1920 годов. Да, это было критическое время. Я еще гравировала, но почти ничего не заканчивала… Моя подавленность прошла благодаря ощущению, что я могу в пластике найти новое поле деятельности.
Из моих ранних скульптур я только дважды рискнула что-то выставить, потом все же об этом пожалела. Это была пора чрезвычайно важной перестройки».
Беспокоят и поиски молодых одаренных художников, которые порой представляются «талантливыми мазилами», самонадеянно считающими себя будущими Э. Мане.
Эта тревога находит выход в дневнике: «Если бы я ощущала в себе больше сил, они бы меня меньше заботили. Сейчас я не чувствую никакого отзвука, мне кажется, что я уже сброшена в архив». Это сказано в сорок пять лет! Кольвиц вообще очень рано заговорила о признаках приближающейся старости. Может быть, поседевшие волосы были тому внешней причиной. Но художественные возможности еще не исчерпаны. Минута слабости, депрессия, которая ее часто посещала, вызвали столь мрачную оценку своего будущего.
Как обычно, совсем неожиданно апатия сменяется верой в себя. Кольвиц мечтает сделать в скульптуре хотя бы что-то равноценное своим лучшим графическим произведениям.
Карл Кольвиц призывает к осторожности. Видя ее необузданное увлечение скульптурой, он предостерегает, не помешает ли это совершенствоваться в графике.
Но в мастерской стоит «Любовная группа». Она изображает двух юных влюбленных, всепоглощающее острое и вечное чувство первой любви. В глине выражена преданность и потрясенность любовью, какое-то ослепление ее силой.
Группа почти готова. Кольвиц даже хочет ее выставить на суд зрителей. Надеется, что она вызовет отклик и это придаст храбрости самому ваятелю.
Кольвиц выбрана в жюри Берлинского Сецессиона. Это художественное объединение, созданное еще в 1899 году для организации выставок. В него входили художники, недовольные консерватизмом эстетических взглядов руководителей Большой Берлинской выставки, отражавшей официальное направление в искусстве.
В дневнике записано: «Работа в жюри вносит, однако, достаточно оживления. Вчера жюри началось в 3 часа дня, мы сидели вместе до шести, в половине девятого должно было состояться общее собрание. В промежутке я пошла к Штернам. Как раз в это время – остальные еще оставались на местах – Доставили мою группу. То, что я не присутствовала при этом, было мне очень приятно.
По возвращении я услышала мнение товарищей. Оно звучало благосклонно. Как мне самой покажется моя работа в постороннем окружении и освещении, я еще не знаю. Надеюсь, она устоит».
Но случилось так, что зрители не заметили первой скульптуры Кольвиц. Художница откровенно в этом признается. «Это верно, что она провалилась. Почему?.. Средний зритель ее не понимает… Я также думаю, что между художником и народом должно быть понимание, в лучшие времена так именно и было… чистое искусство, созданное в ателье, бесплодно и дряхло, так как то, что не пустило жизненные корни, почему это должно существовать?»
Скульптура, которой отдано так много душевных сил, оставила зрителя холодным. Это насторожило Кольвиц. Она старается понять причину неудачи.
«Это большая опасность для меня, что я себя слишком отстраняю от среднего зрителя. Я теряю связь с ним. Я ищу в искусстве, и кто знает, прийду ли при этом к искомому?.. При поисках легко впадают в творческие размышления, и при изощренности – в претенциозность».
Именно изощренность и некоторая излишняя обобщенность формы могли помешать зрителям оценить это произведение Кольвиц.
Поэтому главное – не оставляя поисков, вернуться к простоте.
Одно из давних впечатлений ранней молодости. Двадцать пять лет назад Кольвиц с братом побывала на кладбище жертв мартовской революции 1848 года.
Теперь создана композиция на эту тему. В альбоме новых работ Кольвиц сопроводила эту литографию такой подписью:
«Кладбище погибших в марте 1848 года я ежегодно посещала 18 марта. С утра до вечера рабочие медленно шли длинной шеренгой мимо могил. На могильных камнях лежали венки с красивыми бантами и надписями, многие из них срезали полицейские, стоящие у входа. Могилы лежали в прямоугольнике вокруг растущей посередине липы.
Не все надписи на могильных камнях можно разобрать, но было очевидно, что под плитами лежали молодые люди.
До войны 18 марта был днем, который единодушно отмечал весь красный рабочий класс Берлина».
На литографии – шествие рабочих в траурный день. Они медленно проходят мимо плит, внимательно вчитываясь в надписи. Молодые лица, сосредоточенные, заинтересованные. Может быть, это правнуки тех, кто сражался на баррикадах Берлина.
Художнице удалось так рассказать об этих людях, словно мы присутствуем при пробуждении их мысли, стремления к действию.
Литография появилась в 1913 году. Упругий, плотный рисунок на камне. Темные фигуры, одна тесно прижатая к другой. Светлые лица, светлые руки, стиснутые кулаки.
Единство и твердая решимость исходят от этих рабочих, пришедших в памятный день к могилам берлинских революционеров.
Литография в память погибших революционеров вместе с другими новыми работами Кольвиц издана отдельным альбомом. Написано уже много исследований творчества художницы, выпускаются папки с рисунками, отдельно публикуются серии офортов.
В 1925 году напечатана и монография Артура Бонуса. Он пытался объяснить религиозностью истоки искусства Кэте Кольвиц. Пламенное стремление художницы к тому, чтобы всем простым людям жилось хорошо, Бонус относил за счет ее христианских побуждений.
Это был первый автор, который дал такую оценку творческим импульсам Кольвиц. За ним последовали и некоторые другие критики. Особенно популярна эта интонация в нынешней прессе Западной Германии. Все, конечно, говорят, что Кольвиц не принадлежит ни к какой определенной религии, но, дескать, и без этого творчество ее будто бы окрашивается религиозностью.
Сама Кольвиц ответила, и не раз, на эти домыслы. Еще в письме к Артуру Бонусу, когда создавалась монография, она написала ясно о своей молодости:
«Когда я потом уехала из дому и в меня вошел материализм, восстала я против всего, что называлось религией».
А в разговоре с сыном сказала:
«Я не религиозный человек, как бы Бонус ни старался».
На протяжении всей жизни Кольвиц поклонялась другим богам. Один из них – великий Гёте. Он был ее постоянным спутником в радости и беде, советчиком, утешителем и звездой, влекущей к совершенству. Она сказала как-то о Гёте: «Он был для меня, как сытный ежедневный хлеб, который можно есть всегда, не пресыщаясь».
Она поклонялась великому Бетховену, его Девятая симфония для нее всегда была откровением.
В декабре 1918 года Кольвиц пишет: «Божественно хорошо! Впервые с начала войны снова Девятая… Да, в Девятой лежит социализм в чистейшей форме. Это человечество, которое пылает высоко, как роза, ее цветок проникнут солнечным светом. Это божественное ликование».
Она поклонялась Рембрандту, которого совсем по-дружески называла старым львом. Она боготворила Микеланджело, портрет которого всегда висел в ее мастерской.
С того самого дня, как девочкой Кэте приносила жертвы богине Венере, в ее жизнь вступали великие поэты, художники, композиторы. Но над всеми оставался до последнего дня великий Гёте.