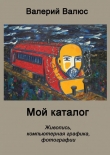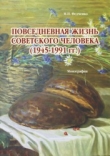Текст книги "Кэте Кольвиц"
Автор книги: Софья Пророкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Друг
Россию Кольвиц узнала по книгам. Она читала очень много. Над всеми возвышался Гёте – пылкая юношеская привязанность. Золя сменялся Толстым, Бальзак – Достоевским.
К «Братьям Карамазовым» возвращалась не раз. «Эта книга возникла передо мной, как широкая жизнь или широкий поток. Эта ширь такая русская, я люблю ее безгранично».
Горький вошел в ее жизнь, как умный друг. Автобиографическая повесть прочитана сразу, как только книга издана на немецком языке. Русский талантливый бунтарь встал перед Кольвиц во весь рост.
Она прошла вместе с писателем по России, полюбила волжские просторы, прониклась нежностью к жителям маленьких избушек под соломенными крышами, близко ощутила глубину и ласковость русской. женщины.
В дневнике появляется запись: «Горький в истории своей жизни рассказывает о бабушке, как нежно и осторожно она говорила о душе, когда бог после смерти берет душу к себе. «Ну, моя любимая, моя чистая».
В январе 1903 года Берлинский Малый театр сыграл пьесу Горького «На дне». Спектакль поставил Макс Рейнгардт. Он имел огромный успех, его исполняли около пятисот раз и всегда при переполненном зале.
Побывали в театре и Кэте Кольвиц, ее сыновья, племянницы. Пьесой Горького долгое время жила вся семья.
Большим праздником для труппы театра было письмо автора, адресованное постановщику и исполнителям. Горький благодарил М. Рейнгардта за хорошую постановку. Он прислал фотографии, снятые в Московском художественном театре, «чтобы показать вам, как близко вы и труппа ваша подошли в изображении типов и сцен моей пьесы о русской действительности… Ничто не объединяет людей, как искусство, так да здравствует же искусство и те, что служат ему, не страшась изображать суровую правду жизни такой, какова она есть!»
Революционные события доносятся и до Берлина. Кольвиц с волнением следит за судьбой Горького.
9 января 1905 года писатель был на Дворцовой площади и видел, как пролилась кровь рабочих. Негодуя, он написал возмущенный протест против царской расправы, и его заточили в Петропавловскую крепость.
Встревоженная Кольвиц читает в январе 1905 года в «Берлинер Тагеблатт» призыв «Спасите Горького!». Лучшие умы всех народов восстали против репрессий царизма, выразили свой гнев по поводу ареста Горького. Горячая защита друзей во всем мире вернула Горькому свободу.
Через год он приехал в Берлин, бывает в театрах, смотрит постановку своей пьесы.
Устраивается литературный вечер, на котором Горький обещал прочитать новые произведения. Но и здесь не менее жесток полицейский террор, чем на его многострадальной родине. Литературный вечер сорван. Горький пишет Л. Андрееву: «Совсем как в России, даже у нас хоть скандальчик бы устроили. А тут разошлись тихо, благородно, как в царствии небесном».
Домашние спектакли были увлекательной частью бытия семьи Кольвиц. В детстве они с сестрой разыгрывали пьесы, иногда актерами их были картонажные куклы.
Теперь дети подросли и также часто превращали маленькую гостиную в зрительный зал.
Ганс уже начал писать стихи и как-то продиктовал матери целую пьесу. Ее сами же разыграли.
В программе бывали Гёте, Шиллер, Гауптман. Теперь героем дня стал Горький, его пьеса пришла на Вайсенбургер-штрассе, 25.
Кольвиц вспоминала:
«Над всем было «На дне» Горького – постановка, которая все в нашей квартире перевернула вверх дном».
Семнадцать действующих лиц, где набрать столько актеров? Приглашены дети сестры, девочки, увлекающиеся театром, их подруги.
Участвует Георг Гретор, которого Кольвиц привезла из Парижа. Мать – художница, подруга – живет тяжко, как ей не помочь. Юноша поселяется с сыновьями, становится любимым членом семьи, третьим сыном. Живет в их доме несколько лет.
Таково щедрое сердце Кольвиц. Она делала добро людям ежеминутно, не представляя себе жизни без этого.
И все же молодых не хватает на все роли, да им одним и не справиться с таким сложным спектаклем.
Раздают роли взрослым. Сестра Лиза Штерн играет Настю, Карл Кольвиц – Луку. В его характере так много от всепрощения и доброты горьковского странника. Кэте Кольвиц выбрала для себя Анну – молодую исстрадавшуюся женщину.
Мало слов дал Горький Анне, но какие это обжигающие, тяжелые, как камень, слова.
Кольвиц прониклась ее мукой. Она говорила своим мягким голосом:
– Побои… обиды… ничего кроме – не видела я… ничего не видела! Не помню – когда я сыта была… Над каждым куском хлеба тряслась… Всю жизнь мою дрожала… Мучилась… как бы больше другого не съесть… Всю жизнь в отрепьях ходила… всю мою несчастную жизнь…
Глядя перед собой темными блестящими глазами, Кольвиц задает вопрос Анны: «За что?»
В этот момент она забывает, что исполняет роль русской женщины. Перед ней обескровленные лица ее знакомых, их рано ушедшая молодость, тяжелая ноша жизни.
Несчастья, людей не знают границ. Не потому ли так близок ей Горький, что он видит не только горе людское, но и манящий свет радости. Сквозь мрак, драки, пьянство, воровство звучит голос Сатина:
– Человек! Это великолепно! Это звучит гордо!
Вместе с далеким русским гуманистом здесь в рабочем районе Берлина произносят горделивое слово – свобода. К этой крылатой свободе призывает Горький.
В декабре 1906 года в газете «Форвертс» начала печататься повесть Горького «Мать». Нетерпеливо ждет Кольвиц каждый номер газеты. Как многое в этом произведении совпадает с тем, над чем она трудится сама.
Книга перенесла ее в исстрадавшуюся и бушующую Россию. Она вместе с Ниловной переживает опасные дни, когда полицейские уводят ее сына в застенок, вместе с русской матерью на демонстрации принимает алый стяг.
Книга так захватывает, что хочется скорее узнать, читали ли друзья эту повесть.
Когда в немецких газетах после Великой Октябрьской революции стали появляться статьи Горького, Кольвиц не пропускает ни одну. Она проникается пламенной публицистикой писателя, откладывает статью потрясенная и тут же посылает ее друзьям, только просит непременно вернуть газету обратно.
Запомнились слова Горького:
«…русский рабочий-социалист привлек к себе внимание всего мира. Он как бы сдает перед лицом человечества экзамен своей политической зрелости, он показывает себя всем людям земли творцом новых форм жизни. Еще впервые в таком огромном размере производится решительный опыт осуществления идей социализма, опыт воплощения в жизнь той теории, которую можно назвать религией трудящихся».
Газета прочитана, Кольвиц откинулась в кресле, задумалась. Она берет перо и пишет в дневнике: «Если бы я могла верить, как он!.. Я почти завидую русским, которые, так безоговорочно веруя, идут их большим, простым путем…» И сейчас же посылает газету Беате Бонус: «Я посылаю вам одну статью Горького – возможно, вы ее знаете (пожалуйста, обратно!). Он меня, должна я сказать, потряс».
Пишет дочери подруги – Хельге Бонус: «Знает ли отец «Мать» Горького? Ее я тоже хочу тебе дать, когда ты сюда приедешь».
Когда Максиму Горькому исполнилось шестьдесят лет, Кэте Кольвиц написала ему поздравительное письмо:
«С юности я люблю Россию, с которой меня познакомили Достоевский, Толстой и Горький. Я читала их книги наряду с книгами великих французских романистов, но Россия роднее мне, чем Франция.
Большой поездке моей вместе с Калмыковой помешала война. И только в возрасте 60 лет, в 1927 году я впервые переехала русскую границу. Под советской звездой. Все, что я видела в России, я видела в свете этой звезды.
И я испытываю желание еще раз отправиться туда, внутрь страны, на Волгу.
Я шлю Максиму Горькому сердечный благодарный привет за все, что он мне – нам – дал своими книгами».
Горький вплелся в творчество Кольвиц незримыми нитями. Одна из вершин ее искусства – графическая серия «Крестьянская война» – создана именно в годы глубокого увлечения книгами великого русского гуманиста.
Когда в ее квартире ставился спектакль «На дне», она работала над одним из листов своей серии, который называется «Прорыв».
Вершина
Женщина в неистовом порыве взметнула руки вверх, распласталась, как трепещущее знамя. И толпа ринулась за ней с вилами, косами, топорами. Хлынула лавина людей, измученных рабством.
Кольвиц часто придавала изображенным женщинам собственные черты. И на сей раз она сама врывается в композицию «Прорыв», создав один из лучших своих автопортретов.
Это она, Кольвиц, будит равнодушных и вселяет силы в слабых. Это она, Кольвиц, всем средоточием воли, всей исступленной верой влечет за собой восставших.
Широта народных движений всегда волновала художницу. Долгие месяцы неотступно думала она о том, как изобразить взрыв народного гнева, когда, по выражению Энгельса, иссякла «привычка к подчинению» и «Германия выдвигала личности, которые можно поставить рядом с лучшими революционными деятелями других стран…»
Энгельс призывал: «…пора снова показать немецкому народу неладно скроенные, но крепко сшитые фигуры Великой крестьянской войны».
Призыв этот подхватила Кольвиц. Сразу после победоносного шествия своих «Ткачей» она обратилась к тем крестьянским волнениям, которые охватили Германию в далеком XVI веке.
Достоверно рассказал об этих событиях историк Циммерман. Кольвиц читала его описание, и минувшее раскрывало перед ней героику немецкого народа.
Первая композиция, посвященная восстанию, создана в 1899 году следом за последним офортом, в котором раскрыта трагедия бунта силезских ткачей.
Словно не желая задерживаться на поражении революционных сил, Кольвиц не дает оборваться своей мысли, она рисует вновь восстание, на сей раз мирных сельских жителей.
В сильных руках одного из предводителей древко развевающегося флага. Другие идут рядом, стиснув руками острые топоры. Над шествием восставших парит обнаженная женщина с горящим факелом.
Первая мысль, рожденная погружением в историю. Пока еще не ушедшая от традиционного изображения революции в виде прекрасной, чистой и вдохновенной женщины. Символ, к которому прибегали многие художники.
Для Кольвиц он был чем-то чужеродным, как и для истомленных крестьянских бунтарей, очень уверенно шагающих по своей бушующей земле.
Офорт отпечатан, но он еще не дал уверенности, что тема исчерпана. Восстание мучает, не дает покоя. Мозг в напряжении каждую минуту.
Художница возвращается из мастерской к обеду. Это часы, когда они видятся с мужем, с утра принимавшим больных или вернувшимся после их обхода. Теперь она – мать, жена. Шутит со своими любимыми, посмеется с ними, расспросит каждого, чем хорош или плох был для них минувший день.
Но за всеми этими словами и заботами, за ежедневной жизнью семьи работает мозг художника. Он никогда не знает отдыха. Он создает. Когда и как возникает образ, установить трудно. Этот момент почти неуловим.
По вечерам Кольвиц вновь листает тома истории Крестьянской войны. Вновь и вновь возвращается к одной главе. Перед ней бедная крестьянка из убогой хижины, которая стала предводительницей восставших.
В народе ее прозвали Черной Анной. Прежде она слыла чародейкой и пророчицей, верила в силу проклятий и благословений.
Сильная, яркая, самобытная натура, она умела любить и ненавидеть.
Когда начались крестьянские волнения, Черная Анна напутствовала уходящих в бой: «Будьте веселы, смелы и не теряйте мужества». Вспоминала свои колдовские чары и произносила заговоры от солдатских копий, алебард и огнестрельного оружия.
Бедная крестьянка вошла в предания о Великой крестьянской войне Германии XVI века. Она ненавидела виновников рабства и звала к свободе. Робких учила мужеству, слабых – силе, сомневающихся – вере в победу.
Этот величественный образ предводительницы восстания заполонял мысли Кольвиц долгие недели. Кольвиц писала: «После того как я сделала маленький лист с летящей женщиной, эта тема заняла меня еще больше, и я надеялась ее как-нибудь так изобразить, чтобы с этим покончить…»
Женщина, увлекающая на подвиг крестьян. Как же найти графическое решение темы, как изобразить эту Черную Анну, чтобы до зрителя сразу доходил ее пламенный призыв?
Это было в дни самого глубокого увлечения Роденом. Одна его скульптура произвела сильнейшее впечатление. Она называется автором по-разному. Одно из названий «Мольба». Обнаженный юноша, стоящий на коленях, с горячей верой обращает руки к небу.
Он просит, умоляет, требует помощи. Все тело его напряглось в этом обращении к силам небесным, каждый мускул кричит о помощи.
Эта скульптура врезалась в память, Кольвиц вспоминала о ней через много лет. В одной из дневниковых записей она выделила Родена из всего современного ей искусства, подняла его на высочайший пьедестал. И назвала только одну из потрясших ее когда-то скульптур – «Мольбу».
Не этот ли юноша, изваянный великим Роденом, натолкнул Кольвиц на гениальное решение ее образа предводительницы восставших? Не эти ли воздетые к небу руки бронзовой фигуры вызвали к жизни полный революционного порыва жест Черной Анны?
Появляется мысль композиции. Женщина стоит чуть ближе к левому краю листа. Своей фигурой, обращенной вперед, узловатыми, стиснутыми в напряжении пальцами рук, всем невероятным напряжением тела она влечет за собой толпу разъяренных ненавистью людей. Один из бегущих крестьян смотрит на Черную Анну глазами, полными веры и беспредельной преданности.
Когда в тиши мастерской Кольвиц провела последний штрих иглой по медной доске и сняла пробный оттиск с офорта «Прорыв», появилось произведение о революционном восстании, какого не знала еще история искусства всех народов.
Это больше не парящая над миром мифическая фигура, призывающая к боям за свободу. Это худая кряжистая крестьянка, в длинном платье из домотканой холстины, некрасивая и убогая, но прекрасная в силе своей убежденности, в зажигающем воздействии на идущих за ней крестьян.
При всей испепеляющей требовательности к своему искусству Кольвиц не могла не ощутить, что ей посчастливилось сделать очень большое. «Прорыв» как бы раскрыл перед художницей всю серию. Он появился первым и задал тон в работе над другими сюжетами из Крестьянской войны.
Семь композиций – итог восьмилетнего труда. Навеяны они событиями минувшего, но живут сегодня и будут действовать до той поры, пока еще где-то на земле сохранится хоть один раб.
Так великое искусство Кольвиц вновь перешагнуло через границы исторической темы. Эта серия была как бы прелюдией грядущих революций XX века.
Образы крепко сколоченные, немногословные, но властно полонящие.
Две силы столкнулись в этих семи офортах. Одна из них повествует о причинах, другая – итог.
Человек, прикованный рабством к плугу. Человек, растоптанный насилием. Человек, уничтоженный убийством. И вспыхивает протест. Мирный крестьянин берется за оружие, он точит косу для мести, он восстает.
Но силы еще не равны. Битва крестьян проиграна.
Как в гигантском фильме, развернулись перед Кольвиц события Великой крестьянской войны. Огромные районы охвачены восстанием. На долгие годы развалины монастырей и замков были немыми свидетелями происходивших на этих землях битв.
Почему иссякло терпение? Жадность хозяев и жестокость лежали тяжелейшим бременем. Жизнь человека не имела цены. Историк рассказывает:
«…один мужичок поймал в ручье, принадлежавшем г-ну фон Эпштейну, несколько раков. Благородный владетель велел его схватить и послал во Франкфурт, прося Совет дать ему палача, чтобы отрубить мужичку голову. Совет вольного города нашел, что «по закону нельзя рубить бедняку голову из-за какого-нибудь рака». Но г-н фон Эпштейн достал себе где-то другого палача и заставил его казнить мужика».
Иванушкой Свистуном прозвали одного человека, который наигрывал на дудке и пел песни о равенстве и свободе. Его видели у храмов в церковные праздники, он пел на свадьбах. А потом заговорил «о новом царстве», где не будет ни князей, ни папы, никаких господ и повинностей, где все будут братья, каждый сам себе будет зарабатывать насущный хлеб, и никто не будет желать иметь больше, чем другие».
Историк Циммерман повествует о трагическом конце этого далекого социалиста XVI века. По приказу епископа Вюрцбургского Иванушку Свистуна схватили ночью и сожгли. Этим на время пресекли волнения среди крестьян. Но вскоре они вспыхнули с новой силой.
Картина огромного народного движения раскрылась перед Кольвиц. И сила этой необузданной стихии, того «здорового вандализма», как назвал его Энгельс, захватила ее, и она в ужасе читала страницы истории, на которых сгустки человеческого горя, варварство расправы. Солдат приговорен к смертной казни за то, что он хотел передать город восставшим крестьянам. Его мать умоляла о пощаде для сына. Никто не внял этим мольбам, и женщина повесилась на образе Спасителя в Ильенском парке. Она ушла из жизни, проклиная бога и мстя ему за жестокость сильных мира сего.
Мятежников хватали тысячами, недоставало цепей и веревок, чтобы скручивать восставших. Кровь лилась ручьями, тюрьмы ломились от арестантов. Мщение было свирепым.
Грандиозная народная эпопея владела мыслями Кольвиц долгие годы.
Один за другим возникали сюжеты композиций. Последний лист «Пленные» был закончен через десять лет после того, как завершилась первая серия. Срок большой для развития таланта.
В «Ткачах» Кольвиц по-молодому многословна, она еще не овладела высочайшим искусством в малом сказать о многом. Не доверяя себе, старалась убедить зрителя подробностями.
Художница говорила, вспоминая о работе над «Крестьянской войной»: «В то время мне хотелось, чтобы люди, взглянув на мои рисунки, начали вопить». И она добилась такой обжигающей силы впечатления.
Пришла зрелость, талант вступил в зенит. Можно сказать об этой поре творчества Кольвиц словами любимого ею Гёте: «В ограничении сказывается мастерство».
Их было, вероятно, множество, этих маленьких набросков, вариантов первого листа, которому дано название «Пахари». На одном из них печальная женщина смотрит, как из-под горы тяжело волокут плуг изможденные пахари. Грозное над ними небо.
Или по-другому поворачивается замысел: та же согбенная нуждой женщина управляет плугом, в который впряглись два крестьянина.
Долгие часы за письменным столом. Сменяются листы бумаги, быстро скользит по ней черный хрупкий уголь. Наконец появляется последний вариант, в нем цель кажется достигнутой.
Два почти ползущих по земле человека волокут плуг, от которого видно лишь освещенное колесо. Все остальное за рамкой листа. Измученные, раздавленные тяжестью фигуры. В них олицетворенное рабство крестьянского труда, его безысходная тягость. Человек вместо лошади сам впрягается в плуг. Он почти вкопан в землю, закабален ею.
Мысль повторяет пройденный путь и в третьем листе серии – «За точкой косы». Сначала мы видим женщину с озлобленным лицом во весь рост. Она облокотилась на лезвие косы, вцепилась в него пальцами правой руки, а левую вяло опустила. Она как бы задумалась над чем-то ее рассердившим.
Лист называется просто «Женщина с косой» и кажется подготовительным рисунком к тому офорту, который говорит со зрителем в упор, без обиняков.
На него смотрит ненависть, ожесточенная, мстительная. Показано лицо, прильнувшее к лезвию косы, и руки. В одной из них – точило. Так оттачивается орудие мести.
Но самое завораживающее в лице – глаза, узкие щелки, сквозь них видны белки с двумя точками зрачков. В глазах – лютая, застывшая, непрощающая ненависть. Эта женщина страшна. Такой была, наверное, Черная Анна, когда вела крестьян громить барские усадьбы.
Так ожесточить женщину может лишь вековой гнет. Превратить ее в сгусток злобы способно лишь иссушающее дыхание жестокости. Бесчеловечность породила бесчеловечность.
Вновь от описания Кольвиц пришла к чеканному символу.
Перед нами классовая ненависть во всем ее неприкрашенном виде. Рисунок «За точкой косы» не требует никаких пояснений.
Великая крестьянская война потерпела поражение. Поля устланы телами погибших. Наступила ночь. Во мгле бродит среди трупов мать: она ищет сына. Светильник в ее руках выхватывает из мглы юное лицо. Дрожащая рука коснулась подбородка. Мать узнала родные черты.
Скорбная согбенная фигура в черном, и только свет на сомкнутых глазах. Крутом распластались застывшие тела. Тишина склепа под открытым небом. Среди мглы светлое лицо. Напряжение и предчувствие страдания уже в этом светлом луче, пронзившем черноту ночи.
Вечное материнское горе – трагический спутник всех войн.
Лист этот красив, несмотря на то, что втягивает и зрителя в круг страданий. Он красив как высочайшее произведение графического искусства. Плавный бархатисто-черный силуэт женщины как бы выплывает из темного поля и растворяется на сером, светлеющем небосводе.
Стремительный, порывистый офорт «Вооружение в подвале» переносит нас к дням Крестьянской войны, когда счет времени шел на минуты и люди жили в едином порыве.
В этом листе есть одно таинственное свойство. Вооружающиеся крестьяне поднимаются с косами, серпами и ножами вверх по винтовой лестнице. И Кольвиц удалось достигнуть такой непрерывности движения, что кажется, будто вихрь вырывается на волю вместе с этой воодушевленной толпой. Сам смерч революции запечатлен в этом буйном стремлении ввысь.
Хоть у Кольвиц нет произведений, прямо посвященных русской революции, но вся ее сюита как бы напитана ее соками.
Трагическая расправа с посягнувшими на русский трон происходила в дни, когда Кольвиц уже работала над последним листом своей серии. Ее «Пленные» стоят со скрученными назад руками. Они удручены, но полны решимости. Упрямые, волевые, ненавидящие. В них заложен огонь будущих битв, которые предстоят.
Один из пленных повернулся в сторону, смотрит зловеще. Он уперся ногами в землю и явно всем видом своим показывает, что не собирается отступать.
Серия офортов «Крестьянская война» завершена в 1908 году. Для Кольвиц это гигантский скачок к совершенству. От некоторой подробности «Ткачей» она пришла к монументальной цельности и почти скульптурной чеканности.
А главное – она достигла той высочайшей степени выразительности, которая покорила зрителей.
«Прорыв», рожденный Кэте Кольвиц, был ее вкладом в революционную борьбу. Если она сама и не дралась на баррикадах, то ее искусство бросило на баррикады миллионы смельчаков.