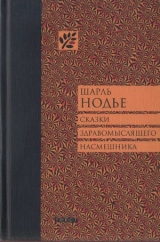
Текст книги "Сказки здравомыслящего насмешника"
Автор книги: Шарль Нодье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
ЛЕВИАФАН[113]113
Имя заглавного героя восходит к Ветхому Завету, где левиафаном именуется морское чудовище, и к английскому философу Томасу Гоббсу, который в одноименном трактате 1651 года назвал так могущественное государство.
[Закрыть] ДЛИННЫЙ, АРХИХАН ПАТАГОНЦЕВ С УЧЕНОГО ОСТРОВА,
ИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ «СУМАБЕЗБРОДИЯ»
Прогрессивная история
Впервые: Revue de Paris, 1833. T. 56. 3 novembre.
17 октября 1833 года Нодье был избран во Французскую академию, поэтому журнальная публикация «Левиафана» подписана «Шарль Нодье, член Французской академии».
* * *
В шесть часов сорок пять минут утра Сумабезбродий чихнул три раза подряд.
По этому сигналу учтивые султанские пажи обычно подавали ему шоколад.
Вздорике, лежавший на спине, как обычно поступают все спящие люди, если только они не лежат на правом или даже на левом боку, заметил, что Манифафа не изволит больше спать, и перевернулся на живот.
После этого он рывком сел и продолжил свой рассказ в таких словах:
– Когда я проснулся, божественный Манифафа, причем должен признаться, что голова у меня была довольно-таки тяжелая…
– Это ты, балагур? Мы не видались с тобою добрых десять тысяч лет! Доведи же до конца рассказ о своих похождениях, да не упускай ни одной подробности – того и гляди, это поможет мне опять заснуть.
– Вначале, увидев, что я пребываю под своим колпаком в полном одиночестве, я почувствовал себя околпаченным. Все прочие сновидцы отчалили без лишнего шума, что, впрочем, было мне совершенно безразлично, ибо я спал таким крепким сном, что никакой шум не мог достигнуть моего слуха. Мне пришло в голову, что за время столь продолжительного послеобеденного отдыха обо мне вполне могли позабыть; объятый нетерпением, я с такой силой бросился на стенки моей прозрачной темницы, что мы вместе – я внутри, а колпак снаружи – покатились по паркету. Хорошо еще, что колпак этот был изготовлен из гибкого, эластического и небьющегося стекла, изобретенного патагонцами, благодаря чему я ударился не больше чем человек, который падает с постели в халате, подбитом ватой. На шум прибежал дежурный ученый в сопровождении помощников и, выяснив из моего дела, что я честно проспал положенные десять тысяч лет, и даже с небольшим излишком, любезно выправил мне паспорт, позволявший следовать куда глаза глядят. Он даже не потребовал представить свидетелей, которые бы удостоверили мою личность, что оказалось весьма кстати, ибо отыскать этих свидетелей мне было бы нелегко. Я же в обмен на паспорт подписал для отчетности составленную по всем правилам расписку в получении моей особы, подтвердив, что оная была мне возвращена в целости и сохранности, in ossibus et cute[114]114
В костях и снаружи (лат.); возможно, перефразировка слов intus et in cute (И внутри и снаружи. Персий. Сатиры, III, 30), которые Жан-Жак Руссо поставил эпиграфом к своей «Исповеди».
[Закрыть], по истечении заранее установленного срока в десять тысяч лет, здоровой, невредимой и хорошо сохранившейся, иначе говоря, без ущерба, порчи и поломки, что, в соответствии с законом, засвидетельствовали присяжные оценщики; таким образом, мы с дежурным ученым покончили дело к обоюдному удовольствию, и я уже собирался с ним проститься, как вдруг, ухватив меня за рукав, он произнес:
– Погодите-ка еще минутку, старина; вы, европейские доктора, должно быть, знаете всё на свете или около того.
– Я знаю больше, чем всё на свете, – возразил я, – ибо я член всемирной миссии совершенствования.
– Превосходно, – отвечал он. – Столько нам не требуется. Нас интересует, разбираетесь ли вы в медицине? Невелика премудрость.
– В медицине я разбираюсь настолько, насколько нужно, чтобы вылечить человека, если, конечно, он назло мне прежде не умрет. Клянусь вам, что в мои времена врачи разбирались в ней ничуть не лучше.
– В таком случае вы-то мне и нужны. Вообразите, что Левиафан Длинный, государь весьма внушительной наружности (ибо росту в нем более сорока локтей[115]115
Около 20 метров.
[Закрыть]), поклялся в душе своей четвертовать нас всех прежде захода солнца, если мы не отыщем врача, который смог бы его вылечить; а вот от чего – от безделицы, от скуки, навеянной торжественной речью, от досады, вызванной неудачным декретом, от придворной болезни, – этого я вам не скажу; однако, как бы там ни было, нас такое положение дел чрезвычайно беспокоит, ибо короли способны на все.
– Как, Вздорике, неужели в этой академии философов не нашлось ни одного врача! – изумился Сумабезбродий. – Куда же, черт возьми, они все подевались?
– Возможно, божественный Манифафа, они отправились на церемонию награждения орденом святого Михаила[116]116
Рыцарский орден святого Михаила, основанный в 1469 году и распущенный в 1791-м, был возрожден в 1816 году Людовиком XVIII для вознаграждения научных и литературных заслуг и окончательно отменен после Июльской революции 1830 года.
[Закрыть]. Я ведь, если не ошибаюсь, имел честь предупредить вас о том, что остров патагонцев был островом весьма цивилизованным.
– Ты прав, черт подери, я об этом как-то совсем позабыл. Злосчастный Левиафан Длинный, король протяженностью в сорок локтей, – и ни одного самого крохотного доктора, который скрасил бы ему предсмертные мгновения рассказом о последнем театральном бенефисе!
– Не успел я осмотреть колоссального архихана патагонцев, как обнаружил, что указательный палец его правой руки поражен очень запущенной ногтоедой – и пусть кто может, поставит диагноз лучше.
– Смотри не ошибись, Вздорике; ногтоеда на указательном пальце правой руки причиняет острейшую боль, способную свести с ума всякого придурка. Я часто страдал этим недугом в детстве, он-то и помешал мне научиться писать.
– Диагноз, на мой взгляд, подтвердился вполне после весьма тщательного вскрытия…
– Проклятие! – вскричал Сумабезбродий. – Неужели ты дерзнул, в кровожадности своей, вспороть чрево этого Левиафана из-за ногтоеды?
– О нет, государь, я имею в виду всего-навсего то клиническое вскрытие, которому подвергают особ больных, но живых и которое, в ожидании лучшего, не идет глубже кожного покрова. Итак, я поспешил затребовать из секции гельминтологии восемьдесят тысяч пиявок, отличающихся хорошим аппетитом, и приставил их к предмету моих забот[117]117
Лечение пиявками в 1810-е-1820-е годы пользовалось большой популярностью (в следующей сказке цикла, «Зеротоктро-Шах», оно упоминается наряду с физиогномикой, френологией и другими модными науками). Оно пропагандировалось во Франции так широко, что вызывало активные протесты (так, одна из книг, выпущенных в 1827 году, носила название «Долой пиявок!»).
[Закрыть].
– Хорошенький предмет ты себе выбрал; ведь это был ни больше ни меньше, как архихан патагонцев. Между прочим, бьюсь об заклад, что одну вещь ты забыл.
– Не стану спорить. Те, кто занимаются практической медициной, постоянно что-нибудь забывают. Но что именно имеете в виду вы, божественный Манифафа?
– Безделицу: ты забыл предупредить наследного принца о том, чтобы он готовился вот-вот воссесть на престол. Две тысячи пиявок на один локоть! Дьявол тебя побери, это не столько кровопускание, сколько кровопролитие! Я бы очень удивился, балагур, если бы архихан Патагонии надолго задержался на этом свете после такой процедуры.
– Полноте! всякий архихан по натуре здоров, как бык; я вам ручаюсь, что через полгода он и думать забыл о своей ногтоеде. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой.
– Этот больной был тебе обязан очень многим, о мудрый Вздорике. Хочется думать, что он умер исцеленным.
– Вы коснулись, божественный Сумабезбродий, самой удивительной части моей истории. Больной не умер. Поглотив за полтора года такую кучу укрепляющих средств, что измерять ее следовало бы исключительно огромными гейдельбергскими бочками[118]118
Гейдельбергская бочка – самая большая из известных бочек для вина; она хранится в подвалах Гейдельбергского замка и вмещает около 200 000 литров.
[Закрыть], он, к моему величайшему удовлетворению, сделался благодаря пройденному курсу лечения бодр и здоров, и единственное, что его беспокоило, это, пожалуй, паралич одной половины тела, который сильно затруднял его передвижения, и довольно неприятная хромота, из-за которой он вовсе не мог ходить.
– Иначе говоря, на тот момент ты справился со своей задачей на семьдесять пять процентов. Бедный архихан!
– Честнейший человек! Послал за мной, чтобы принести мне благодарность лично.
– Он что же, совсем потерял разум?
– Ни в коем случае, Ваше Высочество. Никогда еще архихану патагонцев не случалось потерять разум или что бы то ни было на него похожее.
«Европейский доктор, – сказал он мне, – тем из наших глаз, который еще способен что-либо видеть, мы смотрим на тебя с удовлетворением. Имея намерение вознаградить тебя по заслугам за оказанную нам помощь, мы держали совет с нашими визирями и решили, в мудрости нашей и для твоего блага, вновь усыпить тебя, дабы ты мог выспаться всласть. Как думаешь ты об этом, любезный и ученый чужестранец?»
При этих ужасных словах все мое тело пробрала дрожь, а волосы на голове встали дыбом.
– Что вполне естественно, Вздорике, – заметил Манифафа. – А после этого ты пал ниц и облобызал колени архихана.
– Я бы так и поступил, если бы мог дотянуться. Пришлось ограничиться лодыжками.
«Изумительный светоч мира! – вскричал я. – Волнение мое скажет вам, как потрясен я милостями, какими вам было угодно осыпать смиреннейшего из ваших рабов; однако последняя из них помешала бы мне исполнить мой долг, которым я и без того пренебрегал слишком долго и который состоит в том, чтобы способствовать распространению открытий, призванных умножать славу и выгоды рода человеческого. Мне необходимо время от времени пробуждаться, дабы вычитывать верстки своих сочинений».
«Занятие достохвальное и добропорядочное, за которое я лично питаю к тебе бесконечную признательность, – отвечал Левиафан Длинный, – но что же еще могу я сделать для тебя и какими милостями выразить мою благодарность, кою ты заслужил в полной мере? Скажи, хочешь ли ты стать квазиханом?»
«Название восхитительное, но я не знаю, каковы будут мои полномочия».
«Догадаться нетрудно, – объяснил он. – Квазихан – второе лицо в моей империи, и в этом качестве он имеет право постоянно обожать меня, разгонять мою скуку, когда мне скучно, и делать все, чего я хочу».
«И при этом, светоч мира, он, я полагаю, сыт, обут, одет…»
«Острижен, обрит и похоронен; наслаждается всеми жизненными благами и вдобавок распоряжается всеми моими богатствами».
Я тотчас прикусил язык.
«Странно, – ловко вставил я, – что такое прекрасное место свободно».
«Это чистая случайность, – сказал он, пожав одним плечом (ручаюсь, пожать другим ему бы не удалось); вообрази, я посадил на кол четырнадцать квазиханов подряд в надежде отучить их быть такими рассеянными – и всё совершенно напрасно! Ни один из них не сумел запомнить, что левую домашнюю туфлю мне следует подавать правой рукой, а правую – левой[119]119
Еще одна парафраза главы «Диспуты и аудиенции» из повести Вольтера «Задиг», где описан длившийся полторы тысячи лет в Вавилоне «великий спор, разделивший всех граждан на две непримиримые секты. Члены одной утверждали, что в храм Митры должно вступать непременно с левой ноги, а члены другой считали этот обычай гнусным и входили туда только с правой ноги». «Задиг» был одним из любимых произведений Нодье; в «Новом предисловии» (1832) к повести «Смарра» он писал: «Великие люди старых народов, подобно дряхлым старикам, забавляются детскими играми, хотя и выказывают к ним перед лицом мудрецов притворное презрение, причем именно смеясь обнаруживают они всю ту мощь, какой их наделила природа. Апулей – философ-платоник и Вольтер – эпический поэт суть жалкие пигмеи. Сочинитель „Золотого осла“, автор „Девственницы“ и „Задига“ суть великаны!» (Infernaliana. P. 79).
[Закрыть]. Это важнейшее из условий церемониала, занесенное в число основных законов Ученого острова».
Я и сам ужасно рассеян, и, сознаюсь откровенно, основной закон меня напугал.
«Всемогущее светило патагонцев, – пролепетал я дрожащим голосом, – великолепный сан квазихана чересчур высок для меня, недостойного грешника. Вы отплатите мне за мои жалкие услуги с незаслуженной мною щедростью, если – чем скорее, тем лучше – отошлете меня на родину самой короткой дорогой, на любом транспорте, лишь бы это не был ни пароход с тремя котлами, ни воздушный шар с пушками на борту, ибо эти два экипажа ненавистны мне по причинам сугубо личного свойства».
«Нет ничего легче! – отвечал архихан. – Я охотно дозволяю тебе возвратиться домой пешком, если ты на это способен. Насколько мне известно, мои островитяне крайне редко избирали этот способ, отправляясь на континент; впрочем, ежели ты собираешься вернуться туда, откуда ты прибыл к нам, сделай мне удовольствие, расскажи, откуда именно ты к нам прибыл. В этой области я могу похвастать ошеломляющей эрудицией. Если не считать псовой охоты и геральдики, которым нас, патагонских королей, обучают прежде всего, география – любимая моя наука, ибо она превосходно развивает ум юношей и аппетит государей. Большего для тех, кто правит, по крайней мере так, как правим мы, и не надобно».
«Я намереваюсь, – отвечал я, – отправиться в столицу наук, в метрополию искусств, в главный город цивилизации, в неистощимый арсенал совершенствования, в Париж, что располагается неподалеку от местечка Вильнёв-ла-Гийяр. От Вильнёва до Парижа полдня езды в дилижансе».
«В Париж! – оглушительно захохотал архихан. – Париж вот уже десять тысяч лет как разрушен аэролитным дождем».
«Я так и думал, – воскликнул я, ударив себя по лбу, – ведь я там был».
«Это меня сильно удивляет, доктор. Если бы ты был тогда в Париже, ты бы не проспал десять тысяч лет в Патагонии».
«Дело в том, Ваше Величество, что я был не в Париже; я был в аэролитном дожде, но не счел уместным следовать с ним до конца».
«И поступил очень мудро, ибо в точке соприкосновения дождя с Парижем между ними не осталось ровно никакой разницы. Узнай же, бедный ученый, что на том месте, где некогда стоял Париж, располагается ныне великолепный город Сумабезбрия, основанный Сумасбродом, а ныне имеющий бесценное счастье жить под властью милостивейшего, остроумнейшего и славнейшего из всех его потомков, великодушного Сумабезбродия, великого Манифафы Сумабезбродии. Ты можешь тотчас удостовериться в этом, если откроешь „Королевский альманах“».
– Постой-ка, Вздорике, – перебил Манифафа. – Левиафан в самом деле сказал тебе все это?
– Если я переменил в его речи хоть одно словечко, считайте, что я никогда не бывал в Патагонии.
– В таком случае я не могу взять в толк, отчего ты так дурно отзываешься об уме архихана, – эта его фраза, на мой взгляд, составлена просто превосходно.
– Все относительно, божественный Манифафа; случается и глупцам произносить такие фразы, которые сделали бы честь гению; вдобавок в устах стилиста и ритора протяженностью в сорок локтей изъявление чувства столь естественного и очевидного не может не показаться слабым и вульгарным.
– Это пустяки, балагур; признаюсь тебе, что я немало польщен столь лестным отзывом сей славной особы. Продолжай.
Продолжал говорить и Левиафан.
«Итак, – сказал он, – я охотно отправлю тебя в Сумабезбрию, однако, если ты откажешься от ускоряющих средств, дорога, боюсь, покажется тебе чересчур долгой. Язык тебя туда не доведет».
«Мне кажется, – возразил я, – что если нам дан земной шар, имеющий девять тысяч лье в окружности, то ось его не может быть больше трех тысяч лье, а половина окружности – больше четырех с половиной тысячей лье, и вот вам расстояние, отделяющее нас от антипода, антиподами же обычно именуются две диаметрально противоположные точки на шаре, отстоящие одна от другой на самое большое расстояние».
«В данный момент я не в силах опровергнуть твое утверждение, – отвечал мне архихан, – но у меня есть подозрение, что ты заблуждаешься относительно нынешних размеров Земли, – заблуждение вполне простительное для человека, проспавшего десять тысяч лет. Прежде всего, ученый, заметь, что ты не принял в расчет постепенное расширение земного шара по причине геологического и минерального наслоения. Стоит птице уснуть в гнезде, спрятав голову под крыло, как дерево нечувствительно поднимает это гнездо поближе к небу, – неужели же ты полагаешь, доктор, что за те десять тысяч лет, которые ты провел в стеклянном колпаке, твое положение в пространстве не претерпело никаких изменений?»
«Право слово, нет! – воскликнул я. – Или я в этом ничего не понимаю, или кое-какие изменения появились!»
«Поразмысли еще немного, – продолжал Левиафан Длинный, – ты видел, как спутники планет распадались на куски и аэролитным дождем проливались на землю. Ты видел, как они погребали под собою города и покрывали огромные пространства, истребляя в неистребимой материи ее преходящую форму. Что же ты скажешь о вулканах, которые извергают из себя геолиты[120]120
Неологизм Нодье, образованный по модели слова «аэролит».
[Закрыть], углубляя при этом свои кратеры, – заурядное явление, которое, возможно, будет повторяться до тех пор, пока земной шар не превратится в совершенно полую гигантскую скорлупу, которая выиграет в площади все то, что проиграет в прочности?»
Я подумал, что подобные перемены сильно облегчат поиски Зеротоктро-Шаха и его совершенного человека и что было весьма предусмотрительно отложить до этой поры окончательный приход совершенствования.
«Что ты скажешь обо всех этих органических существах, живых и чувствующих, которые удобряют землю перегноем и укрывают ее песком, вздымаются острыми скалами и покоятся грудами костей? Что ты скажешь о горах, которые падают и, утрачивая прежние неестественные выпуклости, поднимают все выше и выше уровень земли, служащей им основанием? Что ты об этом скажешь?»
– Да, что ты об этом скажешь, Вздорике? – вскричал Манифафа. – Я так же мало смыслю в патагонском, как и в миссионерском, а в миссионерском – как и в патагонском; но мне кажется, что один другому не уступит. Когда будешь публиковать свою историю, не изображай толстяка Левиафана глупцом; он рассуждает ничуть не хуже, чем книги придурков.
– Это по наитию, Ваша Светлость; нет ничего более удручающего, чем здравый смысл невежды; вы, Государь, должно быть, забыли, что бедняги патагонцы лишены интеллекта?
– Я прекрасно помню, балагур, что секция идеологии его не обнаружила, но если однажды, против ожиданий, ей все-таки удастся его отыскать, а ты в это время еще будешь пользоваться влиянием в тамошних краях, прошу тебя, уговори идеологов оставить найденный интеллект при себе. Секции идеологии интеллект повредить не может, а патагонцам для их же блага лучше без него обойтись[121]121
В словах Сумабезбродия нетрудно увидеть отражение заветных идей Нодье, изложенных им, в частности, в статье «О нравственной пользе образования» (1831), где, в полной мере отдавая дань своей страсти к парадоксам и эпатированию, он заклинает современников-прогрессистов: «Умоляем вас на коленях! оставьте наших пролетариев невежественными, наш народ неграмотным, наши провинции темными! Дайте нам эту последнюю гарантию против тирании совершенствования, против триумфа доктрин, ибо доктрины и совершенствование неизбежно влекут за собой разочарование во всех верованиях, отречение от всех чувств, отказ от всех радостей; […] позвольте нам изучать высоту Солнца и фазы Луны по бескрайней странице небосвода, […] узнавать историю из простодушных, а порой и эпических рассказов наших солдат, которые излагают ее куда лучше официальных бюллетеней; восхищаться мощью природы в ее творениях, в которых она выражается куда полнее, чем в декламациях и системах» (ОС. Т. 5. Р. 295). В «необразованном» народе, полагал Нодье, сохраняются исходные моральные ценности, а полуобразованность портит его, будит в нем тщеславие и провоцирует кровавые социальные потрясения: «Благополучие провинциям приносит не всеобщее образование, а образование природное. Это любовь к отечеству, почтение к предкам, любовь к юношеству, внимание к советам стариков и к речам мудрецов. Именно на этой основе государства созидаются, устраиваются, поднимаются из руин прошлого и возрождаются для будущего. […] Не дай вам Бог, друзья мои, сделаться однажды свидетелями разгула страстей, неминуемого в стране, где царит всеобщее образование со всеми его неизбежными последствиями!» (Т. 5. Р. 293–294).
[Закрыть].
– Архихан тем временем продолжал рассуждать: «Наконец, ты не учитываешь некоторых случайных нагромождений материи, вроде того, которое образовалось, пока ты спал, в результате падения Луны. Пожалуй, от этой неожиданной встречи диаметр слегка подрос».
«Как, – изумился я, – неужели Луна, сбившись с пути под действием одной из тех пертурбаций, каким она так подвержена, воссоединилась со своей метрополией? Плодом этой встречи должен был в самом деле стать нешуточный нарост на земной сфере».
«Не говори ни слова о сфере, любезнейший доктор; мир, который в твои времена именовался сферой, ныне более всего походит на один из тех ромбовидных волчков[122]122
В конце повести «Смарра» Нодье поместил большое и очень ученое примечание о латинском слове rhombus (от которого произошло французское слово rhombe): он опровергает толкования многочисленных предшественников и доказывает, что rhombus был «не чем иным, как той детской игрушкой, запуск и шумное вращение которой содержат в себе нечто пугающее и колдовское и которая, по странному сходству впечатлений, возродилась в наши дни под названием ДЬЯВОЛ» (Infernaliana. Р. 107).
[Закрыть], которые так любят раскручивать дети, или, если угодно, на одну из тех тыкв, в которых паломники хранят воду. Самое досадное, что столкновение нанесло непоправимый урон прекрасному царству алмазов, на фоне которого „Регент“[123]123
Один из самых знаменитых и больших алмазов, обязанный своим названием регенту Филиппу Орлеанскому, который приобрел его в 1717 году.
[Закрыть] показался бы жалким обрезком, ведь жители этого царства научились производить это роскошнейшее из произведений природы в промышленных количествах. Мы, конечно, сохранили рецепт, однако и пропорции, и технология утрачены безвозвратно».
«Нам их тоже недоставало, – сказал я Левиафану Длинному, – впрочем, справедливость требует признать, что у нас и рецепта сроду не было».
«Он сводился к двум вполне заурядным вещам: просеять угольную пыль через сито из пузырника[124]124
Кустарник с пузыревидно-вздутыми плодами, которые лопаются с треском; эти плоды Нодье упоминает в третьей сказке о Вздорике.
[Закрыть], а затем добавить растительный элемент, именуемый хворостином, который секция ботанической физиологии обнаружила в вязанках дров».
Тут выведенный из терпения Манифафа довольно грубо прервал увлекательный рассказ балагура:
– Хотел бы я знать, Вздорике, о чем только думала эта секция ботанической физиологии! Алмазы потеряли всякую ценность.
– А как же, Государь, эти шалопаи не брали их даже для игры в шары. Зато вязанки дров неслыханно подскочили в цене.
– В таком случае я не понимаю, – продолжал Манифафа, зябко поеживаясь, – какую политико-экономическую выгоду можно извлечь, полностью обесценив дурацкую драгоценность, чья единственная бесполезная заслуга состояла в ее редкости, и сделав непомерно дорогими и потому недоступными для простых людей вязанки дров, которые, сгорая в камине, так скрашивают долгие зимние вечера?
– Я, о божественный Манифафа, не говорил о выгоде. Я говорил о прогрессе. А это далеко не одно и то же.
– Черт подери, Вздорике, ты прав. Я не учел этого различия. Продолжай же немедля свою историю, балагур, ибо я извлекаю из нее массу поучительного.
И Вздорике продолжил пересказ речей архихана.
«Как видишь, доктор, – сказал архихан, – за время твоего отсутствия мир внезапно вырос. Даже кратчайшим путем ты доберешься до славного города Сумабезбрии никак не меньше, чем за десяток лет; прибавь к ним другие десять лет, которые отнимут у тебя таможня, лазарет и полиция, и еще десять лет на ожидание визы. Что же касается усталости, дорожных происшествий и, главное, немощей, которые будут одолевать тебя с приближением старости, то на них тебе по самому скромному подсчету следует положить лет тридцать. Поскольку весь вид твой обличает мужественную зрелость, то, прибавив к сему непреклонную решимость и безграничную отвагу, крепкие ноги, зоркие глаза и немного удачи, через какие-нибудь шесть десятков лет ты вступишь в пределы блистательной Сумабезбрии, если, конечно, тебя не остановят на заставе жандармы, полицейские и податные инспекторы».
«Что вы такое говорите? – воскликнул я недовольным тоном. – К этому времени мне стукнет сто лет».
«С тем бо́льшим почтением будут к тебе относиться. С другой стороны, если бы ты пожелал избрать эксцентрическую дорогу (она бесконечно более удобна), мы, по правде говоря, могли бы предложить тебе подвесные мосты, ведущие к восьмистам планетам»[125]125
По-видимому, реминисценция из повести Вольтера «Микромегас», где заглавный герой, житель Сириуса, путешествовал по чужим планетам, «иной раз оседлав солнечный луч, иной раз прибегнув к помощи какой-нибудь кометы», и переправлялся «с планеты на планету, подобно птице, порхающей с ветки на ветку» (Вольтер. Философские повести. М., 1978. С. 121).
[Закрыть].
«К восьмистам планетам, великий Боже! Да еще с подвесными мостами! Сколько разорившихся подрядчиков!..»
«Ты заблуждаешься. Все, кому наскучила одна планета, тратят свою бедную жизнь на поиски других. Люди снуют взад и вперед без остановки; впрочем, если верить секции небесной механики, такой способ путешествовать таит в себе некоторые неудобства. Первое заключается в том, что тебе придется пожертвовать твоими досугами мудреца; ведь на бесподобные, хотя и бесплодные странствия уйдет двести или триста тысяч солнечных циклов; от мелких чисел я тебя избавлю, ибо сам их не помню».
«Ах, государь! – воскликнул я жалобно. – Охотно прощаю вам мелкие числа и прочие незначительные неудобства. Дело в числах и неудобствах крупных; пожалуй, они уже отбили у меня охоту отправиться в Сумабезбрию».
«Ты окажешься там через десять минут, если пожелаешь, – со смехом сказал архихан».
«Через десять минут – хотя меня отделяют от нее двести или триста тысяч солнечных циклов и небесные просторы! Мне кажется, что я сплю и вижу сон».
«Это было бы далеко не худшим выходом из положения, – заметил он. – Все то время, когда мы не спим и не видим сны, можно считать потерянным».
«Не стану отрицать, – пробормотал я достаточно громко, чтобы быть услышанным, – что во времена моей юности недурным метательным снарядом было гремучее золото; однако в этих тысячах солнечных циклов содержится столько минут, что, пожалуй, нашей миссии это не по плечу и не по карману».
«Золото! Какое ничтожество! Заруби себе на носу, что на одной-единственной планете мы открыли десять металлов, превосходящих по ценности обыкновенное золото, а вместо гремучего золота у нас имеются десять тысяч метательных средств. За твое золото простолюдины не дали бы и коробка спичек».
«Как странно! – удивился я. – В мои времена, насколько я могу судить по чужим рассказам, от золота было куда больше прока».
«Нагрузи ты золотом столько носорогов и гиппопотамов, столько верблюдов и мамонтов, сколько лет ты проспал, тебе все равно не на что будет купить пригоршню риса, ячменя или кунжута».
– Ах, – воскликнул Манифафа, – как бы я хотел взглянуть на этого двойного безумца, воскресшего Креза, окруженного его патагонскими сокровищами, и вдоволь посмеяться над его дурью. Само Провидение не удержалось бы от смеха при виде подобного надувательства.
«Немедля, – приказал Левиафан тоном, не допускающим возражений, – набросьте на знаменитого доктора парадную шубу, которая придется ему весьма кстати в тех холодных краях, какие ему предстоит пересечь, и отправьте его в Сумасбезбрию посредством двойного метательного заряда, пусть даже от этого разорвутся мортиры. За его здоровье вы отвечаете головой!»
Меня унесли.
«Кстати, – добавил он мне вслед, – не забудь, европейский философ, передать твоему повелителю заверения в моем почтении и моем братском расположении».
– Целую ему руки, – сказал Манифафа, – и благодарю его за обхождение с тобой, на мой взгляд, весьма любезное. Итак, тебя посадили в экипаж.
– То был экипаж весьма удобный, изящный, легкий, прекрасно подвешенный, однако не имеющий ни колес, ни оглоблей, ибо эти вульгарные двигуны были ему совершенно без надобности. Он был просто-напросто прикреплен за передок к горизонтальной металлической штанге (благоволите нарисовать это устройство в своем воображении, раз уж за время пути я не успел нарисовать его на бумаге), оба конца которой упирались в массивные ядра, покоившиеся в жерлах артиллерийских орудий, стволы же этих орудий были параллельны моему тильбюри, так что я оказался вбит между ними, словно подкова[126]126
Хотя книга «Приключения барона Мюнгхаузена», выпущенная на английском языке Рудольфом Эрихом Распе (1785), а затем переведенная на немецкий Готфридом Августом Бюргером (1786), впервые появилась во французском переводе лишь в 1840 году, можно предположить, что Нодье был с ней знаком, поскольку «патент» на использование такого транспортного средства, как артиллерийское ядро, принадлежит безусловно барону Мюнгхаузену.
[Закрыть].
– Очень хитро придумано, – вмешался Сумабезбродий, – с нетерпением жду твоего отбытия.
– За моей спиной проводники, идущие от запалов двух пушек, сходились в одной точке, ибо сюда геометрия еще не успела внести никаких новшеств. Долго ждать мне не пришлось. Только я собрался подремать, поудобнее устроившись на подушках, как явился дылда-ямщик…
– С зажженным фитилем?!
– Нет, божественный Манифафа, с лейденской банкой[127]127
Лейденская банка – простейший электрический конденсатор.
[Закрыть]. Электрической искре было отдано предпочтение по причине ее изохронности. Ямщик приставил стержень, торчащий из банки, к точке схождения проводов, и я двинулся вперед со скоростью, которую трудно даже вообразить всякому, а особенно тому, кто привык ездить из местечка Вильнёв-ла-Гийяр в дилижансах.
– Разорвались ли мортиры, Вздорике?
– Этого, Государь, мне так и не удалось узнать. Поскольку звук движется со скоростью, не превышающей двухсот туазов в минуту, ему было за мною не угнаться.
– Этот способ путешествовать, Вздорике, должно быть, довольно неудобен для людей, у которых быстро перехватывает дыхание.
– Не в такой степени, как вы думаете, божественное Султанское Высочество, ибо воздух на этой высоте так разрежен, что и сосчитать невозможно, а исключительная стремительность движения прекрасно помогает справиться с малой плотностью атмосферы. Самая большая опасность, которая может грозить путешественнику, это встреча с телом более плотным, чем пересекаемое им пространство.
– Например, с аэролитом, славный балагур, – неприятная была бы встреча!
– В высшей степени неприятная, божественный Манифафа! Я едва не расшиб себе лоб о серо-голубое облачко, величиной не больше кулака, которое как ни в чем не бывало вразвалку двинулось ко мне, намереваясь непременно пролететь между двумя моими ядрами. Черт возьми, какой удар!
– Ты дунул или плюнул?
– Не успел ни того, ни другого; хорошо, что в последнюю минуту облачко любезно свернуло вправо, как сделал бы любой извозчик.
– Самым большим изъяном такого способа передвижения, балагур, кажется мне однообразие картин, предстающих взору странника, ибо для того, кто привык смотреть в окно кареты и читать вывески задом наперед, нет ничего более отвратительного в своей монотонности, нежели дорога, на которой происшествием считается встреча с серо-голубым облачком.
– Монотонности, Государь? О монотонности не могло быть и речи. Я получал неизъяснимое удовольствие от зрелища восьми сотен подвесных мостов, чьи чудесные арки были украшены трофеями, обелисками и статуями, исполненными такого же превосходного вкуса и чувства пропорций, какие отличают статуи с моста Согласия[128]128
В эпоху Реставрации было решено украсить парижский мост Согласия, соединяющий площадь Согласия с Национальным собранием, статуями, изображающими великих слуг монархии. Колоссальные статуи из белого мрамора были установлены на мосту в 1828–1829 годах. Они стоили огромных денег, но выглядели настолько неудачно, что в 1837 году решено было перевезти их в Версаль. Однако в то время, когда Нодье сочинял «Левиафана», статуи еще стояли и служили для публики предметом насмешек.
[Закрыть]. Я потерял дар речи от восхищения.
– Другие, Вздорике, при виде картины столь поразительной потеряли бы и все остальное.
– Я наслаждался ею от всего сердца, когда штанга, соединявшая мои ядра, по-видимому, разогревшись сверх меры от трения и будучи весьма теплопроводной от природы, внезапно заскрипела, раздулась и переломилась ровно посередине по причине гомогенности ее материи и совершенной эквиполентности[129]129
Равенство, равноценность.
[Закрыть] обоих метательных импульсов.
– Когда дело доходит до гомогенности и эквиполентности, – сказал Манифафа и зевнул так, что чуть не вывихнул себе челюсть, – ничего другого ожидать не приходится. Теперь ты на верном пути и можешь опять описать мне, как выглядит мир вверх тормашками, – ведь ты, я уверен, не изменил своей привычке ради занимательности повествования приземляться не на ноги, а на голову.
– Молю Ваше Величество вспомнить, что в рытвину я упал вперед ногами.
– Ты прав, балагур, – отвечал Сумабезбродий, – и порой я об этом сожалею; ведь если бы первой с землею встретилась твоя голова, то мы, льщу себя надеждой, уже покончили бы с историей твоих путешествий.
– Немного терпения, божественный Манифафа, мы уже приближаемся к концу, если, конечно, вы не пожелаете услышать еще раз все сначала. Поскольку в тот самый момент, когда металлическая штанга разорвалась, я опирался на нее, ибо это вполне естественное положение для странствователя, любующегося окрестными видами, я имел счастье ухватиться за тот кусок железа, который держал в руках, и продолжал двигаться вперед вместе со своим ядром, тогда как королевская карета Левиафана улетела от меня ко всем чертям. Остальное Вашему великолепному Султанскому Высочеству известно. Я пробил насквозь высокие крепостные стены, окружающие ваш дворец, поразил вашу удесятеренную охрану, которой нанес ужасный урон, и влетел в ваши покои, где, натурально, упал к вашим священным ногам, что, ввиду незаурядности события, вызвало легкое удивление у присутствующих.
Тут Манифафа захрапел, как целый орган. Из этого Вздорике сделал логический вывод, что Манифафа заснул.
На этом похождения балагура, казалось бы, должны были закончиться, однако он еще не испил свою чашу до дна. Сей великий человек был не чужд иных природных слабостей, от которых в его времена еще не изобрели лекарства. Как ни поглощен был Вздорике рассказом о своих странствиях, от его внимания не ускользнуло чуть заметное трепетание шелковых завес, за легкими складками которых скрывались двери, ведущие из дивана в гарем, и он вполне резонно объяснил это явление воздействием субстанции более разумной, нежели воздух, ибо до его слуха долетали произносимые этой субстанцией слова. В самом деле, жены Манифафы, удивляясь непривычно долгому отсутствию царственного супруга и, вероятно, желая полюбоваться в свое удовольствие на незнакомого философа, который промчался мимо них на маховом ядре так внезапно, что они даже не успели его рассмотреть, украдкой пробрались ко всем выходам из сераля, и Вздорике даже ухитрился приметить одну довольно пышную одалиску, чья смуглая плутовская физиономия чрезвычайно занимала его воображение. На беду, то была любимая жена Манифафы.
Стрелка часов не пробежала еще и четверти циферблата, когда Манифафа внезапно проснулся, разбуженный неким весьма рогатым сном. Нетрудно догадаться, что в непосредственной близости от себя он балагура не обнаружил; зато, проникнув за ближайшую завесь, нашел его в более чем непосредственной близости от своей любимой жены, причем балагур, отдавшись во власть сладкого и коварного изнеможения, спал сном, отнюдь не похожим на сон невинности[130]130
Возможно, еще одна парафраза истории вольтеровского Задига, которому тоже пришлось бежать из Вавилона потому, что царь приревновал его к своей жене; впрочем, Задиг добродетелен и невинен, чего никак нельзя сказать о герое Нодье.
[Закрыть].
Вздорике, злосчастный Вздорике открыл глаза от блистания ятагана.
– Узнаешь ли ты господина твоего тела и твоей души, презренный лицемер? – вскричал Сумабезбродий.
– Пощадите, пощадите жалкое тело вашего покорнейшего и смиреннейшего балагура! – взмолился Вздорике полузадушенным голосом. – Что же до души, философия научила меня придавать ей не больше значения, чем сочному и сладковатому съедобному стержневому корню brassica napus, представляющему собой третью разновидность Линнеевой asperifolia.








