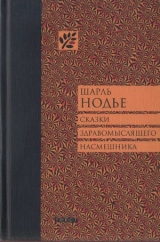
Текст книги "Сказки здравомыслящего насмешника"
Автор книги: Шарль Нодье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– Вывод по меньшей мере спорный, – вскричал Сумабезбродий, недоверчиво покачивая головой, – остров, неспособный дать жизнь ни одному живому существу, но при этом населенный философами! Конечно, они суют свой нос повсюду, но, если дела обстояли так, как ты говоришь, вряд ли они состряпали там что-нибудь путное.
– Они стряпали яства, достойные занять место на королевском столе. Чтобы поверить в это, достаточно недоупустить из виду – если, конечно, слово «недоупустить» существует в сумабезбродийском языке, а это всецело зависит от воли вашей Академии[95]95
В оригинале неологизм prémettre. Одна из главных претензий Нодье к Французской академии, высказанная в рецензии на шестое издание академического словаря (1835), заключалась именно в том, что, вместо того чтобы «сохранять» язык, академики включают в словарь многие неологизмы, неоправданно его засоряющие (см., напр.: Nodier Ch. Feuilletons du Temps. T. 1. P. 568–569).
[Закрыть], – так вот, нужно недоупустить из виду, что остров Патагонцев является центром архипелага, сплошь заселенного философами, которые разместились каждый на своем островке, в точном соответствии с бэконовской классификацией наук[96]96
Классификации отраслей человеческого знания английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626) посвятил сочинение на латыни «О достоинстве и преумножении наук» (1623). Нодье, обожавший доказывать, что у всех новых и новейших сочинителей имелись предшественники – авторы «старых книжонок», писал в статье «О совершенствовании рода человеческого», что Бэкон позаимствовал свою систему «у нашего соотечественника Савиньи, чья книга никому не была нужна даже даром, а Савиньи позаимствовал свою классификацию из книги некоего Бержерона, забытого еще прочнее, а уж откуда взял ее Бержерон – никому не ведомо, да это и не важно, поскольку она содержится почти полностью в трудах Аристотеля, который, без сомнения, также не был ее создателем» (Нодье Ш. Читайте старые книги. Т. 2. С. 71).
[Закрыть], так что, имейся на каждой из этих полосок земли этикетка с названием, это бы сильно продвинуло вперед топографию совершенствования и создало универсальный компендиум человеческих знаний. Философы – народ праздный, а потому быстро размножающийся, так что в один прекрасный день они решили заселить главный остров архипелага, посреди которого я теперь нахожусь, как вы помните, в глубокой рытвине, где и прошу у вас дозволения остаться еще на какое-то время…
– Сколько угодно, балагур, – согласился Манифафа. – Чувствуй себя как дома.
– Итак, философы решили обосноваться на центральном острове; единственное, что им потребовалось, это лаборатория, где можно было бы создавать с помощью химии то, что в других местах создает природа. Вот так и случилось, что философская консистория острова Патагонцев посвятила себя кулинарии, дабы удовлетворить потребности всех пребывающих в добром здравии индивидов, которые с неизменным удовольствием откушивают и завтрак, и обед, если только имеют возможность их оплатить. Я не имею в виду писателей, этих невинных пролетариев слова, этих обездоленных данников прессы, людей, у которых много добрых намерений и мало наличных денег из-за происков бездарных чубукеев[97]97
Автобиографическая аллюзия: Нодье, 3 января 1824 года назначенный хранителем библиотеки Арсенала (библиотека принадлежала в это время графу д’Артуа, который уже осенью того же года, после смерти своего брата Людовика XVIII, стал королем под именем Карла X), 22 июля 1830 года, в самый канун Июльской революции, был отозван со своего поста и вновь назначен на него уже при новой власти, когда библиотека стала государственной. В начале того же 1830 года консервативное министерство Полиньяка урезало литературную пенсию, которую получал писатель, с 2400 до 1500 франков.
[Закрыть]; эти бедняги только и умеют, что облизываться. Иное дело вы, Ваше Султанское Высочество; предположим, вы пожелали откушать за обедом черепаховый суп, что, вообще говоря, может случиться с каждым; вы посылаете заявку в секцию маммалиологии[98]98
Маммалиология – раздел зоологии, изучающий млекопитающих.
[Закрыть], та изготовляет теленка и откладывает для вас голову[99]99
Рецепт звучит по видимости абсурдно, однако в данном случае Нодье ничего не придумывает: так называемый «черепаховый суп», рецепт которого французы в начале XIX века заимствовали у англичан, в самом деле изготовлялся из телячьего бульона, а роль черепашьих яиц исполняли подававшиеся к нему яичные шарики-клецки.
[Закрыть]. Распорядитель секции (это очень высокий чин) без промедления переправляет вашу заявку своему коллеге из секции орнитологии, который создает петуха и посылает назад в исходную секцию его гребешок и почки; точно так же поступает распорядитель секции ракообразных: его стараниями на свет являются превосходные раки. После чего остается только действовать согласно классическому рецепту и подать блюдо на стол в горячем виде. Вкус, надо сказать, восхитительный.
– Мне ли этого не знать? – воскликнул Манифафа. – Все это, на мой взгляд, устроено превосходно, и я с огромным удовольствием расспросил бы тебя о некоторых подробностях, если бы меня не останавливала мысль, что ты до сих пор сидишь в рытвине, где не пристало находиться человеку твоих лет и талантов.
– Я провел там сто часов и не сосчитать сколько минут, о божественный Манифафа.
– Тогда времени у нас предостаточно. Порадуй же себя ответами на мои вопросы – это тебя развлечет. Вот что меня интересует: отчего же эти философы, которые умели изготовлять столько всякой всячины, не смогли создать того совершенного человека, на поиски которого ты устремился со столь редким бесстрашием?
– Ах, сударь, обычного человека они изготовляли превосходно, можете не сомневаться. Если знать, из чего человек составлен, создать его ничуть не труднее, чем вырастить кролика в садке. Секция антропологии только этим и занималась с утра до вечера, в противоположность тем отсталым и бездуховным особам, которые предпочитают работать над этим с вечера до утра, и надо признать, что она работала на совесть, ибо создала патагонцев, каждый из которых стоил дюжины ваших тамбурмажоров. С пятью чувствами у них все обстояло прекрасно, но вот дальше начинались затруднения, ибо секция идеологии так и не сумела произвести на свет добротный интеллект! Да и откуда там было взяться интеллекту! О божественный Манифафа, перетряхни мы всю секцию идеологии, мы бы не наскребли там ума на один-единственный водевиль, а ведь требовалось разделить эту малую толику на пятьдесят миллионов гигантов, – итак, можно смело утверждать, что интеллектом там и не пахло. Вот отчего несчастный патагонский народ был так глуп, так глуп, что во всем мире вошли в пословицу слова «глуп, как патагонец».
– Да помогут нам небеса и священная летучая мышь! – вскричал Манифафа. – Откуда же эти бедняги брали королей?
– Даже стыдно сказать, – смущенно потупился Вздорике, – они брали их из патагонцев.
– Не слишком выгодной, значит, казалась эта должность философам, раз они не приберегали ее для себя.
– Тому, кто заведует кормушкой, нипочем ни короли, ни народы! Вдобавок философы продолжали размножаться по старинке, поскольку этот способ казался им более увлекательным, а потому были совсем маленького роста и не имели никаких шансов продвинуться по службе, не говоря уже о том, чтобы занять королевский престол; ведь в Патагонии посты распределяются по росту. Если король умирает, в дело идет ростомер, и наследником назначают того, кто всех выше[100]100
Образы гигантских туземцев восходят к Свифту («Путешествия Гулливера») и повести Вольтера «Микромегас», однако Нодье использует эту игру с размерами для злободневной политической полемики; он высмеивает представительную парламентскую демократию, при которой, как казалось ему – и многим современникам, разделявшим его скептицизм, – в результате выборов к власти приходят отнюдь не самые достойные.
[Закрыть].
– Следовательно, царствующий правитель, – подхватил Манифафа, – мог с полным правом носить титул Великого и выслушивать такое обращение от своих подданных, не вызывая ничьих нареканий, что представляется мне весьма приятным. Но ответь мне, Вздорике, что же произошло бы, вздумай какой-нибудь патагонский мужлан начать расти как на дрожжах и перерасти на голову или даже на две своего законного монарха, безмятежно восседающего на троне под охраной ростомера, геометрии и философов?
– Его бы назначили наследным принцем, Государь, а затем провозгласили кесарем, каковым он и пребывал бы до появления следующего претендента. Я слышал, что подобное государственное устройство помогло патагонцам избежать множества революций и гражданских войн и что живут они припеваючи.
– Охотно верю, балагур; подобная избирательная система – самая разумная из всех, какие я знаю, и я не премину опробовать ее на своих чубукеях. В любом случае я могу быть уверен, что ничего не проиграю, заменив одного на другого. Но если все, что ты говоришь, правда, Вздорике, то я жажду получить от тебя ответы на два вопроса, не дающие мне покоя: прежде всего, меня интересует, чем занимаются патагонские женщины, – ведь за деторождение в их стране отвечает секция антропологии.
– О Государь, у женщин множество дел: они обсуждают, заведуют, управляют, судят, руководят, составляют планы сражений и статистические отчеты, пишут законы и конституции, а в свободное от всей этой работы время сочиняют эклектические брошюры, онтологические трактаты и эпические поэмы в тридцати шести песнях[101]101
Ироническая полемика с приверженцами женской эмансипации (в частности, с сенсимонистами). Нодье, во многих статьях выражавший восхищение женщиной как «шедевром Творения», отказывал в праве на существование «свободным женщинам» (сенсимонистский термин) и женщинам «ученым». Эмансипацию женщины он считал признаком окончательного упадка общества. В статье «Свободная женщина, или Об эмансипации женщин» («Литературная Европа», 4 марта 1833) он писал: «Я допускаю, что женщина, которая станет утверждать законы, обсуждать бюджет, делить общественные деньги и выносить приговоры в суде, не уступит мужчине. Но заслуга тут невелика. […] Я понимаю, что в этом случае она будет обладать теми же правами, что и я, – если предположить, что я стану избирать или избираться в палату депутатов, от чего упаси меня Господь. Но любим-то мы не тех, кто обладает равными правами, любим мы божественное создание, чьи права не записаны ни в каком законе, потому что для их изъяснения не хватит слов в человеческом языке» (цит. по: Dahan J.-R. Visages de Charles Nodier. P., 2008. P. 257). Впрочем, эти декларации не мешали Нодье не только радушно принимать женщин-поэтесс в Арсенале, но и прославлять их творчество (например, в 1836 году он написал предисловие к сборнику биографий современных французских сочинительниц) – при условии, что оно оставалось «женским», а дама не подражала мужчинам, как Жорж Санд, ибо «всякая женщина, которая мечтает о правах мужчины, недостойна быть женщиной» (Ibid.).
[Закрыть]. Дел у них по горло! Но что еще тревожит Ваше Султанское Высочество, о великолепный Манифафа?
– Мой второй вопрос, Вздорике, касается тебя самого; мне не терпится узнать, каким образом ты все-таки ухитрился выбраться из этой чертовой рытвины?
– Сидя там, я не только перебирал в памяти смутные воспоминания о прочитанных книгах и о почерпнутых оттуда сведениях. Раздумья не мешали мне орать во все горло и от всей души, дабы все узнали, что я единственный из двенадцати членов всемирной миссии, чудом спасшийся от смерти ради того, чтобы изъявить свое почтение патагонской цивилизации. К этому я прибавлял с трогательными интонациями, которые легче вообразить, чем изобразить, что, учитывая проделанный мною путь, я, по всей вероятности, последний миссионер, попытавшийся исследовать данную философическую рытвину, если, конечно, кому-нибудь из моих коллег не удалось продержаться в воздухе дольше моего, что представлялось мне крайне маловероятным.
– Красноречивейший из моих ораторов не выразился бы лучше, друг Вздорике, хотя это его профессия и я плачу ему крупные суммы, размер которых не дает покоя оппозиции; но к кому обращал ты свои пламенные и простодушные речи?
– К горстке дрянных мальчишек ростом не больше двадцати пяти – тридцати футов[102]102
От семи с половиной до девяти метров.
[Закрыть], которые резвились на берегу, играя в лунки, ручеек, чехарду и прочие детские игры.
– На берегу рытвины, хочешь ты сказать. И что же случилось после, балагур?
– Увы, Государь, случилось то, что должно было случиться: поблизости случился легион философов в расшитых камзолах и шелковых чулках, в перчатках и с зонтиками под мышкой; они удобно расположились вокруг меня на складных стульях и принялись обсуждать, каким образом мне помочь. Первый день они целиком посвятили этому обсуждению и почти единогласно пришли к выводу, что я упал в эту рытвину случайно. На второй день они решили, что было бы весьма кстати вытащить меня оттуда с помощью какой-нибудь машины; на третий день они совершили чудо.
– Они наконец вытащили тебя!..
– Нет, о божественный Манифафа. Они назначили комиссию, составленную из наилучших знатоков механики. Тут я понял, что погиб, и, простирая к философам трепещущие руки, которые мне удалось выпростать из земли ради такого важного занятия, как борьба с мухами, возобновил свои бесполезные мольбы, уснащая их обильными слезами. Философы ушли уже довольно далеко. Однако, на мое счастье, двое из тех исполинских юнцов, о которых я уже имел честь вам рассказывать, устроили себе громадные качели из центральной мачты трехпалубного судна и со всем пылом молодости предавались смехотворному развлечению, недостойному, как я им доходчиво объяснил, ни одного мыслящего существа. Один из этих маленьких неучей, который, как я успел заметить, с тупым, но не лишенным лукавства видом вслушивался в дискуссии философов, дождался, чтобы они скрылись из виду, а затем подошел к своей мачте и, тщательно укрепив этот солидный движитель на опоре, направил его конец туда, где все еще тщетно трепетали мои длани. Я машинально ухватился за мачту, желая прежде всего избежать ее столкновения с моей головой, которое почти наверняка кончилось бы не в мою пользу; впрочем, вцепился я в эту деревяшку очень крепко. В ту же секунду неотесанный сын Патагонии со всей высоты своего роста бросился на другой конец мачты, вследствие чего я вылетел из ямы как пуля и, соскользнув по стволу, которого так и не выпустил из рук, плавно опустился на каменистую почву – такую твердую, что она не прогнулась бы и под целым полчищем патагонцев. Счастливое совпадение, позволившее юнцу инстинктивно отыскать этот способ вызволить меня из беды, навело меня на горькие размышления о судьбе несчастных патагонцев, которые по причине отсутствия интеллекта принуждены с тупым усердием удовлетворять свои животные потребности, не имея ни малейшей надежды стать учеными, ибо цивилизация их, размеренная и покойная, но, увы, чуждая полета мысли, топчется как заведенная на одном и том же месте. Грустно даже подумать.
– Узнаю твое доброе сердце, – сказал Манифафа, – но всему виной секция идеологии, которая должна ведь приносить хоть какую-нибудь пользу и которая, если я тебя правильно понял, задолжала островитянам душу, ум и способность к совершенствованию. Однако, Вздорике, если цивилизация у них размеренная и покойная, а ума довольно, чтобы выбираться из трудных положений, что может быть лучше? чего еще желать?
– Лучше, разумеется, ничего и быть не может, пожелать же патагонцам можно многого, и прежде всего – прогресса, иначе говоря, если выразиться с той точностью и с тем изяществом, каких требуют высокие материи, о коих мы трактуем, я желал бы, чтобы они прогрессировали. Ибо, в конце концов, что такое нация, которая не прогрессирует? Ведь не в том основное предназначение человека, чтобы скромно проживать отмеренный ему срок в кругу семьи, выполняя по совести обязанности свои перед Богом, государством и человечеством, к чему призывали наших невежественных предков нудные моралисты. Основное предназначение человека заключается в том, чтобы прогрессировать, и – худо ли, хорошо ли – он будет прогрессировать, клянусь вам в этом, в противном же случае ему придется объяснить нам, по какой причине он не прогрессирует… Впрочем, патагонские ребятишки были по природе своей добры. Бедняжки поспешили погрузить меня в чистую и довольно приятную в отношении температуры воду, дабы смыть с меня следы пребывания в рытвине и вернуть хотя бы часть прежней гибкости моим измученным членам. Затем они обсушили меня под лучами жаркого и целительного солнца, обмахивая мое чело благоуханными ветвями, сорванными нарочно для сего случая, после чего, не мешкая ни минуты, собрали остатки своего завтрака и угостили меня вкусным и обильным обедом – ибо патагонские остатки стоят нашего целого. Не успел я жестами поблагодарить их, как они, нимало не заботясь о моих чувствах, вернулись к своим качелям, предварительно указав мне пальцем путь в город философов, где я надеялся найти себе достойных собеседников. Я уже почти вплотную подошел к стенам города, когда оттуда торжественно выплыла бесконечная процессия, направлявшаяся в мою сторону; цель сей научной экспедиции разъяснилась для меня в тот самый миг, когда я взглянул на снаряжение путников. У них имелись доски и блоки, лестницы и шесты, штанги и рычаги, гири и гирьки, веревки и лебедки, серпы и молоты, косы и тросы, кабестаны и подъемные краны, драги и мотыги, крючки и кирки, домкраты и багры – одним словом, все экспонаты Консерватории искусств и ремесел[103]103
Нодье очень любил эффектные длинные перечисления с рифмами и/или игрой слов (прием, заимствованный им у Рабле); в «Истории Богемского короля» едва ли не на каждой странице встречаются синонимические ряды из двух и более десятков существительных, глаголов или прилагательных. Комментируемое перечисление экспонатов Консерватории искусств и ремесел (род Политехнического музея в Париже) имеет также и пародийный оттенок; объект пародии – энциклопедия «философов» Дидро и Даламбера, в состав которой, помимо томов с текстами, вошли 11 томов иллюстраций, посвященных преимущественно различным ремеслам.
[Закрыть], за исключением весов. Мне весьма польстила предупредительность этих великих людей, и я попытался поделиться с ними обуревающими меня чувствами на двух десятках языков, ни один из которых, впрочем, не показался им знакомым. Я, со своей стороны, вовсе не понимал их языка, что и навело мой восхищенный ум на мысль, что они, по-видимому, изобрели универсальный язык или, по крайней мере, открыли язык первобытный[104]104
Понятие «универсальный язык» у Нодье могло быть окрашено в самые противоположные тона. С одной стороны, такой язык для него – выдумка ученых, плод дряхлой цивилизации. То же касается и языка первобытного: в начале XIX века поиски индоевропейского праязыка (в частности, в работах Ф. Шлегеля или Ф. Боппа) были тесно связаны с изучением санскрита и общим увлечением восточной культурой, которое Нодье высмеивает в комментируемой сказке. С другой стороны, Нодье случалось смотреть на универсальный и первобытный языки совсем иначе. Автор «Словаря звукоподражаний» (1808) сам отдал дань поискам «первобытного языка», в котором слова носили не условный, а безусловный характер (ономатопеи подражали природным звукам, иероглифы – природным формам). В выпущенной мизерным тиражом книге «Археолог, или Универсальная и толковая система языков» (1810) Нодье рассказывает о замысле составления «Всеобщего словаря корневых звуков языка»: соединение этих «естественных» и потому всем понятных корней в пределах одного словаря было призвано способствовать созданию универсального языка и тем самым отменить проклятие, обрушившееся на людей после строительства Вавилонской башни. Хотя задуманного словаря Нодье не составил, он и в зрелом возрасте не отказался от веры в то, что «всякая вещь имеет истинное имя, имя, ей принадлежащее, то, какое всякий человек не может ей не дать, когда она впервые предстает его взору» (Nodier Ch. Feuilletons du Temps. T. 1. P. 623; статья «О научных номенклатурах», опубликованная в «Temps» 18 декабря 1835 года). Таким образом, в данном случае Нодье иронизирует не только над современниками, но – отчасти – и над самим собой.
[Закрыть]. Это маленькое недоразумение, естественно, несколько затрудняло нашу беседу и помешало мне четко объяснить философам, каким образом я выпутался из неприятного положения, в каком они меня застали; впрочем, было совершенно очевидно, что они предпочитают приписать честь осуществления этой сложной операции себе, в чем я не видел ничего дурного, и охотно уступил им право представить любопытствующим ее достоверное описание. Спутники мои отвечали на приветственные возгласы патагонского сброда, усыпавшего улицы, по которым пролегал наш путь, с такой скромной, но гордой доброжелательностью и с такими милыми улыбками, что я не только поддакивал им, но и сам едва не поверил в действенность оказанной мне философической помощи; впрочем, издавна свыкшийся с академическими нравами, я в любом случае не выдал бы своих истинных мыслей. Таким образом – надо признаться, вполне триумфальным – я добрался до дворца Верховной консистории, где меня, подобно любопытной достопримечательности, поместили на столе, покрытом зеленым сукном, перед главным распорядителем, – церемония тем более лестная для ее героя, что одобрение патагонской аудитории, склонной в силу своей чрезвычайной невинности восхищаться чем попало, обеспечено ему наверняка.
– Невинность невинностью, но меня тревожит секция антропологии. Она вполне могла сделать из тебя чучело.
– В тот момент до этого не дошло, о божественный Манифафа! Главный распорядитель произнес речь, приспособленную к интеллектуальному уровню местных жителей, что, однако, поначалу ничуть не приблизило меня к пониманию их философического языка; сколько я ни бился над аферезами, диерезами и синтезами, сколько ни переходил от апокопы к синкопе, сколько ни пытался сладить с противоречиями, пожертвовать слогами ради благозвучия, призвать на помощь мирную парагогу или укрыться за туманной анагогией[105]105
Нодье, критически относившийся к неумеренному использованию в современном французском языке ученых терминов, заимствованных из греческого, нарочито нагромождает термины лингвистики и риторики: афереза (опущение начального гласного в случае, если предыдущее слово оканчивается гласным), диереза (раздельное произношение крайних гласных на словоразделе), синтез, или силлепс (соединение двух слов в одно), апокопа (выпадение безударного гласного в конце слова), синкопа (выпадение звука или звуков в слове), парагога (добавление звука или слога к концу слова), анагогия (возвышение духа до созерцания небесных предметов).
[Закрыть], я все равно не мог вникнуть в смысл патагонских корней. Как сожалел я о том, что нет подле меня мудрого и ученого Эдвардса![106]106
Уильям Фредерик Эдвардс (1777–1842) – французский физиолог, этнолог и лингвист, приобретший известность исследованиями физиологических характеристик человеческих рас.
[Закрыть] Наконец частое повторение некоего словосочетания, чей смысл я походя постиг благодаря мистической метатезе[107]107
Метатеза – непроизвольная перестановка двух соседних букв или слогов в слове.
[Закрыть], внезапно открыло мне, что прекрасный и ученый язык философов есть не что иное, как бесхитростное наречие моего родного местечка Вильнёв-ла-Гийяр[108]108
Коммуна в департаменте Йонна, в Бургундии.
[Закрыть], с той лишь разницей, что здесь все слова элегантнейшим образом читаются справа налево, примерно как в бустрофедоне[109]109
Бустрофедон – способ письма у греков и италиков с переменным направлением строки: все нечетные строки пишутся и читаются справа налево, а четные – слева направо.
[Закрыть], которым я имел счастье овладеть еще на заре туманной юности, читая вывески задом наперед; благодаря этому открытию я в мгновение ока освоил священный язык, на котором изъясняются патагонцы, не хуже самого опытного лингвиста. Посему с непринужденностью и уверенностью, поразившей всех присутствующих, я взял слово сразу после главного распорядителя, и, хотя законы скромности накладывают на историков, повествующих о самих себе, справедливые ограничения, я не могу умолчать об изумительном воздействии моей речи, оказавшей влияние на все последующие десять тысяч лет моей короткой жизни. Гром рукоплесканий, которыми слушатели встретили мою речь, так смутил меня, что я, сидевший на выставочном столе между четырех свечей, едва не лишился чувств, вследствие чего ученый болван, исполнявший в этом почтенном собрании обязанности мажордома, был отправлен в химическую секцию за бодрящим напитком, который философы очень кстати употребляют в подобных случаях вместо воды с сахаром, если желают подкрепить силы оратора, подточенные громогласными восторгами публики. Я выпил все до капли, но не успел я сделать последний глоток, как лицо мое, вместо того чтобы принять под действием целительного напитка вид бодрый и развеселый, исказилось ужасным судорожным зевком, который немедленно – и совершенно безошибочно – известил всех присутствующих о том, что я стал жертвой философической ошибки, философические же ошибки, да будет вам известно, еще опаснее, чем ошибки аптекарей. Главный распорядитель поспешил лично осмотреть подозрительную склянку, но, едва взглянув на этикетку, убедился в тщетности дальнейших разысканий и горестно вскричал:
– О гибельная и непоправимая оплошность! Мы поднесли нашему возлюбленному коллеге не воду радости и здоровья, а воду вечного сна!..
– Вечного сна! – возопил я так громко, как только способен возопить человек зевающий, в чьей речи регулярно образуется изрядное зияние. – Вечного сна! Разрази тебя гром, проклятый распорядитель, вместе со всем твоим патагонским островом!
– «Вечный» – слово не совсем точное, – добродушно перебил меня распорядитель. – Доза не так велика. Согласно совершенно точной прописи, вы глотнули напитка всего на десять тысяч лет, а поскольку вы посвятили свою жизнь поискам совершенного человека, этот небольшой перерыв в ваших академических штудиях пойдет вам только на пользу. Кто знает? возможно, по пробуждении вы обретете то, что ищете[110]110
Возможно, намек на утопический роман Луи-Себастьена Мерсье «Год две тысячи четыреста сороковой» (1771), герой-повествователь которого проспал 672 года и проснулся в государстве, устроенном весьма разумно – в противоположность той Франции, в какой он заснул.
[Закрыть].
Тут я зевнул изо всех сил.
– Небольшой перерыв! – вскричал я в порыве самого сильного гнева, какой только может охватить человека засыпающего. – Хорошенький небольшой перерыв длиною в десять тысяч лет! А вам не приходит на ум, бессердечный распорядитель, что у меня есть дела дома, что за отсутствием справки о нахождении в живых мне перестанут выплачивать академическую пенсию, а красивая и богатая девица, с которой я намеревался вступить в законный брак, вряд ли станет дожидаться меня десять тысяч лет!
– Не осмелюсь ручаться за нее, – отвечал главный распорядитель. – Находись она здесь и дай она свое согласие, я мог бы усыпить ее вместе с вами, это не составило бы мне никакого труда, но другого способа заставить девушку дожидаться жениха в течение десяти тысяч лет я не знаю. Впрочем, большой беды я в том не вижу. Вы отлично сложены и легко отыщете других любовниц, а десять тысяч лет во сне пролетят совсем незаметно!
Тем временем какие-то люди подхватили меня и куда-то понесли, я же, по вине снотворного действия, оказываемого на меня их дьявольским зельем, почти не сопротивлялся и только зевал все громче. Длинный ряд галерей привел нас в залу сновидцев. Так называются мудрецы, члены местной секты, посвящающей почти всю свою жизнь сну.
– Губа не дура, – заметил Манифафа.
– Хотя глаза у меня слипались, я успел заметить под стеклянными колпаками, на которых несмываемыми чернилами были проставлены номера, немалое число порядочных людей, которые добровольно избрали для себя сонную участь, – одни оттого, что им опротивел мир, в котором они жили, другие оттого, что их посетило вполне естественное желание увидеть мир иной[111]111
Нодье посвятил сну специальную статью «О некоторых явлениях, связанных со сном» (1831), которую в следующем году включил в крайне важный для него том собрания сочинений под названием «Грезы». Здесь сон описан как «перемежающаяся смерть», когда человек освобождается от общественных условностей и от власти разума и ему являются «карта воображаемого мира» и божественные откровения; как замечает Нодье, «обо всех религиях, кроме той, чья истинность не может быть подвергнута сомнению, человек узнал во сне» (ОС. Т. 5. Р. 161, 167). Сон – «наилучшее состояние, в каком может пребывать человек, если не считать смерти» (Ibid. Р. 343) – позволяет человеку убежать от жизни положительной и на время обрести другое существование и другие способности. Это другое существование отнюдь не всегда безоблачно. Сон, как это часто случается в прозе Нодье, может перерасти в кошмар; именно находясь во власти страшного сна, человек, пишет Нодье в статье 1831 года, превращается в волка-оборотня или вампира, а проснувшись, ужасается содеянному. Однако сон может открыть человеку дорогу не только в ад, но и в рай; в письме своему другу Шарлю Вейссу от 21 июля 1832 года Нодье называл сон «наилучшим из учителей» и признавался, что именно во сне он постиг «систему творения всю целиком, включая ее начало и ее цель» (Nodier Ch. Correspondance inédite. Génève, 1973. P. 256–257). В том же году в новом предисловии к повести «Смарра» Нодье сообщает читателям об одной своей особенности: он ощущает иллюзии, являющиеся ему во сне, «в сотню раз острее, чем собственные любовные терзания» (Infemaliana. Р. 80). Понятно, что сон для Нодье – вещь чрезвычайно значительная и серьезная, – что, впрочем, не мешает ему ни насмехаться над сном как литературным приемом, ни в самой серьезной статье вдруг отпускать такое замечание: «Внезапно меня сморил неодолимый сон, что всегда случается со мной после чтения собственных сочинений» (ОС. Т. 5. Р. 388).
[Закрыть]. Уверяю вас, то было самое избранное общество. Кое-кто был накануне восстания из сонных и уже шевелился. Поскольку мне хотелось лишь одного – спать…
– И мне тоже, – сказал Манифафа.
– Да я уже наполовину и спал, – продолжал Вздорике.
– И я тоже, – подтвердил Манифафа.
– … я в глубине души пожелал им всех благ и без проволочек вошел под отведенный мне колпак, где обнаружил весьма удобную – во всяком случае, для человека, которого клонит в сон, – постель, на которой тут же и заснул.
– Спокойной ночи, Вздорике! – пробормотал Манифафа, роняя трубку. – Спи спокойно, и пусть тебе снятся только хорошие сны.
– Проснувшись, я первым делом посмотрел на мои часы. Они стояли. Когда я проснулся…
– Черт подери! – воскликнул Манифафа, растягиваясь на диване. – Когда ты проснулся, я, может быть, еще спал! В конце концов, разрази меня гром, имею я право соснуть часок-другой, если тебе я милостиво позволил продрыхнуть целых десять тысяч лет между началом и концом твоей пространной истории. Я не хочу сказать, Вздорике, что твой рассказ вовсе не заинтересовал меня; напротив, водное сражение морских коньков и забавы четырех юных обезьянок показались мне весьма увлекательны. Я смеялся от души.
Вздорике, который, как читатель мог уже не раз убедиться, обладал умом в высшей степени проницательным, прекрасно понял, что Манифафа, слушая его рассказ, то и дело улучал минутку, чтобы вздремнуть.
– Короли, должно быть, либо очень глупы, либо в высшей степени злонамеренны, – пробормотал он. – Возьмем, например, вот этого: я уже битый час толкую ему о самых трансцендентных и запутанных сторонах морали, философии и политики, а он тратит драгоценные минуты на то, чтобы грезить о сражениях морских коньков и забавах юных обезьянок!
– Что ты там бурчишь, Вздорике? – воскликнул Манифафа. – Ты, кажется, на меня дуешься?
– Я размышлял о том, о божественный Сумабезбродий, что мои странствия достойны того, чтобы довести рассказ о них до конца, а вы ведь выслушали только первую часть трилогии; слово «трилогия» очень важно для моего издателя; оно должно принести мне успех.
– Откуда в душе балагура столько дотошности? Люди, для которых ты пишешь, Вздорике, так привыкли к монограммам из трех букв, что, клянусь честью Манифафы, приняли бы, не моргнув глазом, и трилогию из четырех частей[112]112
Обычная для Нодье насмешка над малограмотностью современников, которые несведущи в истории языка и употребляют «ученые» слова, заимствованные из греческого, не понимая толком их смысла (в точном соответствии с этимологией «монограмма» – одна-единственная буква; впрочем, в реальности монограммы всегда представляли собой переплетения нескольких букв, чаще всего инициалов). Свою позицию по отношению к «научным номенклатурам» Нодье разъяснил в одноименной статье 1834 года: «Я обвиняю создателей номенклатур в том, что они извращают и искажают изучение наук, дабы присвоить себе монопольное право на это занятие; в том, что они похищают Вселенную у человека, дабы превратить ее в достояние горстки педантов; в том, что они отдают в безраздельное владение невеждам, нахватавшимся слов на скверном греческом и скверной латыни, все то богатство природы, которое принадлежит всему человечеству», – одним словом, в том, что на место живописных народных метафор они поставили жаргон варварский и непонятный (Nodier Ch. Notices bibliographiques, philologiques et littéraires. P., 1834. P. 50). Еще более резким неприятием псевдонаучных неологизмов полна большая статья «Диатриба доктора Неофобуса против изготовителей новых слов» (Revue de Paris, 12 декабря 1841 года). Она не случайно подписана псевдонимом «доктор Неофобус», то есть «ненавистник нового». Нодье обрушивается на тех, кто расширяет французский язык с помощью «всевозможных комбинаций греческих корней – работа, доступная всякому вне зависимости от того, знает он греческий или не знает» (Nodier Ch. Feuilletons du Temps. T. 1. P. 743). Нодье предпочитает науку другого рода – ту, которая не преминет рассказать ему, что один и тот же цветок именуется во Франции «глаза Пресвятой Девы», в Италии «помните обо мне», в Германии «не забывайте меня», а у подножия Альп «чем дольше я вас вижу, тем сильнее люблю» (Ibid. Р. 624; ясно, что речь о нашей незабудке).
[Закрыть]. То ли еще будет! А пока, Вздорике, ради всего святого, поспи и дай поспать мне!
– Трилогия из четырех частей? Почему бы и нет? Такое уж нынче времечко, – пробормотал Вздорике.
Пока он, покусывая ногти, размышлял об этом новом литературном жанре, величавый владыка Сумабезбродии успел уже всхрапнуть целых три раза. Он спал.
Балагур растянулся во весь рост у ног своего повелителя, чтобы без помех предаться размышлениям о достоинстве человеческого рода и его прогрессивном совершенствовании. Он уснул.
Я, с трудом разобравший рукописи Вздорике и выводящий эти строки, в то время как городские часы бьют три пополуночи, а масло в лампе, за которое лавочник мой вымогает у меня деньги с упорством, недостойным порядочного человека, догорает, я чувствую, что перо выпадает у меня из рук. Я засыпаю.
А вы, сударыня?..








