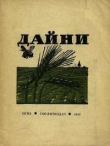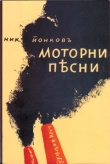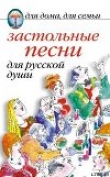Текст книги "Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке"
Автор книги: Шапи Казиев
Соавторы: Игорь Карпеев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Характерное описание узденской усадьбы Дагестана находим в воспоминаниях А. Омарова: «Дом наш на вид не отличался ничем от прочих домов аула, разве только был просторнее многих из них. По состоянию нашему он стоял выше среднего, а по чистоте узденского нашего происхождения пользовался особенным уважением и принадлежал к числу почетных домов. Архитектурное расположение его тоже не особенно отличалось от прочих. Вход с узенькой улицы вел полукругом во двор, вымощенный плоскими камнями; направо в первом этаже помещался сарай, в который вела одна маленькая дверь. Внутри сарай разделялся на 4 отделения: одно называлось ослиным сараем, другое – бычачьим, третье – коровьим, а четвертое – конюшнею.
Над сараем находились жилые комнаты, принадлежавшие одному дальнему родственнику матери, и потому он был обязан поправлять потолок сарая; починка же стен от фундамента до потолка лежала на обязанности нашей. Дальше, напротив входа во двор, стояла двухэтажная сакля, в которую входили тоже через маленькую дверь. За дверью шел длинный коридор вдоль всего дома, а направо шла лестница наверх. Коридор освещался маленькими отверстиями, выходящими на двор.
Напротив входа была комната, весьма сырая и темная, в которой на полу кругом стен стояли большие глиняные кувшины; в них держали муку, толокно, сывороточный уксус, грушевый квас и пр., в маленьких же кувшинах хранили масло, сыр и мед. В углу лежали серпы, топор, кирка, шерстяные веревки, ремни и т. п. Это была так называемая кладовая, которая замыкалась. Налево, рядом с кладовой, была другая комната, освещавшаяся тремя большими амбразурами, верхние концы которых доходили до самого потолка и были покрыты сажею, наподобие черного инея. Потолок также был закопчен от дыма и блестел, как черная клеенка. В углу, под одной из амбразур, стояла печь, похожая на те печи, которые делаются для выжигания кирпичей или извести. В этих печах топят кизяками и саманом. На верхнее отверстие ставят котел, в котором варится что-нибудь, потом котел снимают и вытаскивают из печи наружу часть огня в круглое углубление (вилах), сделанное нарочно для этого (в зимнее время все семейство горца сидит кругом этого углубления, протянувши голые ноги к краю его для согревания). Потом прилепляют к раскаленным стенам печи хлебные лепешки (чуреки) и верхнее отверстие закрывают плоским камнем, служащим иногда и сковородою для печения чего-либо. Такие печи делаются без труб, и потому дым частью поднимается прямо к отверстию, находящемуся над печкою, и частью распространяется по всей комнате, так что в зимнее время в ней не видно ничего и нет возможности стоять от удушливого дыма.
На одной стороне комнаты вдоль стены были деревянные полки, на которых лежали котлы, чашки (деревянные, глиняные и медные), сито; там же, на стене, висела большая деревянная чашка, деревянный же сосуд с резьбою, называемый кусридичу, из которого торчали деревянные ложки и палочки, служащие у горцев вместо вилок. С другой стороны у стены стоял громадный деревянный сундук (су) длиною около 5, а вышиною до 3 аршин, украшенный местами грубою резьбою. Сундук этот имел в себе три отделения, в которых хранился зерновой хлеб – пшеница, ячмень и просо. Эта комната служила зимней кухней. Левее ее, с коридора, был вход в большую комнату, построенную на арках, без штукатурки, там лежали сено и солома для скота. На верхнем этаже находился балкон, с которого входили в светлую комнату, служившую летней кухней. Далее была большая комната, потолок которой был увешан сушеной бараниной и курдюками различных времен; одни из них уже висели года четыре и были темно-желтого цвета, другие – три года и т. д. Под курдюками стояли чашки для вытекающего из них сала (старые курдюки занимают почетное место в пище горцев, и не иначе варят их, как только для самых роскошных обедов; часто также кормят ими больных как лекарством). Стены были увешаны всякого рода посудою; тут были медные тазы разной величины, такие же кувшины, чашки, подносы, – что составляет главное домашнее богатство горца; такая же посуда глиняная, фарфоровая, стеклянная, а также тарелки с узорами, которые почти никогда не бывали в употреблении, а служили только для украшения.
В одном из углов комнаты была сложена постель, то есть несколько тюфяков, сделанных из пестрого шерстяного паласа, домашней ткани и пестрого грубого холста, набитых шерстью или мягкою травою; несколько одеял из персидской бумажной материи и столько же подушек, набитых тоже шерстью или просто ватою. Эти подушки были покрыты грубою ситцевою матернею и никаких наволок не полагалось для них… Между постелью были сложены разноцветные войлоки с цветными шерстяными кистями по краям, служившие простынями для постели; далее большие овчинные шубы, новые и старые, на колышках же, вбитых в стену, висели маленькие ночные папахи из бараньей шкуры. В той же комнате стояло несколько сундуков персидской работы, покрытых разукрашенной жестью; в них хранились одежды, разные материи и другие вещи. Сундуки эти принадлежали исключительно матери, и отец никогда в них не заглядывал, потому что для мужчины считается неприличным смотреть в женский сундук.
Дальше, с боку этой комнаты, была еще маленькая комната, вся застланная коврами и паласами, со многими нишами в стенах, наполненными арабскими книгами. Комната эта была гораздо чище других и освещалась двумя окошками, украшенными деревянною резьбою в персидском вкусе. На потолке ее были различные надписи-изречения из Корана, молитвы и арабские стихи, в таком роде: «Дом, семейство и все имущество наше суть не что иное, как временно порученное нам; рано или поздно нужно возвратить их владельцу». Снаружи, над дверью, было вырезано на камне двустишие на арабском языке такого содержания: «О дом, да не войдет в тебя печаль, и да не играет судьба с жильцом твоим! Как ты уютен для каждого гостя, когда чужеземец нуждается в отдыхе!» Эта комната (тавхана) служила кабинетом для отца: в ней он просиживал почти целый день и читал книги или молился; в ней же принимались и гости, исключая таких, которые по положению своему и званию не заслуживали слишком почетного приема…»
Жилища дагестанской знати были богаче и просторней, но строились по тому же принципу. Н. И. Воронов сообщает: «В Кумухе еще целы два ханских дома, хотя в одном из них отчасти произошли переделки в русском вкусе. Впрочем, переделана только та часть этого дома, которая занята собственно окружным управлением, в другой же половине проживает и теперь бывшая ханша. (По имени Шамхал-бике. Она дочь Нуцал-хана (Аварского), вдова Агалар-хана, теперь в замужестве за одним из сыновей последнего Кюринского хана…) Лучшие жилые комнаты этого дома, как и в каждой дагестанской сакле, находятся на втором этаже; в них ведет лесенка без перил, на которой весьма легко споткнуться; затем следует открытая галерея с тонкими деревянными колонками, и с нее маленькая и узкая дверь с высоким порогом ведет в самые дальние комнаты. Эти последние убраны отчасти по-европейски, то есть в них есть кое-какая мебель, а больше – в туземном вкусе: полы покрыты коврами и паласами; на стенах висят одеяла и куски материй; в нишах стен расставлена разная стеклянная и фаянсовая посуда, между которою больше всего чайных полоскательных чашек. При переходе из комнаты в комнату неизбежно встретишь спуск или подъем по нескольким ступеням.
В одной из комнат ханского дома я имел ночлег: в ней стояла двуспальная кровать, был стол, вроде письменного, было два-три стула, на кровати лежала перина, застланная парчовым одеялом, а в головах – одна громадная подушка, тоже парчовая, верхней наволочкой для которой служил накрахмаленный тюль…
В самой просторной комнате дома, потолок которой подпирался несколькими деревянными столбами, гостеприимно нас принимала и потом угостила ужином бывшая ханша. Стол сервирован и ужин был изготовлен по-европейски, но, кажется, не ханскими поварами…»
В повести «Дагестанские захолустья» В. И. Немирович-Данченко описывал опустевший высокогорный аул:
«…Громадные массы камня, точно сложенного здесь циклопической стеной, падали вниз вертикально, серебрясь и выступая на свет каждой своей выпуклиной, каждым углом и изломом. Отвесная стена скоро переходила в выпуклую, она уже висела над долиной. Страшно было смотреть на эту горбину, думалось, вот-вот и она рухнется вниз всей своей грузной, тяжелой массой. И вдруг я приостановил коня и с чувством, близким к восторгу, уставился на эту твердыню. Прямо на ней, на этой горбине, висевшей над долиной, точно гнезда ласточек висели сакли. Кто и как их прилепил сюда? Голова кружилась еще внизу, что же должно быть там, на этом, словно вздрагивающем карнизе? Прямо с отвеса горы выступала плоская кровля и упиралась в такой же выступ пола. Кровля поддерживалась деревянными столбами, пол был утвержден на балясинах, укрепленных вкось в расщелины скалы. Это была только галерея, веранда, балкон. И таких балконов были сотни – прямо из горы, прямо на отвесе. Самое жилье или выдолблено в скале, в отвесе, или вровень со стеной отвеса возведено над карнизом. Ласточкины гнезда под кровлей колокольни, гнезда, свитые на стенах развалин, жилье каких-то воздушных существ, птиц что ли, – короче, что хотите, только не аул, не село, не обитель человека. Что-то волшебное, призрачное, одуряющее, что-то похожее на сон, далекое от действительности. А этот лунный блеск, выхватывающий ласточкины гнезда из мрака, этот лунный свет, который точно курится на их плоских кровлях, свет, обращающий деревянные жерди в серебряные колонны, расщелившийся камень – в матовые глыбы, свет, на котором только черными трещинами или зевами кажутся входы в сакли или окна их. А еще выше, над этим воздушным аулом, над этими гнездами, унизавшими выдавшийся карниз, величаво дремлют голубоватые вершины гор, подернутых серебряной пылью, крутые, безлюдные, скалистые. Едва-едва ложатся на них тени от впадин и склонов, но этот общий колорит без оттенков, однообразный, рисующий только их профили, делает их еще величавее, еще грандиознее».
О жилищах татов, во многом схожих с традиционными жилищами ряда других горских народов, И. Анисимов пишет: «… Жилища евреев-горцев, живущих в аулах, представляют каменные постройки – сакли, а городских – дома в европейском вкусе и с азиатским убранством. Некоторые же богатые горцы имеют и европейские комнаты с порядочной мягкой мебелью, которые служат приемными для гостей – русских и в другое время не бывают почти обитаемы.
Сакли выстраиваются или самими хозяевами, или каменщиками. Наружные стены их большей частью голые, за исключением передней стороны, которая, как и внутренние стены, смазывается глиной, смешанной с саманом (соломой). Они белятся известью, добываемой горцами-евреями из местного камня в доменных печах, или мелом, смешанным с глиной (белая глина), встречающимся в горах повсеместно. Нижняя часть выбеленных стен выкрашивается красной или серой глиной, также местной. Потолок состоит из балок, расположенных параллельно по ширине комнаты и лежащих одними концами на передней и задней стенах, другими на средней широкой балке, идущей в длину сакли и подпертой посредине сакли толстой дубовой подставкой, украшенной вырезанными фигурами и цветами. Редко в какой сакле отсутствует эта подставка. Сверху балок кладется камыш, потом солома, которая смазывается глиной. Таким образом, составляется плотная крыша. Концы передних балок выходят наружу аршина на два и, будучи связаны вместе с крышей, образуют навес, служащий для прикрытия от дождя или жары в летнее время и называемый балконом. Сакли состоят обыкновенно из двух или трех комнат, имеющих каждая особое назначение. Одна из них отводится для женщин, другая для мужчин, третья для гостей.
…Кунацкая комната даже у самых бедных горцев бывает наполнена всевозможными хозяйственными вещами азиатского производства и оружием. На верхних полках красуются различные фаянсовые и стеклянные чашки и тарелки, по нескольку штук одна на другой, графины, старинные бутылки, медные чашки с таковыми же колпаками с вырезанными на них фигурами и цветами, позолоченные кувшинчики, вазы и пр. На стене, под этими же полками и над занавеской из бархата или пестрой шелковой материи с золотой бахромой внизу, висят большие медные тарелки, зеркала, подносы с золочеными рисунками, шелковые шали, сложенные в два-три раза, кинжалы, пистолеты, ружья, шашки и пр. Около другой стены, которая без занавески и бывает вся увешана в несколько рядов всевозможными цедилками, тарелками и различными мисками и мелкими чашами, ставятся сундуки с платьем и драгоценными вещами хозяев. Иногда их бывает два, иногда несколько; в последнем случае самый большой ставится внизу, а над ним – остальные, меньшего размера. Все эти вещи служат только украшением помещения для приезжающих гостей и не употребляются в дело. Полы покрыты коврами».
Об архитектуре осетинских селений В. Пфаф приводит следующие сведения: «Дома осетин построены, смотря по местности, или из плетня, обмазанного глиною, или из дерева, или из камня. Архитектура построек на плоскости во многом отличается от построек в горных ущельях. В последних жилища пристроены большей частью к склонам гор. В древних аулах задние комнаты и помещения нижнего этажа часто высечены в скале. Помещения нижнего этажа обыкновенно состоят из просторных и довольно высоких хлевов для скота, преимущественно мелкого. Пол обыкновенно выложен глыбами камней сланцевой породы и покрыт навозом, который от времени до времени расчищается. Навоз образует и необходимую обстановку двора, на котором он в зимнее время накопляется в значительном количестве, весной же увозится на поля или служит в смеси с соломою для приготовления из него кизяка на топливо. Стены нижнего этажа или высечены в скале, или же сложены из камней без цемента. Потолок нижнего этажа служит полом для второго. К последнему ведет снаружи узкая лестница, грубо сложенная из камней. Спереди – площадка, с которой низкая дверь ведет во внутренние помещения главного строения. Размещение в нем комнат весьма разнообразно; заметно даже полное отсутствие в этом отношении определенного стиля; комнаты построены смотря по мере надобности и условиям местности. В каждом доме достаточных осетин находятся: кладовая, главная семейная комната, в середине которой на очаге почти всегда горит огонь, отдельные комнаты, служащие спальнею или для другой надобности; кунацкая для приема гостей. Последняя часто выстроена из леса, составляя третий этаж, возвышающийся отдельно над главным корпусом жилого дома. Все эти помещения, кроме кунацкой, темны и большею частью без окон. Свет проникает в них через открытую дверь или небольшое отверстие в потолке над очагом. В кладовой стены кругом обставлены бочками из стволов больших деревьев (в них сохраняются хлеб и мука); на полу и в углах лежат в беспорядке разный хлам и домашняя утварь, бурдюки, сельскохозяйственные орудия, кроме плуга, который стоит или на дворе, или в помещениях нижнего этажа.
Самое характеристичное помещение – это семейная комната с очагом. Очаг большей частью находится в середине ее, он состоит из нескольких камней, на которых горит огонь. Сверху над очагом висит старинная цепь с крючком для медного котла… С одной или с двух сторон около очага стоят седалища: скамейки или низкие деревянные столбы. Остальная мебель состоит из деревянной тахты или дивана с довольно высоким перилом с трех сторон. Перило это украшено весьма характеристичными вырезками, напоминающими по стилю своему древнеливийское искусство. Подле этого дивана стоит в высшей степени замечательной формы деревянное кресло для хозяина или почетных гостей. Все стулья, скамьи и столы у осетин о трех ногах… Осетинский стол немного выше скамейки; он состоит из точеной или тщательно вырезанной из твердого дерева круглой доски, утвержденной на трех ногах. Этот столик держится довольно опрятно, и сесть на нем считается неприличным…
У стен висят на деревянных гвоздях платья, оружие, конская сбруя и т. п. У богатых имеется особенное помещение для гостей; мебель его та же самая, которую мы только что описали; по стенам на гвоздях висят, кроме оружия и праздничного платья, воловьи и другие шкуры. Они на ночь в случае приезда гостей расстилаются на полу. Главный почетный гость всегда сидит и спит на диване вышеописанной формы. При приезде его тотчас расстилается на нем войлок или ковер. В одном углу этого длинного дивана правильно сложены в высокую кучу подушки, одеяла, ковры и т. п., что, конечно, относится только до домов богатых людей. В кунацкой вместо очага имеется камин.
Вот, приблизительно, обстановка осетинского семейного дома. К подобному дому пристроены, по мере потребностей живущей в нем семьи, другие здания; пристройки эти делаются всегда так, что наружная стена главного строения продолжается по условиям местности или в прямом направлении, или под углом. Дверь к подобным пристройкам всегда внутри двора, так что все здание имеет по возможности только один главный вход. Таким образом, если после многих поколений кругом все обстроено помещениями для народившихся сыновей, то подобное здание под конец представляет вид крепости, иногда весьма значительных размеров. В подобной крепости есть и высокая оборонительная башня с бойницами. Такое жилище целого рода называется «галуан», и название это, вероятно, имеет связь с названием «Галуза» в Малой Азии и мифического города осетин Галазан («Halesiun»)…
В осетинских аулах иногда несколько таких галуанов, иногда только один. В первых аулах между двумя галуанами иногда есть узкие улицы, с остальных же сторон они пристроены к другим галуанам или домам. Улицы кривые. Чем древнее аул, тем он выше; я видел галуаны, возвышающиеся по склону горы на 7, 8, даже 14 этажей. Замечательный такого рода галуан находится в ауле Гальата в Дигории. Издали каждый осетинский аул делает впечатление развалившейся крепости, – доказательство глубочайшей древности этих сооружений. В некоторых аулах, например, в деревне Виз на Ардоне и в Дигории, я старался снять планы таких построек, чтобы приблизительно рассчитать время их основания. По расчету этому выходило иногда баснословное число лет…»
Описание абхазского жилища первой половины XIX века оставил Ф. Ф. Торнау: «…Живут обыкновенно в хижинах, крытых соломою или камышом, которых плетневые стены плотно замазаны глиной, перемешанной с рубленою соломой. В каждой хижине по одной комнате, получающей свет через двери, растворенные настежь летом и зимою. Около стены возле дверей сделано полукруглое или четвероугольное углубление в земле для огня, над которым привешена высокая труба из плетня же, обмазанного глиною. По другую сторону очага, в почетном углу, находится небольшое окно без стекла, плотно запираемое ставнею и служащее более для наблюдения за тем, что происходит на дворе, чем для освещения внутренности хижины. У горцев каждый имеет свою особую хижину: хозяин, его жены, взрослые дети… Для гостей определена кунацкая – совершенно пустая комната, убранная только по стенам рядом деревянных гвоздей для развешивания оружия и конской сбруи. Сидят и спят в ней на земле, на камышовых циновках, на коврах, подушках и тюфяках, составляющих у гостеприимного черкеса самую значительную и самую роскошную часть его домашних принадлежностей. В кунацкой всегда есть, кроме того, медный кувшин с тазом для умывания и намазлык, шкурка от дикой козы или небольшой коврик, для совершения молитвы. Кушанье подают на низких круглых столиках. Весьма немногие знатные и богатые горцы строят рубленые деревянные дома. Микимбай имел такой дом, и по этой причине слыл очень богатым человеком. Дом этот, занятый его семейством, был в два этажа, с окнами, затянутыми пузырем, между которым кое-где проглядывало небольшое стеклышко, добытое от русских…»
От горской архитектуры резко отличались жилища степных ногайцев. Исследователь М.-Р. Ибрагимов писал: «Характерным типом поселения ногайцев в конце XIX в. были кочевые аулы, которые подразделялись на весенне-летние, летне-осенние (яйлак и язлав) и зимние (къыслав); при этом зимники постепенно превращались в оседлые постоянные поселения (юрт, аул, шахар, къала). По традиции ногайцы в первый месяц весны начинали свое движение со скотом на северо-запад и северо-восток. Перед началом весенней перекочевки в каждой юрте приготовляли праздничное кушанье, готовили кумыс, резали скот и устраивали празднество: наездники соревновались в джигитовке, состязались борцы и силачи, певцы и музыканты. Во время перекочевки на летние пастбища образовывали весенне-летние аулы, которые располагались рядом с реками или колодцами. По истощении пастбищ аул перекочевывал на другое место. Аулы родственников располагались по соседству. В октябре-ноябре ногайцы собирались на зимних стоянках, где строились турлучные или саманные дома. Вблизи от зимних поселений располагались поля, где сеяли просо, овес, ячмень, пшеницу, выращивали бахчевые культуры…
Традиционные жилища – кибитка (юрта) и дом (уьй), которые приспособлены соответственно к кочевому и оседлому образу жизни…
Ногайская юрта – большая (термэ) и малая, переносная (отав) – представляла собой типичную для кочевых народов кибитку круглой в плане формы. Термэ, в отличие от отав, была сборно-разборной, а ее каркас состоял из складных решеток, изготовленных из ореховых жердей. Количеством решеток определялся размер юрты. У богатых ногайцев встречалась 12-решетчатая юрта, у бедных – 5-8-решетчатая. Собрав решетки в круг с помощью деревянных жердей, в центре устанавливали деревянный свод, который служил верхом юрты. Сверх круга крепили полукруглое решетчатое навершие, служившее одновременно окном и дымоходом. Дверь из одной или двух створок, крепившихся на шарнирах и украшенных резьбой, с выходом на юг, открывалась наружу, зимой утеплялась войлоком. Снаружи каркас юрты обтягивался войлоком, крепившимся посередине остова тканым шерстяным поясом или кожаным ремнем. Богатые накрывали юрту в несколько слоев белым войлоком, бедняки – серым. Внутри юрты стены обтягивали камышовыми циновками, а богатые и коврами. Пол устилали войлоком и коврами. Устройство юрты-отав в деталях напоминало юрту-термэ. Во 2-й половине XIX в. юрта-отав использовалась только как свадебная юрта молодоженов; она украшалась специально изготовленным войлоком. Оседлые ногайцы жили в полуземлянках (ерме къазы) и наземных турлучных и саманных домах с пологой двускатной крышей.
Дом имел кухню-сени (аятюй) и спальни (ичюй); по мере женитьбы к дому пристраивали новые комнаты. Для обогрева юрты в холодное время и приготовления пищи использовали открытый очаг; здесь же стоял треножник. В стационарных жилищах были пристенные камины; в начале XX в. появляются железные печи. Внутри юрты почетной считалась северная сторона; по правую сторону от почетного места (тоьр) располагались мужчины, по левую – женщины. В комнатах также имелась почетная сторона (такътабет), где устраивались глинобитные возвышения – лежанки высотой до 50 см, на которых раскладывали войлоки или ков¬ры; днем отдыхали, ночью спали. Тут же стоял сундук, на который днем укладывали постель. Имелась специальная комната для гостей (къонакъ уьй); у степных ногайцев в период перехода к оседлости сохранялась юрта, используемая как кунацкая». На протяжении XIX века архитектура жилищ народов Северного Кавказа претерпела значительные изменения. В связи с перемещением части горцев на равнину появились новые типы поселений, большие по размерам, с правильной планировкой улиц. Горцы и в этих аулах расселялись по родам. Вместе с тем сохранялся и хуторской тип – небольшие поселки по 6-7 дворов, как правило однофамильные, состоявшие из родственников. Такой тип встречался на Восточном и Западном Кавказе, в Закубанье и на Черноморском побережье, где порой поселения состояли из 1-2 дворов, расположенных вдоль горных речек на значительном удалении друг от друга. В лесистых предгорьях также сохранялся хуторской тип поселения, что было связано с использованием лесных полян.
Изменился и характер жилища. Усадьбы на новых местах, особенно на равнине, стали просторнее. В горах по-прежнему преобладал традиционный тип, но и там перестали возводить башни, малоудобные для жизни, а строили обычные горские дома, стены которых в зависимости от наличия строительных материалов складывали из камня, бревен или делали из плетня. Одновременно однокамерные жилища большой патриархальной семьи заменялись многокамерными. Для новой семьи брата или сына возводили второй этаж или к дому пристраивали дополнительные жилые помещения. В других случаях большой дом делился на 2-3 комнаты со своими очагами. Дом для молодоженов традиционно строили всем обществом, и делали это очень быстро. К середине века наибольшее распространение в горной зоне края имели двухэтажные, двух– и трехкамерные жилища с плоской крышей; в ряде районов Осетии, Ингушетии и Чечни сооружались многоэтажные постройки в виде домов-крепостей; в Карачае же преобладали срубные дома.
В равнинной и предгорной зонах Северного Кавказа под влиянием городской архитектуры и русской строительной техники у богатых горцев появился квадратный деревянный дом с несколькими смежными комнатами со световыми выходами в сени. Сооружались коридор и прихожая; место очага и камина заняла печка. Двери крепились к дверной коробке с помощью петель; окна стеклили; земляные полы сменили полы деревянные. Большое распространение получил также длинный прямоугольный дом; в нем каждая семейная пара имела свою комнату с отдельным входом. Наряду с этим в степных районах бытовало еще двухкамерное турлучное жилье, а у адыгов – круглое плетеное однокамерное жилище, постепенно заменявшееся прямоугольным домом. Для женатых сыновей адыги строили отдельные однокамерные дома на территории общей усадьбы.
У имущих горцев обстановка и внутреннее убранство жилья изменялись за счет покупных предметов (стулья, столы, шкафы, сундуки и т. д.) фабричного производства. Увеличивалось количество привозной домашней утвари; самовары, железная, медная, стеклянная и фаянсовая посуда проникали в самые отдаленные горные районы.