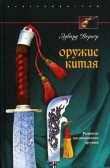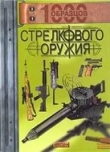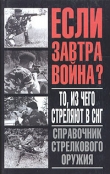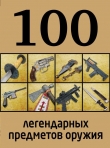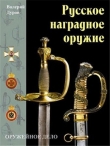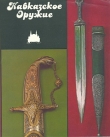Текст книги "Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке"
Автор книги: Шапи Казиев
Соавторы: Игорь Карпеев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Новые законы
После окончания Кавказской войны правительство Российской империи восстановило судопроизводство по адату и шариату. В положении об управлении Дагестанской областью от 5 апреля 1860 года было записано: «Судопроизводство отправляется по адату и шариату и по особым правилам, постепенно составляемым, на основании опыта и развивающейся в них потребности». При этом начальникам округов вменялось в обязанность «не приводить в исполнение решений по шариату и адату, которые противоречат общему духу наших законов и исключениям, допущенным для магометан, или не соответствуют видам правительства, а представлять такие дела на усмотрение начальства».
Для рассмотрения дел в каждом округе области создавались суды, в которые входили кадий (для разбора дел по шариату) и депутаты (для решения дел по адату). Депутаты избирались по одному от каждого наибства, входившего в состав округа. Председательствовал в суде окружной начальник, чье мнение в случае равенства голосов было решающим.
По адату допускалось решать дела об убийстве и кровомщении, нанесении ран и увечий, по ссорам, дракам, похищению и изнасилованию женщин, разврату, воровству и грабежу (если они не были связаны с угрозой для жизни и здоровья пострадавшего), поджогам, потравам и порчам чужого имущества, земельным спорам и др.
Дела по несогласию между мужем и женою, родителями и детьми, по завещаниям, спорам об имуществе, принадлежащем мечетям, и т. п. разбирались и решались по шариату. За измену, восстание или «явное неповиновение начальству», разбой и хищение казенного имущества жители Дагестанской области предавались суду по военно-уголовным законам.
Аналогичное положение существовало в Терской и Кубанской областях, Закатальском округе до упразднения в 70-80-х годах XIX века системы военно-народного управления. В конце века большинство дел на Северном Кавказе уже рассматривалось в обычных уголовных и гражданских судах. Мелкие дела (о ссорах, драках без поранения, потравах полей, нарушении общественных постановлений и др.) были оставлены в ведении сельских старшин и старейшин. Но решения по ним не считались окончательными. В 60– 80-х годах XIX века они поверялись и утверждались, если недовольная сторона приносила жалобу, в окружных (так называемых «горских словесных») судах, а впоследствии – в уездных и окружных уголовно-гражданских судах.
Абреки
Понятие «абрек» («абыраег» – у осетин, «хеджрет» – у адыгов) в разное время имело на Кавказе разное значение. К примеру, абреками называли себя ватаги разбойников, пытавшихся захватить власть в столице Аварского ханства в период безвластия, когда в результате кровной мести был убит 2-й имам Гамзат-бек, уничтоживший перед этим ханскую власть. Однако Шамиль быстро положил конец их бесчинствам.
Абреками называли и горских «Робин Гудов», заступников простого народа, боровшихся против горской знати. Многие уходили в абреки по трагическому стечению обстоятельств.
В песне поется:
Он был обычный человек,
Теперь кричат ему: – Абрек!
Любимую спасая,
Убил он негодяя.
Исполнил он мужчины долг,
Теперь скитается, как волк.
Поступок был прекрасен.
Но стал он всем опасен.
Нет ничего – осталась честь. А след взяла слепая месть. И нет нигде покоя, Как вечному изгою…
Тема абречества нашла отражение не только в народном творчестве, в былинных песнях и сказаниях, но и в произведениях русских классиков. Вспомним хотя бы «Хаджи-Абрека» М. Ю. Лермонтова.
Л. Н. Толстой в начале 1850-х годов писал: «Слово абрек так употребительно на Кавказе, что почти получило право народности в русском языке; но мы употребляем его совсем не в том значении, какое имеет оно между туземцами. Таким образом, довольно трудно объяснить настоящее значение этого слова. Русские называют абреками всех горцев, в особенности тех, которые ходят на разбой в наши границы. Понятие абрек у нас часто тождественно со словами: молодец, джигит; иногда абреком называют бобыля, бездомного человека, готового решиться на все. Но между туземцами на Кавказе слово абрек имеет более тесное, более определенное значение. Мирный татарин никогда не назовет абреком горца: по его понятию, абрек только тот, кто бежал в горы из мирного аула, – и, обратно, горцы, и даже мирные, называют абреками всех тех, которые переселяются из гор в мирные аулы. Если татарин сделал в своем ауле какое-нибудь преступление – убийство или воровство, за которое боится преследования, – он бежит из своего аула в другой и скрывается там: тогда его называют абреком, и прозвище это остается при нем до тех пор, пока, какими бы то ни было средствами, не помирится он со своими преследователями и не воротится на родимое место. Часто князья держат таких абреков у себя, защищая их от преследования, а зато абрек усердно служит князю. Обыкновенно это бывают самые верные люди, готовые исполнять все, что прикажет князь. Такого рода сделка не имеет ничего предосудительного; напротив, чем более при князе абреков – а они большею частию канлы, то есть убийцы, – тем большим уважением пользуется он, как человек сильный».
Царское командование величало абреками немирных горцев, совершавших набеги в период Кавказской войны. Имелись в виду горцы, не входившие в Имамат, но иногда в абреки записывали и Хаджи-Мурата за его дерзкие походы, и других отчаянных горских удальцов.
Генерал Граббе, который после штурма Ахульго в 1939 году пытался ввести в горах новую систему управления, требовал «не давать убежище абрекам и мюридам». Как говорилось выше, после похода Шамиля в Кабарду в 1846 году абреками были объявлены ушедшие с ним в Чечню кабардинские князья и дворяне. Совсем другое значение приобрело понятие «абрек» после Кавказской войны. Племена Западного Кавказа, не желавшие покидать родину и переселяться с гор на равнины или даже в Турцию, пытались отстоять свою свободу с оружием в руках. Но, теснимые явно превосходящими силами, вынуждены были прекратить сопротивление. Горцы, не желавшие смиряться с такой участью, уходили в абреки. Они скрывались в горах и лесах, вели партизанский образ жизни и доставляли много неприятностей новым властям. Их дерзкие налеты на комендатуры, обозы, почты, угоны скота и другие акции находили поддержку у местного населения, считавшего их народными заступниками.
Против абреков посылались целые экспедиции, но абреческое движение не утихало. К нему присоединялись даже ущемленные новыми властями дворяне, бежавшие из заключения мюриды и многие другие. Движение пополнялось и отчаявшимися добиться справедливости от новых властей. В абреки уходили целыми семьями и даже аулами. Когда карательные экспедиции не помогали, новые власти шли на переговоры с абреками.
В результате абречество стало не только партизанским, но и политическим движением, олицетворявшим народный протест против новых порядков, бесчинств царской администрации и ее союзников из местной аристократии. Особенный размах абреческое движение приобрело в Чечне, где оно развивалось с 20-х годов XIX века.
3. Шахбиев пишет в своей книге: «Начало горному абречеству положил Бейбулат Таймиев. Абреков всегда отличали беззаветный героизм и решительность в действиях, а также поразительная конспирация. Почти все абреки были защитниками простых людей: они помогали им в беде, наказывали их обидчиков – богачей. Самыми выдающимися абреками в середине XIX века были Атабай и Вара, сверхотважные и сверхрешительные люди, навсегда оставшиеся в истории освободительной борьбы чеченского народа…»
В других источниках упоминаются также известные абреки Наба, Геха, Мехти, Успан, Эска и др.
VI. ДАРЫ КАВКАЗСКОЙ ПРИРОДЫ
Земли горцев
В описываемое время у всех народов Северного Кавказа значительная часть земель находилась в собственности феодалов. На равнинах это были в основном пахотная земля и отчасти зимние пастбища. В 40-х годах XIX века в Кабарде из 660 тыс. десятин земли более половины принадлежало княжеским и дворянским фамилиям; в Балкарии 13 феодальных семейств имели в своей собственности 1/3 всех пахотных и сенокосных земель. 54 фамилии карачаевских биев владели 26 тыс. десятин лучшей земли; 10 князей Засулакской Кумы-кии – более 400 тыс. десятин. Крупным владельцем недвижимости был шамхал Тарковский: он имел не только пахотные и пастбищные земли, но и рыбные промыслы, соляные озера, нефтяные колодцы, приносившие немалый доход. Уцмии Кайтага владели большим количеством пашни (Терекемийский и другие участки) и 13 зимними пастбищами – кутанами. В собственности аварских ханов было 8 тыс. десятин земли, в том числе 2,5 тыс. десятин пастбищ и сенокосов. Хан Казикумухский кроме пахотных участков владел 41 пастбищной горой.
Крупная феодальная собственность на землю существовала в двух видах – коллективно-родственной (фамильной) и индивидуальной. На протяжении XIX века шел процесс перехода от первой ко второй, в результате чего уже к середине века индивидуальная собственность стала преобладающей. Царское правительство делало значительные земельные пожалования местным князьям и дворянам, что укрепляло крупное феодальное землевладение на Северном Кавказе. Так, князья Бековичи-Черкасские получили в 1824 году грамоту, узаконившую их наследственные права на землю в Малой Кабарде в размере 100 тыс. десятин. Осетинские владельцы Тугановы и Дударовы получили в 1837 году 25,5 тыс. десятин земли. В Кюринском ханстве с 1812 по 1860-е годы бекам было роздано 15 селений, жители которых до этого не отбывали повинностей и ничего не платили, кроме закята. Феодалы «сажали» на землю своих крепостных, сдавали пахотные и пастбищные угодья в аренду крестьянам-общинникам, взимая за это денежную, продуктовую или отработочную ренту. Последняя часто маскировалась под общинную взаимопомощь, особенно если феодал был номинально членом общины данного селения. В первой половине XIX века, например, ежегодный доход шамхала Тарковского только с пастбищ составлял 43,5 тыс. руб., а Казикумухского хана – 2,5 тыс. овец. Особой формой феодального землевладения была вакуфная собственность на землю, то есть пожертвования со стороны верующих, которые передавали в собственность мечетей пахотные, сенокосные и пастбищные земли. Вакуфная собственность могла быть как полной, так и частичной. В первом случае духовенство само хозяйствовало на земле или сдавало ее в аренду; во втором землей распоряжался наследник дарителя, внося в мечеть определенную завещателем долю урожая или продуктов животноводства.
Рядом с крупными феодальными землевладениями соседствовали так называемые мюльки – земельные участки, находившиеся в собственности крестьян. Крестьянская индивидуальная и семейная собственность преобладала в предгорных и горных районах Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осетии, Карачая и Черкессии. Согласно адату, тот, кто привел никому ранее не принадлежавший участок земли в хозяйственное состояние (очистил от кустарника, леса, камней, выровнял, террасировал и т. д.), становился его владельцем. Поэтому индивидуально-семейная собственность в первую очередь распространялась на пахотные и покосные участки. За владельцами признавалось право продажи, передачи и дарения мюлька.
Преимуществом в приобретении участка пользовались родственники, соседи и односельчане.
Большую роль в экономической жизни горцев играла общинная собственность. Ее предметом могли быть все категории хозяйственно используемых земель: пахотные участки, сенокосы, пастбища, леса, иногда – озера для ловли рыбы и добычи соли. В ряде мест пахотные и сенокосные земли подлежали периодическому переделу между общинниками, находясь в их индивидуальном пользовании. Иногда участки использовались совместно несколькими общинами и даже феодальными владетелями. Так, равнина у села Бургимак-Махи считалась собственностью 8 даргинских общин. Пастбищной горой шамхала Тарковского 3 месяца в году пользовалась губденская сельская община, а остальное время – Акушинский, Цудахарский, Мекегинский и другие союзы сельских обществ.
В горных районах Дагестана, где каждый клочок земли был на учете, общинное регулирование землепользования было особенно жестким. Вокруг селений располагался так называемый «мегъ» – единый комплекс пашен, садов, сенокосов, ирригационных сетей и летних времянок. Территория «мегь» делилась на части естественными (обрывы, ручьи) или искусственными (дороги, ирригационные каналы, рощи и т. п.) рубежами. Каждая часть имела свою природно-ландшафтную топонимику. Например, в аварском селе Араканы было свыше 10 таких частей с весьма характерными названиями: «TIaca къва-рилъи» (Верхние теснины), «Салда гохТохъ» (У песчаных горок), «Гъоркьа лъарахъ» (У нижней речки), «Этенил гьабихъ» (У мельницы Этена), «Квещал Наразда» (У скверных кочек), «Хъах1аб нухтГа» (У белой дороги) и др. Земельные участки находились в частной собственности с правом полного распоряжения в пределах джамаата. Однако самовольное расширение пахотных угодий за счет общинных земель пресекалось, о чем свидетельствует следующее постановление: «Кто распахал хотя бы одну дорогу или борозду общественной земли на солнечной стороне, с того взыскивается в пользу джамаата 2 овцы, а кто вспашет с теневой стороны на полсаха (мера веса, примерно 1,5 кг. – Лет.) посева зерна, с того взыскивается в пользу общества одна овца». В адатах Гидатлинского общества говорилось: «Если кто-нибудь вспахал землю на пустыре, который не подлежит раздаче людям в качестве пахотной земли, присвоил ее в качестве сенокоса или луга или частично прирезал к своей земле, то с него взыскивается штраф в размере двух котлов весом в 4 ратала натурой, но не стоимостью». Дополнительный участок общинной земли можно было получить только по решению джамаата за заслуги перед обществом, при создании семьи и т. п.
Историк М. Шигабудинов в книге «Аул Обода» приводит предание о том, как хан сумел отнять у ободинского общества спорные земли. Решено было разобрать дело по шариату. От каждой стороны были выбраны присягатели. Но хитрый представитель хана явился в обуви, в которую заранее, еще в Хунзахе, была насыпана земля. Он присягнул на Коране и заявил, что земля, на которой он стоит, принадлежит хану. Формально он стоял на хунзахской земле, которая была у него в чарыках. Судьи не могли не поверить такой клятве и, не зная, в чем заключается подвох, присудили спорную землю хану.
Необходимость сообща противостоять силам природы приводила к тому, что даже сидевшие на феодальных землях крестьяне порой пользовались ими на общинном праве. Феодал, формально являвшийся членом общины, выбирал себе лучший участок. Остальные земли распределялись по жребию, причем преимущество получали зажиточные крестьяне, способные выставить так называемый «полный плуг«(8 пар быков с необходимой прислугой). Они селились рядом с владельцем деревни. Прочие получали участки вскладчину (хозяин двух быков – один пай, четырех быков – два пая и т. д.). Такая система была распространена в Кабарде, Адыго-Черкесии и равнинных районах Восточного Кавказа.
В горах Ингушетии и Чечни, по свидетельству А. Л. Зиссермана, «земля не считалась частной собственностью, она принадлежала всякому, кто хотел ею пользоваться. С течением времени только явились некоторые разграничения между аулами, но владение осталось и поныне общинным. Каждый год, когда настает время пахать, все однотохумцы собираются на свои поля и делят их на столько равных дач, сколько в тохуме семей, и затем жребий решает, кому какой участок пахать, и в течение года он уже считался собственностью. Леса же составляли общую народную собственность; каждый пришелец, новый поселенец имел право вырубить участок леса, поселиться на нем и тем самым становился собственником».
Освоение новых земель, террасирование полей, строительство дорог и ирригационных сооружений было делом всей общины. Так, в селе Аракани в начале XIX века по решению джамаата был отведен под террасные поля склон протяженностью около 3 км и высотой до 100 м. Ниже дороги и главного оросительного канала на всю длину склона было проложено до 70 ровных горизонтальных террасных лент. Их строили по заранее продуманному плану при полной кооперации труда. После жеребьевки началось освоение наделов под сады, пашни и сенокосы. Около села Игали был расчищен конусообразный вынос ближайшего ущелья, именуемый «Буцрахъ»; камни собраны и уложены в стены высотой 2-3 м (так называемые укрепленные поля); территория распланирована под пашни и сады.
Прогон скота и провоз товаров разрешался только по общинным дорогам. Перемещение на конкретное поле происходило по бровкам соседних террасных полей так, чтобы не образовывались тропы. Единовременный выход населения на полевые работы и сбор урожая позволяли экономить драгоценную землю, которая в противном случае была бы поглощена частными дорогами. В селе Араканы, например, за 5 дней до сбора винограда глашатай объявлял: «Те, по чьему саду проходит дорога, пусть уберут кукурузу!» («Чияс нух бугеб ахикьа цъоросаролъ нахъе босе!») Не убравшие вовремя свой урожай не могли предъявлять претензий за возможную потраву посевов.
Общинной считалась и вода; частное водовладение в горах не было известно. Сооружение, очистка и ремонт каналов проводились сообща по решению старейшин. Возведение стен и акведуков, их ремонт поручались специальным мастерам. Горцы-земледельцы, несмотря на пересеченный ландшафт, умели перебрасывать воду на любые участки, даже находившиеся ниже точки отвода. Этнограф П. П. Надеждин в своей работе «Кавказский край: Природа и люди» писал: «Нередко туземцы ведут воду с одной высоты на другую, даже через ущелья, в деревянных желобах, почти висящих в воздухе».Не вышедших на ремонт и прокладку ирригационных сооружений штрафовали. Если кому-то из жителей необходимо было в этот период покинуть селение, он должен был оставить за себя человека, который выполнил бы его работу.
От борозды до урожая
На Западном Кавказе наличие плодородных земель и благоприятные климатические условия позволяли заниматься земледелием в широких масштабах. Земледелие было развито в Сочинской, Цемесской, Суджукской и Адагумской долинах, в бассейнах рек Псекупса и Пшиша, на левобережьях Кубани и Лабы. Даже у кубанских ногайцев в первой половине XIX века шел интенсивный процесс перехода от кочевого скотоводческого хозяйства к оседлому скотоводческо-земледельческому. В земледелии использовались одно-, двух– и трехпольная, а также залежно-переложная системы. При последней, после нескольких лет обработки, землю оставляли отдыхать, перенося пахоту на новые целинные или залежные земли. Преобладающими сельскохозяйственными культурами на Западном Кавказе были озимая пшеница, кукуруза, ячмень и просо. Выращивали много табака и чая. Большим подспорьем в хозяйстве были огородничество и садоводство. Особенно славились фруктами и ягодами сады в ущельях рек Аше, Кудепсты, Хосты, Шахе, в урочище Гостагакей, округе Вардане и др. У адыгов широко применялся способ разведения плодовых пород путем прививки дикорастущих деревьев черенками культурных плодовых растений.
Жители Черноморского побережья занимались виноградарством. Виноград выращивали в Абхазии, в долине Псезуапсе, округах Вардане, Сочи и других местах. «Хлебопашество, -писал Ф. Ф. Торнау, – находится в Абхазии, как и во всех горах, в самом первобытном состоянии и ограничивается небольшим посевом гомми (проса), кукурузы, ячменя, фасоли и табаку. Пшеницы сеют очень мало. Русские научили абхазцев разводить капусту, картофель и некоторые другие овощи. Абхазия чрезвычайно богата виноградом и разными фруктами, в особенности грушами, сливами и персиками, растущими без всякого ухода…»
В статье «Абхазское виноделие» С. Бшуаа пишет: «В национальном нартском эпосе… имеется сказание «Великий кувшин», повествующее о том, что виноградники нартов – предков сегодняшних абхазов, были обширны, славились обильными урожаями. Виноделием занимался человек по имени Сит, знавший свое дело как никто другой и хранивший вино в глиняных кувшинах. По обе стороны Кавказского хребта, пожалуй, нет места, где бы люди не находили в земле остатки нартских кувшинов, очень удобных для хранения вина: со временем оно становилось ароматным, точно земляника, долго сохраняло свежесть и вкус винограда. Кувшины были разной величины… Самым крупным, «великим» кувшином считался Вадзамакят, вмещавший содержимое шестисот обычных нартских кувшинов, употребляемых для воды… Как гласит далее эпос, Вадзамакят обладал особыми свойствами. В нем, например, постоянно содержались мелко нарезанные куски красной змеи, помогавшие вину делать еще более могучим любого нарта. Кроме того, вино в кувшине Вадзамакят никогда не кончалось. И когда нарты стали делить имущество между собой, Вадзамакят оказался причиной горячих споров – все хотели обладать этим священным кувшином. Наконец Сасрыква (сотый брат нартов, рожденный всемогущей матерью Сатаней-Гуащой неестественным образом – высеканием из скалы) предложил: «Пусть каждый из нас расскажет о своих подвигах. Самый удивительный подвиг заставит заклокотать вино в Вадзамакяте. Тому и достанется кувшин». Победил работник нартов Бжейкуа-Бжашла (Получерный-Полуседой), ибо не успел он закончить свою речь, как заклокотало вино в кувшине. Тогда разгневанный Сасрыква вытащил из земли Вадзамакят и, сказав, что кувшин повинен в раздорах нартов, бросил его на землю. И «великий кувшин» разбился вдребезги. «На дне Вадзамакята оставались виноградные косточки. Эти косточки рассыпались по земле Алены, и выросли из них виноградные лозы. И назывались они нартскими… Не было в мире вина лучшего, чем вино, добываемое из нартских лоз, но, увы! – выродился этот виноград».
До сих пор известны десятки (до 60) названий абхазских сортов винограда. Среди них черные, красные, темно-фиолетовые и белые сорта.
…С древних времен виноградники занимают основную часть усадьбы абхаза. Саженцы винограда сажают у подножия деревьев, они растут, поднимаясь по стволу все выше и выше. Как пишет Ш. Инал-Ипа, «состоятельные жители специально выращивали огороженные ольховые рощицы на своих участках для виноградников под названием «акуаца». Тот виноград, который вызрел на дереве, как правило, обладает высокими вкусовыми качествами и необычайным ароматом, ибо на той высоте практически нет тени, свободен доступ солнечным лучам и потому созревание идет гораздо эффективнее. Однако нелегко ухаживать за такими виноградниками. Еще задолго до наступления весны, или, как говорят абхазы, до наполнения ствола и ветвей лозы водой (адзахуа адзы алалаандза) освобождают виноградную лозу и само дерево от сухих и лишних веток. Одновременно корень лозы удобряют навозом…Виноград обычно собирают в октябре-ноябре, иногда и в декабре. «По словам стариков, наилучшие вина получались от винограда, собиравшегося с наступлением холодов, уже после выпадения первого снега», – указывает Ш. Инал-Ипа…Сбором винограда на деревьях занимаются мужчины всех возрастов и в том числе старики…Кисти винограда срывают и укладывают в конусообразную с острым концом корзину (амцышв), сплетенную из прутьев орешника или других твердых древесных пород. К ручке прикреплен крючок, который позволяет вешать корзину на ветку; имеется также длинная веревка, по которой спускается и поднимается корзина…Второй человек подхватывает внизу и пересыпает виноград в более крупную цилиндрическую и сплетенную из тех же материалов корзину. Собранный виноград доставляют в специальное помещение с необходимыми средствами виноделия. В помещении приступают к выжиманию виноградного сока.
…Наиболее древний и примитивный способ получения сока, сохранившийся до второй половины XIX века в Абхазии, впервые описал Ф. Ф. Торнау в своих воспоминаниях, вышедших в 1864 году: «Жители делают яму в земле, обкладывают ее глиною и потом обжигают, сколько нужно, разложив в ней огонь. Вытоптав виноград ногами в этой яме, из нее вычерпывают вино, когда сок перебродил, и хранят его в глиняных кувшинах, зарытых в земле».
Абхазы, не разделяя вина на десертные, сухие, полусухие, сладкие, полусладкие и крепленые, обычно различают лишь два его вида: «мужское» («ахаца-июы») и «женское» («ахвса риюы») вино. Первое более крепкое и горьковатое на вкус, о нем говорят «имеет силу» («амч амоуп»), второе напоминает сладкое или полусладкое вино».
На Центральном Кавказе производство сельскохозяйственных культур получило наибольшее развитие в Кабарде и равнинных регионах Осетии. В горных же районах Осетии, Балкарии и Карачае, где процент пахотной земли был ничтожен, земледелие носило подсобный характер. Горцы отвоевывали у природы каждый клочок земли, вырубая лес, очищая участки от кустарников и камней, удобряя и орошая свои небольшие поля-сабаны.
В середине XIX века в Кабарде насчитывалось несколько десятков крупных садов. В Осетии садоводство было развито в районе Алагира. В соседней Ингушетии пахотных земель было также немного – около 12%. Многие участки в горах были созданы из наносной плодородной почвы, и их приходилось ежегодно поддерживать. Даже в урожайные годы своего хлеба хватало максимум на полгода. В Ингушетии развитие получили садоводство и огородничество, в том числе разведение бахчевых: арбузов, дынь, тыкв.
Прогрессировало, несмотря на военные действия, сельское хозяйство в Чечне и предгорьях Дагестана. На равнине и на высотах до 1000 м над уровнем моря сеяли озимую пшеницу, кукурузу и просо; выше – рожь и ячмень. Горцы выводили скороспелые, засухо– и морозоустойчивые сорта пшеницы. «Повсюду, – писал в 1839 году начальник войск левого фланга Кавказской линии генерал-майор А. П. Пулло, – расчищались леса, и на огромных протяжениях были лишь засеянные поля, орошаемые искусными каналами». Чеченский хлеб шел не только на внутреннее потребление, но и вывозился на продажу в Нагорный Дагестан, Кизляр и другие регионы.
В долине реки Терек разводили бахчевые культуры. Выращивали и рис. Его посевы неуклонно расширялись, чему способствовала сеть оросительных каналов. Так, если в 1811 году было засеяно 501 и собрано 4840 пудов риса, то в 1835-м, соответственно, 14 850 и 40 тыс. пудов. В горных районах земледелие носило вспомогательный характер. Князь И. Орбелиани, проведший в 1842 году восемь месяцев в плену у горцев, писал: «Земледелие в Чечне довольно в хорошем, но в горах – в жалком положении… Есть важные тому причины: в горах мало земли, удобной к возделыванию, и та дурного свойства; в ней мало растительных частей, в основном она состоит из извести и песку, а потому должна быть унавоживаема; ограниченность же скотоводства ограничивает земледелие». Сходной была картина в горных районах Дагестана. В повести «Кавказские богатыри» В. И. Немирович-Данченко писал: «…Тут каждую пядень земли, годную для посева, надо отвоевать у камня. В горах не только у койсубулинцев, но и везде, даже под сравнительно богатыми Сайтами, можно видеть, как лезгины с торбою, привязанною к поясу, с двулапым крючком, насажденным на длинную палку, ищут трещины, чтобы вонзить туда железные когти. И найдя, они подымаются на полшеста, вбивают гвоздь между камнями над бездной, становятся на него и забрасывают дальше когти, пока не доцарапаются до нескольких шагов земли на уступе, где можно посеять горсточку пшеницы… Пользовались карнизами гор, и, нарочно изрыв их террасами, горцы свозили туда из долин плодоносную землю на ослах. Сколько раз нужно было повторять эту экскурсию, чтобы образовать узкие полоски земли под посев! Потом сверху, пользуясь каким-нибудь ручьем, проводилась вода по всем террасам, так что ни одна пядень земли не оставалась неорошенной. Затем уже сеялся хлеб, сверху вниз. Так же сверху вниз производилась и уборка жатвы. Такие обработанные террасы и теперь часто встречаются там, где горцы остались на своих местах; остальные представляют мерзость запустения, от которой делается тяжело на душе».
И. Орбелиани отмечал: «В некоторых только местах, на более отлогих покатостях, встречаются пастбища, сенокосы или засеянные ячменем, полбою, кукурузою и просом поля; но и те без напускной воды не принесли бы земледельцу никаких плодов. Пропорция урожайной земли к бесплодной весьма незначительная… Одни бедствия могли заставить людей поселиться в горах Нагорного Дагестана. Каких долголетних трудов стоит обрабатывание куска скалы или полумертвой почвы, чтобы обеспечить себя только от голода! И самый богатый горец не в состоянии прокормить всем запасом своим одного русского человека».
Привыкший к богатой природе и мягкому климату Грузии князь несколько сгустил краски, но в целом верно подметил трудности сельскохозяйственного производства в Дагестане. Несмотря на огромный труд, затрачиваемый горцами, урожаи зерновых были невелики: собирали лишь в два-три раза больше, чем тратили на посев. Бывали и вовсе неурожайные годы, когда не собирали даже посевных семян. Недород конца 30-х годов XIX века вызвал голод и массовые восстания в Черкессии. Пахотным работам, закладывавшим основу будущего урожая, придавалось особенно большое значение.
А. Омаров описывал, как происходил сев: «Отмерили две сабы пшеницы и всыпали их в мешок; накормили быков, а потом пахарь надел через плечо махнику (сумку из невыделанной кожи, с ремнем, в эту сумку кладут разные мелочи, необходимые для пахаря), положил плуг на плечо, привязал мешок на спину осла и погнал быков и осла в поле. Отец и я тоже пошли на пашню. По дороге мы встречали жителей, также гнавших быков и несших свои плуги; встречные приветствовали отца обычными словами: «Да будет благополучие над вами, да благословит Бог ваши семена!» – на что получали в ответ то же самое. По прибытии на означенную пашню, пока пахарь запрягал быков в плуг, отец насыпал в подол своей чохи пшеницу и начал читать молитву; пахарь же, подняв обе руки к небу, говорил: «Аминь». По окончании молитвы отец начал бросать пшеницу правою рукою вдоль пашни, а пахарь исполнял свое дело по засеянному месту. Пашня была порядочно большая, около 320 кв. саж., то есть на ней засевали две сабы пшеницы (1,5 пуда). Спереди она отделялась от чужих земель маленькою покатостью в 1,5 сажени шириною, которая пролегала вдоль пашни и сберегалась для травы; по бокам и сзади – полосою невспаханной земли шириною в поларшина. По этой полосе местами торчали острые камни, составляющие в горах межи…»
Пахотные орудия народов Северного Кавказа были в общем похожи. Население равнинной части обрабатывало землю тяжелым передковым плугом, в который впрягали 3-4 пары волов. В горной части орудием вспашки служил легкий горский плуг, сделанный из дерева, но с железным лемехом. Вспашка получалась неглубокой, плуг рыхлил только верхний слой почвы, что было рационально в условиях тонкого плодородного слоя. Бороной служила волокуша, состоявшая из куста терновника или хвороста, зажатого между двумя досками. Чтобы хворост прижать к земле, на доску клали тяжелые камни или усаживали ребятишек, для которых это было веселым развлечением. Волокуша, как и плуг, прикреплялась к ярму, в которое впрягали быков. Пропалывали посевы особой лопаткообразной мотыгой или выдергивали сорняки вручную.