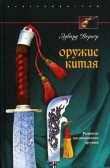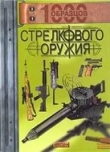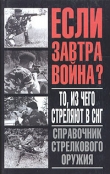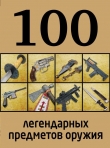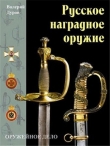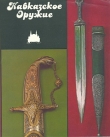Текст книги "Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке"
Автор книги: Шапи Казиев
Соавторы: Игорь Карпеев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Коровы, волы и буйволы
Свои особенности имело в регионе разведение крупного рогатого скота. Особое значение придавалось разведению молочного скота. Горец имел хотя бы 2-3 дойные коровы, чтобы обеспечить семью молоком и молочными продуктами. Однако ограниченность пастбищных и сенокосных угодий, сложность рельефа местности, продолжительность холодной и снежной зимы не позволяли даже состоятельным семьям иметь более 4-6 коров и 2 волов.
Если в первой половине XIX века в равнинной зоне Северного Кавказа преобладал мелкий рогатый скот, который было проще обеспечить кормами, то во второй половине, с переводом обширных пастбищных угодий под посевы зерновых, поголовье мелкого рогатого скота сократилось, и почти повсеместно стал преобладать крупный.
Адыгский просветитель Хан-Гирей писал: «Коровы их весьма обильны молоком; волы чрезвычайно полезны для черкес, которые все работы производят ими, потому что у них почти нет обыкновения впрягать лошадей».От него мы узнаем, что на равнинах адыги разводили кубано-черноморскую породу, быки и коровы которой были крупными, серой масти и имели большую продуктивность. Из кожи этих животных черкесы «делали обувь, а наездники – сбрую конскую» и пр. В горах же, по словам Хан-Гирея, этот скот «перерождался в мелкую породу». Б. А. Калоев, автор исследования «Скотоводство народов Северного Кавказа», считает, что речь в данном случае идет об особой адыгской породе крупного рогатого скота, более приспособленной для жизни в горах. Во второй половине XIX века, в связи с массовым переселением адыгов, эта порода стала быстро исчезать. Зато получила развитие смешанная порода, сочетавшая как продуктивность кубано-черноморского, так и высокую удойность, неприхотливость и устойчивость к эпидемическим заболеваниям адыгского скота.
В хозяйствах Кабарды крупный рогатый скот занимал ведущее положение. Этому способствовало обилие хороших пастбищных угодий (одни только Зольские летние пастбища могли прокормить сотни тысяч голов). Современники считали, что «Кабарда относительно развития крупного рогатого скота не имеет соперников среди всех иных местностей России».
В отличие от кабардинцев, балкарцы основное внимание уделяли разведению мелкого рогатого скота, который продавали в Грузию. Низкорослая балкарская порода коров давала 7-8 литров молока в сутки. Жителям Карачая пришлось вести упорную борьбу с эпизоотиями (инфекционными эпидемиями у животных). В результате, путем скрещивания черноморской и местной горной пород, им удалось вывести новый сорт крупного рогатого скота, устойчивый к заболеваниям чумой. Коровы этого вида давали 10-15 литров молока. «Хъаерасиаг галтае» (карачаевские волы) отличались огромной силой и охотно покупались как горцами, так и соседним казачьим населением. Когда кто-нибудь интересовался, отчего этот хозяин раньше всех завершил вспашку или другие работы, ему обычно отвечали, что это из-за карачаевских волов.
В горных районах Осетии крупного рогатого скота было мало из-за недостатка кормовой базы. Быков держали ровно столько, сколько требовалось для полевых работ.
Чиновники Кавказской администрации в 30-х годах XIX века отмечали, что осетинский «рогатый скот мал ростом, однако коровы дают хорошего молока иногда до 2/3 ведра». В связи с массовым переселением осетин с гор на равнину их стада увеличились и появились новые породы, в том числе привозные (швицкая, немецкая, серая степная).
Осетинский вол был хорошо приспособлен к местным условиям, мог пройти по самым крутым горным склонам.
Ограниченность пастбищных и покосных земель в Чечне и Ингушетии не давала возможности содержать большие стада крупного рогатого скота. В предгорьях и на равнине горскую породу часто скрещивали с ногайской или калмыкской. По свидетельствам современников, «от коровы при хороших условиях в окрестностях Назрани, Базоркино и др. можно накопить до 2 пудов масла, и нередко жители копят до пуда от одной коровы, не прекращая домашнего потребления части молочных продуктов».
Основной тягловой силой в Чечне и Ингушетии, как и в других районах Северного Кавказа, были волы; лошадь служила горцам лишь для верховой езды или перевозки тяжести вьюком. Волы выполняли в хозяйстве все виды работ, в том числе вспашку, которую в горах осуществляли одной парой, а на равнине, где был тяжелый плуг, несколькими парами волов. Горский крестьянин среднего достатка содержал 1-2, более состоятельный – 2-3 волов. Поэтому обработку земли, особенно на равнине, осуществляли путем супряги (совместной работы). По словам исследователя А. А. Калантара, в Чечне «полного плута со всем обзаведением не имеется ни у кого, даже полу плужники составляют редкое явление, их несколько человек в ауле; для составления плуга складываются 3-6 хозяев».
У ногайцев, ведших полукочевой образ жизни, крупный рогатый скот был одним из главных средств к существованию. Б. А. Калоев цитирует источник 1812 года, согласно которому «промысел ногайский состоит по большей части в разведении рогатого скота, они очень богаты… Получают от оного масла более 200 тыс. пудов, меняют его армянам, у них торгующим, на необходимые для них вещи, как то: холст, сукно, хлопчатую бумагу…; вывозят и сами масло и другие съестные припасы в города». Большое распространение имели ногайские волы, широко использовавшиеся как при пахоте, так и в извозе. По словам того же А. А. Калантара, целые караваны, «составленные из ногайских волов, постоянно встречаются по дороге от Темир-Хан-Шуры к Петровску и Дербенту».
Буйволы, распространившиеся из Закавказья и Турции, использовались как тягловая сила (один буйвол заменял двух быков) и для производства молочных продуктов (молоко буйвола имело высокую, до 8%, жирность и целиком шло для переработки на масло). По свидетельству Хан-Гирея, буйволов содержали только богатые горцы – князья, дворяне и первостепенные уздени. «От буйволов, – писал он, – много получается молока, особенного и приятного вкуса; мясо же их нехорошо». В ряде мест Северного Кавказа, например, на чеченской равнине, вспашку производили исключительно буйволами. Для этой цели в селах Гудермес, Курчалой и Урус-Мартан во второй половине века вывели специальную породу буйволов. Покупать их приезжали из Ингушетии, Осетии и Кабарды.
Разводили буйволов и в Дагестане. Кожа их шла на изготовление традиционной горской обуви; из рогов делали сосуды для напитков, газыри, рукоятки кинжалов и шашек, украшения мужских поясов.
Ослы и верблюды
Во всех регионах Северного Кавказа ослы и мулы использовались для перевозки грузов. Осел мог нести в два раза больше тяжести, чем лошадь, причем по самым узким горным тропам. Зимой он довольствовался небольшим количеством простого корма (соломой, мякиной, отходами сена). Верблюдов для хозяйственных нужд держали в основном ногайцы. По свидетельству Э. Челеби: «Во время кочевок шатры из войлока нагружают, подобно башням, на верблюдов и верблюжьи повозки и кочуют… Все ногайские татары обрабатывают землю с помощью верблюдов. Верблюды даже в раннем возрасте хорошо пашут землю».Схожую картину застал в начале XIX века С. Броневский, автор «Новейших географических и исторических известий о Кавказе». Он писал, что не только ногайцы, но и крупные адыгские (черкесские) скотоводы держали верблюдов «для перевозки домашних пожитков и войлочных лагерей (кошей) с места на место в летнюю пору». Составитель историко-статистического очерка об ингушах Г. Вертепов в конце XIX века сообщал, что «один-другой десяток лет тому назад ингуши разводили и верблюдов, но в настоящее время эта отрасль местного скотоводства ими совершенно оставлена».Содержали верблюдов, в том числе для извоза, обитавшие в низовьях Терека чеченцы и жители равнинного Дагестана.
Кони
О любви горцев к лошадям сложены легенды. В одном из осетинских сказаний повествуется о том, как нарты (мифические герои-богатыри), переживая суровую зиму, опасались за своих коней: «Что будем делать, если падут наши кони? Ведь человек без коня – все равно, что птица без крыльев». Герои нартского эпоса были объединены в военную дружину: кони являлись их неразлучными спутниками, советчиками и соучастниками во всех важнейших деяниях. В эпосе названы имена коней, прославившихся своими подвигами и обладавших необычайной силой. Это конь старейшего нарта Урызмага Арфон, конь знаменитого Хамыца – Дур-Дур, конь сына Урызмага – Алас, а также легендарный скакун Авсург, на котором герои молниеносно спускались с небес и поднимались обратно. Подобного рода предания встречаются на Кавказе повсеместно.
В вайнахском сказании «Морской конь» говорится, что у реки Аргун пасли табуны трое братьев; младший обладал лучшими конями, за которыми приходили из далеких земель ханы и султаны, предлагая за коня золото и другие ценности. Об отношении к лошадям чеченцев пишет в своей книге «Чеченское оружие» И. Асхабов: «Особая забота и внимание чеченца были к лошади. Лошадь имела попону, легкое седло с мягкими войлочными подкладками. В непогоду ее вместе с всадником укрывала бурка. Переметная сумка для удобства лошади делалась из мягкой ковровой или шерстяной ткани. Зачастую сбруя, уздечка, седло украшались серебром. Чеченские мастера делали добротное конское снаряжение, однако в отличие от кабардинских и черкесских оно было менее украшенным. Во многих чеченских аулах были, по словам стариков, очень хорошие мастера-седельщики, шорники. Стремена, подковы, пряжки для стремян, удила изготовляли многочисленные чеченские кузнецы…»
С. Броневский отмечал, что дагестанцы «все избытки свои истощают… на конские уборы, в коих состоит главнейшая их роскошь. Повсюду блестит серебро и золото, целыми бляхами; не щадят их в наборах на ремнях и насечках на стали». Ф. Ф. Торнау: «Состоятельные люди отделывали серебром и золотом седло, уздечку и др.». Традиционное для Кавказа коневодство развивалось главным образом в предгорьях и на равнине. В горах, из-за отсутствия благоприятных условий, содержание лошадей было ограничено до минимума. Табунным коневодством и выращиванием лучших пород лошадей занимались кабардинские феодалы, владевшие до конца XVIII века почти всей равниной Центрального Кавказа, а также самые имущие у западных черкесов, абазин, ногайцев и карачаевцев.
Итальянский путешественник Пейсонель, посетивший Кавказ в середине XVIII века, писал: «Черкесские лошади чрезвычайно ценятся. Они высокие, хорошо сложены, чрезвычайно сильные и выносливые как в беге, так и в усталости. Их голова несколько напоминает клюв ворона, они довольно похожи на английских лошадей; здесь очень сильно заботятся о продолжении определенных пород, наиболее известными являются породы солук и беккан (бечикан); из Черкесии вывозят только меринов; других в этой стране даже не употребляют. Жеребцы имеются только заводские. Их поступает большое количество в Крым, где они очень ценятся: за них до сих пор платят до 200 пиастров. Но в этой стране имеются еще более знаменитые лошади, за которых отдают до 8 рабов».
Черкесских и кабардинских лошадей тысячами вывозили в разные страны: Турцию, Персию, Польшу, Австрию, в соседнее Закавказье. Кабардинские князья неоднократно отправляли своих скакунов в подарок московским царям. Так, в 1552 году князь Темрюк подарил Ивану Грозному 50 коней.
Кабардинская лошадь возникла от смешения местных горских пород с арабскими скакунами. По этому поводу автор «Исторического очерка русского коневодства и коннозаводства» И. Мер дер писал: «Горские лошади по свойству климата или от смешения двух пород: настоящих черкесских с лошадями арабскими; они сильны, резвы, полны огня, внимательны, в ногах крепки – качество, необходимое при путешествии по горам; они также весьма чутки, то есть хорошо слышат, так что в самую темную ночь можно положиться на лошадь, что она, по каким бы скалам ни пробивалась, не споткнется и проберется по узкой тропинке осторожно… Горские лошади могут переносить различный климат так хорошо, что едва ли порода других лошадей может в этом случае выдержать с ними сравнение. По сродности же с местностью гор, состоящих преимущественно из камней, черкесская лошадь без подков несется во весь карьер по твердому грунту, не жалуется на ноги, в которых не чувствует от того боли… Горские лошади очень послушны: они скоро привыкают к ездокам и приноравливаются удобнее к желаниям и правилам их хозяев; они не имеют капризов, обыкновенных в породах других лошадей; выносят крайнюю нужду в продовольствии… Черкесская лошадь не любит застаиваться долго без употребления в работе…»
По свидетельству исследователя быта кабардинцев В. П. Пожидаева, «многовековой опыт и практика коннозаводчиков создали в Кабарде целую науку о коне и его воспитании, и эту науку и родовые традиции коннозаводчиков адыги свято берегут и передают от отца к сыну».
История табунного коневодства Кабарды знает несколько пород лошадей, выведенных в разные эпохи. Самой ранней и наиболее распространенной была шалоховская порода, связанная с именем малокабардинского князя Шалохова. По словам посетившего Кавказ в начале XIX века Ю. Клапрота: «Здесь самая лучшая порода называется «шалох» и носит особый знак(тавро – Авт.) на бедре. Такие лошади, как правило, принадлежат богатой княжеской семье и насчитывают не более 200 голов в табуне. Лошади этой породы чаще всего бурой или белой масти, их содержат постоянно на пастбищах: в жаркие месяцы – между реками Фиагдон, Ардон и Уредон, а в другое время года – на Тереке, в районе между Татартупом и Джулатом. Если такого жеребенка дарят, то его оценивают наравне с рабом…»
Отличительной чертой шалоховской лошади являлось то, что ее копыта были цельными, без заднего разреза. Лошадь этой породы обладала высокими спортивными качествами; использовалась при верховой езде, на скачках, для охоты и джигитовки. В мифологии адыгов указывается, что прародители шалоховской лошади обитали в Черном море, где на них ездили великаны. Кони этой породы были в цене и у русских офицеров.
В очерке М. Ю. Лермонтова «Кавказец» мы читаем: «…Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал – настоящий базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь – чистый шаллох и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия».
Адыги разводили и другие породы лошадей, называвшиеся по местности или племенам своих создателей: «куденет» (Куденетовы), «абоку» (Абакумовы), «атажук» (Атажукины), «бачкан» и др. Среди черкесских коннозаводчиков были широко известны также Аталескеровы, Клычевы, Ганбиевы.
С адыгами в разведении высокопородных лошадей успешно конкурировали абазинские князья и уздени Лоовы, Трамовы, Исмаиловы, Лиевы, Фатовы и другие, имевшие табуны в 400-600 голов.
Особенно славились лошади трамовской породы, по словам Ф. Ф. Торнау, «известной на Кавказе и высокоценимой по их качествам». Эта порода также упоминается в ряде произведений М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого. Трамовская лошадь была высокого роста, обладала отличными скаковыми качествами, имела специфичный окрас – белые пятна на гриве, хвосте, иногда на носу. Кроме своих пород лошадей, абазины разводили кабардинскую и так называемую «чаади», выведенную путем скрещивания английской и кабардинской пород.
Из народов Западного Кавказа меньше всех уделяли внимания коневодству абхазы. Тот же Ф. Ф. Торнау писал: «Лошади их небольшого роста и не отличаются силою». Широкой известностью с середины XIX века стала пользоваться карачаевская порода, выведенная в результате скрещивания местной породы с лучшими экземплярами кабардинских и абазинских лошадей. Карачаевских лошадей охотно покупали и жители Закавказья, и казаки кубанских и терских станиц.
В конце столетия в Карачае было немало коннозаводчиков, имевших табуны по нескольку сотен голов: Байчоровы, Байрамуковы, Джараштиевы, Крымшамхаловы, Кубановы, Текеевы и др. Байчоровская порода была гнедой масти, считалась неприхотливой, обладала твердыми копытами, отчего пользовалась большим спросом у казаков; лошади Байрамуковых были серого, Кубановых – рыжего, Джараштиевых – красного окраса. Эти последние («джаражды») славились красотой и изяществом, служили лучшим подарком.
Коневодство способствовало появлению у карачаевцев производства кумыса, который использовался и как лечебное средство. Уздень Кеккез даже построил завод для производства кумыса.
В высокогорных районах Центрального Кавказа табунного коневодства не было; лошадей использовали лишь как транспортное и вьючное средство. Автор этнографического очерка о балкарцах Н. А. Караулов свидетельствовал: «Сорт балкарской лошади очень хороший, она неприхотлива и вынослива, невысокого роста, крепкое небольшое копыто очень цепко, и лошади эти незаменимы в горах». Под стать балкарской была осетинская порода. Ю. Клапрот писал: «Лошади осетин невелики, но ноги их настолько сильны, что нет надобности их подковывать (ковку лошадей горцы переняли у соседнего русского населения – Авт.), несмотря на то, что они постоянно ходят по камням. Они превосходны для переходов через горы». Клапроту вторит В. Пфаф, посетивший горную Осетию в начале 70-х годов XIX века: «Можно только удивляться необыкновенному проворству, силе и ловкости этих прекрасных горских лошадей. Сидя на такой лошади, можно поручить себя ее инстинкту и, закрывши глаза, переезжать через самые страшные пропасти…»
На Восточном Кавказе табуны разводили в равнинных и предгорных районах Чечни и Дагестана, в горах коневодство носило ограниченный характер. Невысокие, но сильные и неприхотливые лошади, разводимые ногайцами, широко использовались для перевозки грузов по всему Кавказу и охотно покупались соседними народами. В первой четверти XIX века на территории Засулакской Кумыкии появились первые конные заводы. После этого коневодство в Дагестане стало развиваться бурными темпами. К 1855 году только в Дербентской губернии насчитывалось 600 конных заводов; в них было «жеребцов и маток с приплодом 2200 голов». Намного увеличилось поголовье лошадей в шамхальстве Тарковском, ханстве Кюринском, Табасаране, чему положил начало один из главных коннозаводчиков губернии, полковник Джамовбек.
В 60-70-х годах XIX века табунное коневодство на Северном Кавказе переживает упадок, причинами которого послужили массовая эмиграция горцев в Турцию и распашка пастбищных угодий на равнинах и предгорьях в связи с переходом к интенсивному земледелию. На Западном Кавказе из-за отсутствия лошадей казаков стали переводить в пластунские части.
Для исправления положения в Майкопе была учреждена специальная заводская конюшня, служившая для улучшения горской (кабардинской) породы лошадей. В 1891 году такую же конюшню основали в окрестностях Пятигорска. Стали ежегодно проводить выставки строевых и рабочих лошадей. В 1897 году такие выставки прошли во Владикавказе, Моздоке, Пятигорске, Екатеринодаре, Ставрополе и Хасавюрте. К концу века ситуация с коневодством на Северном Кавказе заметно улучшилась. В. П. Пожидаев писал: «Упадок данной отрасли у одного сословия, к счастью, не знаменовал собою гибели вообще этого промысла в Кабарде. Слишком он был национален. И вот мы видим, что наряду со старинными заводами кабардинских князей и узденей, как грибы после дождя, вырастают во множестве небольшие конские заводы у их же сельчан, бывших табунщиков и даже крепостных. И как раньше каждый уздень почитал непременной гордостью иметь свой табун, так теперь многие сельчане спят и видят, чтобы иметь у себя хоть небольшой, но свой собственный табунок со своим тавром».
Во второй половине века на Северном Кавказе по-прежнему существовало три вида коневодства: заводское, табунное и домашнее, или хозяйственное. Кабардинцы, имевшие много пастбищных земель, пасли свои табуны летом в горах, на обширных Зольских пастбищах, зимой – в долинах Кумы и Терека, та же система содержания была характерна для черкесских и абазинских коневодов.
Свои особенности имело коневодство у западных адыгов. Так, у шапсугов в горах лошади, содержавшиеся в табуне, осенью и зимой постоянно находились в лесу, причем весь этот период они паслись самостоятельно, без всякого присмотра и охраны. На плоскости же табуны круглый год паслись под присмотром вооруженных табунщиков, так что лошади постоянно находились под открытым небом. В результате, по словам В. П. Пожидаева, конь проходил «суровую школу», приучался «ко всем невзгодам и лишениям».
В Терской области летние пастбища располагались под Эльбрусом и в районе Кисловодска, в Кубанской области – по верхнему течению Кубани и ее притоков (Лабе, Белой, Урупу, Большому и Малому Зеленчуку). Долины этих рек служили зимними пастбищами. Табуны содержали также в долинах Малки, Кумы и Терека. Ногайские кочевники, не занимавшиеся отгонным скотоводством, круглый год пасли свои табуны в степях Ставрополья и Кизляра.
Средний табун имел 150-200 голов. Широко практиковалась коллективная форма пастьбы, когда несколько коневодов, обычно родственные семьи, соединяли своих лошадей в один табун.
Вот как описывает жизнь табуна В. П. Пожидаев, наблюдавший ее на летних Зольских пастбищах в Кабарде: «Лучшими часами для кормежки считается время от восхода солнца до 11 часов дня. С наступлением жары лошади останавливаются где-нибудь на возвышении и, повернувшись головой к ветру, стоят, пока спадет жара, 2-3 часа. Это дневной отдых. Вместе с табуном отдыхают и табунщики, которые в эти часы сходят со своих лошадей и дают небольшой отдых и им, а вместе с тем подкрепляются и сами. Отстоявшись, кони снова трогаются на пастьбу и так до заката солнца… Спят и отдыхают лошади в течение ночи три раза с небольшими перерывами. Первый сон для лошадей наступает в сумерки и продолжается полтора-два часа, второй – в полночь, и продолжается час, третий – перед рассветом – тоже не более часа. Обычно для этого кони собираются в кучу и останавливаются: жеребцы по краям, матки и молодняк в середине. Молодые же жеребята-сосунки, растянувшись на траве, крепко спят около своих матерей, как малые дети. Матки и жеребцы и прочие представители табуна спят большей частью стоя на ногах, чутко и осторожно».
Табун подразделялся на множество косяков, из которых каждый обычно состоял из 10 маток и одного породистого производителя. Лошадь находилась в табуне 3-5 и более лет. В возрасте четырех лет ее обычно объезжали, а жеребцов холостили. Объездка происходила следующим образом. Один из табунщиков, «длинным волосяным арканом поймав коня, приближался к нему, хватая его за ухо, и крепко держал; другой осторожно надевал уздечку и вкладывал удила, а затем, подняв у уха повод, надевал кожаную треногу… Лошадь начинала биться, метаться; табунщики, сдерживая аркан, не препятствовали ей. Когда лошадь уставала и, случалось даже, падала, табунщик подходил к ней сзади и, тряхнув ее за хвост, поднимал и приводил в себя. После этого лошадь седлали… Затем табунщик садился на лошадь: она, срываясь с места, металась из стороны в сторону, взмывалась на дыбы, иногда намереваясь упасть, чтобы сбросить ездока, но табунщик сидел, по выражению коневодов, «как пришитый», зорко следил за ее намерениями и предупреждал ее коварство, то умелым поворотом, то ударом треноги, то вздергиванием, то послаблением удил». После объездки лошадь купали и выпускали в табун. В течение года выучка периодически повторялась, однако с меньшими усилиями и риском. Хороший табунщик в день мог объезжать до десятка лошадей. 209