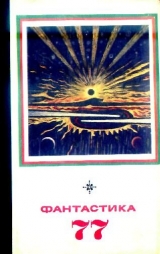
Текст книги "Фантастика 1977"
Автор книги: Север Гансовский
Соавторы: Виталий Мелентьев,Виктор Колупаев,Владимир Щербаков,Дмитрий Де-Спиллер,Игорь Дручин,Олег Алексеев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
ДМИТРИЙ ШАШУРИН СОРОЧИЙ ГЛАЗ
Где-нибудь, может быть, их называют по-другому. Очень часто у растений, особенно диких, несколько названий. Вот, например, черный паслен – где его зовут просто паслен, где поздника, а где и неприлично, потому что растет он в деревнях на самых неподходящих местах и мозолит глаза. С ним, с пасленом, некоторые очень любят пироги, и его даже продают на базарах. А эту ягоду я привык называть, слышал и от других: сорочий глаз. Она лесная, никакая не съедобная, горькая. На макушке травинки как бы звездочка из листьев, а в ней, в центре – голубая до небесности ягода с черной точкой, словно и вправду выглядывает из травы птичий глаз.
И еще приведу одно обстоятельство, не менее важное, как получается, чем ягоды, – то, что к тому времени я уже давно вышел на пенсию. Как давно – не уточню. Для одних давно год, для других и десять лет – недавно. Жена тоже. Насчет детей: в принципе если были, то были бы взрослые. И внуки.
А по грибы-ягоды я всегда любил и до пенсии. Но тогда по выходным, в болыиой компании, с ночи в далекие леса. Шумно, колготно. Тут же тихо. Всего лишь пригородная зеленая зона, а ходишь, ходишь – никого. Поднимешь глаза от земли, и вдруг как вынырнул из шума, хлопот в прозрачность, покой, и кажется, вот-вот полностью поймешь и жизнь, и природу, и себя. И задерживается в тебе проникновение, и грибы находятся сами собой, знаешь, куда взглянуть, где наклониться, и оказывается, так и есть. Там он стоит, где предчувствовал: белый или красный – подосиновый. А то среди смешанного древостоя – чистый березняк, это и в кино не раз использовали: свет светом погоняет в белизну, в синеву, розовость. И солнце, и шелестят листья.
Тогда дышишь, словно сливаешься с воздухом.
В таком проникновенно-воздушном состоянии я и почувствовал, что увижу сейчас ягоды сорочьего глаза, и увижу не равнодушно, а с последствием, с продолжением, что ли, для себя, увижу более заинтересованно, чем любой гриб. Вскоре, как по заказу, вышел на куртину этих ягод. Бывают иногда такие яблоки прозрачные, сквозь мякоть видно семечки – наливное яблочко из сказки. Здесь оказались наливными ягоды сорочьего глаза, и не скажешь: голубые – прозрачные до того, что светятся изнутри. Нет, мерцают, но по-разному: одни будто больше в красное, другие – в желтое. Меня к ним потянуло, выходило по-предчувствованному, и не верилось, что они несъедобные, горькие, наоборот, влекло попробовать и обещало необыкновенную вкусность. Я, еще не веря до конца, взял ягоду в рот. Кто пробовал черный паслен, наверняка помнит его притягательно-отталкивающий вкус. На некоторых людей притягательность паслена почти не действует, и они никогда больше даже не смотрят на него, другие нечувствительны к отталкивающей стороне его вкуса – они-то и любят пироги с пасленом, третьи, как и я, одинаково чувствуют обе стороны вкуса и остаются равнодушными к паслену. Вкус наливных ягод сорочьего глаза с той куртины напоминал притягательный вкус паслена, если ягоды отсвечивали изнутри красным, и отталкивающий, если светились желтизной. Притягательный вкус красных был тоньше и приятнее, чем у паслена, отталкивающий желтый – противнее и резче. И были они по вкусу совершенно разные ягоды – одни притягательные, другие отталкивающие.
Я съел все красные ягоды, остались в куртине торчать на стеблях только желтые. Никаких вредных последствий я не ожидал, ничего и не случилось вредного. Но предчувствие, которое началось еще до ягод, – заинтересованность – усилилось, связалось с довольным ожиданием еще чего-то, но уже не внешнего, внутреннего. Как будто, когда ел ягоды, я добивался его, знал, что наступит, а теперь отметил про себя с самого краешка: ага! вот и началось, хотя явственно думать что-нибудь похожее я не был в состоянии в тот момент. Сейчас я осознаю все задним умом, как вспоминают потом, когда подломится ножка или стойка: да, да, трещало же! Мы слышали, что трещало, оказывается, вон почему! А не подломись, кто бы помнил о треске. Недолго его и выдумать, если уж произошла поломка.
Через день я помолодел, потому и вспомнил, что будто сразу после ягод почувствовал какие-то изменения в себе, навспоминал задним числом столько всего – впору писать научный труд о ходе внезапного омоложения. Мне теперь мнится, как в тот день я необыкновенно долго бродил, не уставая, па лесу, сидел вечером у телевизора, не задремывая, лег без гудения в пятках, встал утром без связанности в пояснице. И пошел, и пошел наматывать воспоминания на все прошедшие часы до того момента, когда я впервые воочию обнаружил, что происходит или уж, лучше сказать, произошло. Стоял я голый, распаренный перед зеркалом и смотрел на себя. Я не сделаю никакого открытия, если скажу, что мужчины-пенсионеры не часто смотрятся в зеркало, а если и взглядывают туда зачем-нибудь, то избегают общего обзора: каков я? Давно известно каков, и не жди изменений в лучшую сторону, представляешь себя не по зеркалу – по самочувствию, и хранишь в памяти совсем другую внешность, чем Ty, которую постоянно дорисовывает время.
Но тут мне кричат с полка в парилке: молодой человек! Эй, молодой человек, поддай малость! Конечно, кого сейчас не называют молодым человеком. Однако, даже не глядя, определишь по тону, относится это действительно к молодому или сказано лишь так, для обращения. Хотя у меня и рост небольшой и можно принять за подростка со спины, но никогда еще в этих словах не слышалось той интонации, которая появляется или звучит в отношении действительно молодых.
Но тут… Я и поддал, здорово поддал, забрался на полок и сам еле терплю, свирепый получился пар. Кто это, орут, так наподдавал? Да вот этот, показывают, усатый парень, молодой еще, небось холодной водой. Повыращивали, ворчат, бород, усов, а пацаны. Потому-то я и вышел в раздевалку, к зеркалу.
Первое, что подумалось, – жена, неужели не заметила жена? Как же она не заметила? И тут же вспомнил, что и сам не знаю, когда видел ее отчетливо, не мельком, что представляю ее по памяти. Да и кто же будет пристально вглядываться в лицо близкого человека, надев очки, чтобы уследить за его старением. Сама природа против, не оттого ли она ослабляет нам зрение заранее, до разрушительных изменений во внешности, щадит наши чувства. Кстати, о зрении. Я смотрел на свое отражение в глубину зеркала без очков, и ничто не туманилось, не расплывалось, передо мной стоял распаренный усатый парень. В молодости я никогда не носил усов, может быть, поэтому не узнал себя. Хотелось оглянуться, поискать сзади, где же я? Кинулся в парикмахерскую, но и без усов я не стал похожее на того меня, который помнился подробно и никогда не был чужим. Вот так для начала сам стал себе чужим. А дальше? Видимо, время не только сморщило лицо, но изменило и суть. Морщины убрали, новая суть осталась: вместо рабочего парня отягощенный неповторимой индивидуальностью молодой интеллектуал из телепередачи.
Вроде бы все разглядел и, оценив, понял, и даже задним умом раскинул, а привычка привычкой – ноги тянут домой почаевничать после бани. Как будто омоложение где-то там, с тем, другим, из зеркала, а со мной полный порядок, и чай ждет меня дома. Дома…
Ключа не оказалось в кармане. Позвонил и привычно жду, слышу шаги, представляю, как жена сейчас откроет мне, какая она, представляю автоматически те образы, которые внедрили в сознание ослабленное зрение и привычка долгих лет счастливой совместной жизни. Крякнула задвижка, отщелкнулся замок. Гляжу на жену, разеваю рот, смотрю на номер квартиры: номер тот, она не та.
Я смотрел на нее и не находил того, что знал всю жизнь, не мог понять, куда оно девалось, стало незнакомым. Не возраст меня оттолкнул, как он открылся моему помолодевшему зрению, а незнакомость. Помню, посетил я через тридцать лет после того, как ее покинул, свою деревню, отчий дом. Скорчилась изба, одряхлела, но все-таки угадывались в ней родные приметы, щемяще тоскливо, а знакомо. Тут же самый близкий еще два часа назад человек – и ничего, пусто. Она тоже смотрит недоуменно и видит туманным своим зрением чужого, молодого, безусого…
– Вам кого? – спрашивает. – Если, – называет мое имя-отчество, – то он выехал за город на три дня.
И медленно, как будто ждет от меня еще чего-то, закрывает дверь. Вот защелкнулся замок, вот ширкнула задвижка, вот удалились шаги. Я отмечаю, и ничего больше нет в голове, и в ногах окаменение – не двинуться. Вдруг с возмущением подумал: а чай? Как будто у меня из рук вырвали чашку с чаем, а мне кажется – по ошибке, надеюсь, что все сейчас наладится, опять пойдет no-заведенному. Этажом выше хлопнула дверь, я почему-то испугался, кинулся вниз и чуть не бегом выскочил из подъезда, а там со двора на улицу, словно надеялся, что подхватит меня общее ее движение и доставит к месту. Где же теперь мое место? Не оттого ли люди, дошедшие до крайности в домашней сваре, расхлестанные, выскакивают, сами не понимая зачем, на улицу. Выскакивают и, охваченные движущейся, пусть даже равнодушной к ним реальностью, возвращаются в колею, замечают свою расхлестанность, неуместность и отступают со стыдом ли, с просветлением ли. Я же поплыл вместе с улицей, только тогда понял, про какой загород, про какие три дня за городом сказала моя жена. Договорился с соседом по дому помочь ему оборудовать жилье на садовом участке и собирался ехать к нему сразу после бани, не заходя домой. “Три дня, три дня, – соображал я, – три дня, а что дальше?” Талдычил: три дня, три дня – не хуже, чем Германн в “Пиковой даме” – три карты, и не исключено, что вслух – от ошарашенности. Ноги соображали лучше, чем голова, потому что совершенно не помню, как они привели меня на вокзал и посадили в электричку. И до самого садового участка вели меня не голова с глазами – ноги с пятками. Соседа своего буду называть не его именем, а Петровичем, Иванычем и по-другому, хоть Морковичем, чтобы не давать ни его, ни своего адреса и еще чтобы передать свое тогдашнее бесшабашное, озорное от молодости настроение. Увидел Петровича на его участке тоже как-то механически и сразу же брякнул:
– Здорово, – говорю, – Иваныч!
Он на меня таращится, я, спохватившись, на него, стоим так, не двигаемся и молчим. Мне уже впору сматываться, как он вдруг светлеет, и по лицу его становится понятным, что он о чем-то догадывается. Я же таращусь еще больше, полностью овладев за эти мгновения пониманием ситуации, никак не могу представить, о чем же здесь возможно догадаться.
– Ага! – говорит Моркович. – Здорово! Ты небось Жора. Тебя, – называет мое имя-отчество, – направил сюда?
Я тоже говорю: – Ага!
– Сам-то, – снова звучит мое имя-отчество, – когда приедет? Или заболел?
Мне это подходит, я киваю и говорю со вздохом: – Заболел!
Вижу, как Помидорыч попервоначалу захмурнел, но тут же, снова мне на удивление, засветился еще одной догадкой. Какой же умный оказался мужик мой сосед! Но на этот раз и я догадался, в чем его догадка. Рябиныч догадался, что Жора напускает на себя малословность и мрачность, оттого и звучит фальшь, которая его настораживала. Теперь же Капустыч успокоился совершенно. С такой чуткостью и наблюдательностью он далеко бы пошел, если б не стремление немедленно разгадать и успокоиться.
В той жизни, за которой для меня защелкнулся замок, ширкнула задвижка и удалились родные шаги (звуки все те же, старые, привычные, а видимость неузнаваема), говорил я Абрккосычу про чудака-студента Жору, сына наших знакомых. Вот теперь он и догадывался обо всем наперед, и восхищался, что сподобился общаться с закидоном, у которого прямо-таки трагическая рожа. А какая еще могла быть в тот день у меня рожа, хоть к молодая, что у меня творилось на душе-то?
Салатычу же развлечение, материал для наблюдений и догадок. Ну и дает, парень, лихо. Вот напускает на себя мраку, думал он не без уважения про меня – Жору и в то же время предвкушал, как этот надутый индюк осрамится с наладкой всей его садовой техники да со столярными работами, в которых я подрядился ему помочь, а прислал вместо себя явного неумеху.
Теперь уж и я читал все мысли своего соседа в самый момент их зарождения. А в ушах моих продолжали звучать удаляющиеся шаги, уходили они все дальше и дальше. Даже теперь, после всего, что произошло со мной, когда затаюсь, снова слышу, как они уходят.
Три дня на садовом участке давали мне передышку, возможность прикинуть, продумать ближайшие действия, избежать немедленной катастрофы. Как бы я смог объяснить собственное свое исчезновение и то, что на мне были все до единой вещи пропавшего?
– Ты, Жора, – сказал мне вдруг Огородыч, – хороший, видно, жлоб, свои джинсы-пинсы пожалел, а костюмчик, – называет мои ИО, – надел. У тебя брезентовая спецовка, выходит, для театра и танцев, шерстяной костюм наоборот – для грязной работы. Не порви ненароком.
С того у меня и начались раздумья, что будет, если… И выгородилась из всевозможных “если”… стена. Стена с зарешеченным окошком. Не хватало мне на старости лет… тьфу! по молодости. Береги платье снозу, а честь смолоду. А какая уж тут честь, когда сплошь поперла ложь, увертки. Не увернись, и вовсе вываляешься похуже, чем в грязи.
…если Изюмыч вдруг поедет домой, если его жена приедет на участок… если сюда приедет моя жена… Если, если… у Тыквыча тьма родни в городе. А если у него не окажется здесь, на участке, тех денег, на которые я подрядился – дружба дружбой, работа работой. Если скажет: посчитаемся дома, Жора.
Если потащит за собой. Если… И сверх всего главный вопрос: что же дальше-то?
Смутно забрезжил достойный как будто поступок, который я наметил на первую очередь. Но прежде чем его осуществлять, пришлось обезопасить себя хоть от одного “если”, создать у Сливыча мнение, что за Жорой нужен глаз да глаз, что с Жоры не слазь. Чтобы не поехал домой ни в коем случае, чтобы не решился оставить на Жору участок. И я с первых же шагов начал планомерно изматывать бедного соседа. То проявлю вроде трусливую неуверенность, то бесшабашную самонадеянность. Вот уж он в ужасе, что сейчас я неминуемо сломаю хрупкую деталь, как она неожиданно встает на место, словно ее подпихнул испуг владельца сада-огорода. С одним ленточным подъемником загонял я его до пота. Молчком скребу в затылке, шмыгаю носом, присаживаюсь на корточки, бросаю инструменты, будто ничего не понимаю, а ведь только что мотор подъемника фыркал как надо, по желобу катилась вода, и Малиныч, облегченно вздохнув, шел плотничать. А то придумал совершенно по-мальчишески сплевывать на кожух мотора.
Три плевка в минуту – считаю про себя до двадцати – и тьфу! и еще считаю, Лаврович же, как загипнотизированный, мечется между досками и колодцем. Кряхтит, и чешется у него язык, но боится подать голос, потому что тогд? л и поплевывать перестаю, и глаза закрываю, вроде до того сбит с толку его словами, что окаменел насовсем. Вошел в роль Жоры – загадочного акселерата – даже с вдохновением: такие штуки я выкидывал в этом образе, когда налаживал опрыскиватель, что и вспоминать неловко. Зато к вечеру и вся его техника была в исправности, и сам Укропыч не только куда-нибудь ехать, до топчанато во времянке доковылял еле-еле и как пал на него, так и уснул мертвецки.
Я же вызвался спать на воздухе, еще днем пристроил раскладушку под яблоней. Теперь, как только сосед заснул, напихал под одеяло стружек со щепками, придал им соответствующую форму, на случай если он все-таки проснется до моего возвращения, и побежал на станцию.
С электрички на автобус, с автобуса на последнюю электричку на другой линии, а там пешком – летние ночи короткие.
С рассветом разыскал я ту куртину сорочьих ягод. Допускаю: кто-нибудь другой на моем месте, возможно, придумал бы и получше, или, располагай я временем, придумал бы и сам. Но тогда мне ничего не подворачивалось более достойного, более честного, чем побыстрее набрать сорочьих глаз с притягательным вкусом и принести жене, чтобы и она стала молодой, как я. Не давали мне покоя удаляющиеся шаги, зловещие звуки.
Только ничего не вышло с самого начала. Не нашел я ни единой притягательной ягоды ни в куртине, ни кругом, как ни прочесывал лес. Желтых ягод тоже осталось мало. Я уж под кустами шарил, хоть бы падалица нашлась. Нет. Небо начало зеленеть. Что, если Корнеплодыч рано встает, по-дачному?
Дернулся я к железной дороге, но ушел недалеко – вернулся, не понимая зачем, а вернулся. Еще раз обыскал куртину, напоследок же, также не зная зачем, торопясь собрал в спичечный коробок желтые ягоды, которые с отталкивающим вкусом, и с облегчением – вон, оказывается, зачем возвращался! – чуть не бегом, прыгая через канавы, кусты, спотыкаясь о корни и кочки, поспел к первой электричке. Потом автобус, еще электричка. А сам ломаю голову, зачем же мне потребовались отталкивающие ягоды? Сокрушительная неудача, невозможность одарить жену молодостью и непонятное, смутное предчувствие другого пути, связанного с желтыми ягодами. Не настолько уж я недогадлив, чтобы не заподозрить у ягод с противоположным вкусом и противоположных свойств. Но зачем они мне с их противоположными свойствами? Возвращаться в пенсионный возраст? Ну уж нет, нет. Нет!
Весь день, когда я изводил соседа, ломал голову над своим положением, прислушиваясь к удаляющимся шагам, каждое мгновение ощущал, кроме того, перекрывающее все заботы ликование тела, ток крови и, как отчетливо доносящийся грохот водопадов, предвкушение жизни. Воздух с каждым вздохом так просто и сладко входил в легкие и покидал их, что впору было, ничего не делая, лишь любоваться своим дыханием. А шаги? Да, я сознавал, говорил себе, что похож на предателя. Ушел, а она осталась. Но вернуться? Нет! Я найду ягоды, и мы снова будем вместе. Не нашел здесь, найду в другом лесу, обыщу все леса. Вот это мне и нужно делать – искать сорочий глаз во всех лесах. Желтые ягоды выбросить. Но я их не выбросил, чтобы узнать наверняка, есть ли в них противоположные свойства.
Или меня удержало то туманное предчувствие иного выхода.
Но не возвращения же?
Непонятно все-таки, что я не увидел ничего знакомого, близкого, ни крошки для глаз и совершенно все по-старому для ушей. Родной звук шагов. Можно ли променять молодость на звук?
Лопатыч еще не поднимался, на всем садовом кооперативе стояла тишина, которая только и ждет, чтобы кто-нибудь пошевелился, скрипнул или стукнул, а уж там пойдет, закипит жизнь. На крыше соседского сарайчика спал, прикрыв мордочку полосатым хвостом, котенок. Я разглядывал, проникался состоянием покоя, но не чувствовал усталости, наоборот, прилив сил – и потому, что наметил план действий, и потому, что был неутомим от молодости.
Вернуться? Ну нет, никогда! Да какое же это предательство, когда я совершаю, открытие, полезное для всего человечества, ставлю на себе такой опыт? Найду ягоды и омоложу все человечество. Хоть мне самому показалось это не очень убедительным, я успокоил себя, что у молодых всегда большие слова получаются неубедительно. Я ведь знал еще и по-пенсионерски, что добьюсь, не в нынешнем году, так в будущем уж обязательно. Вырастут же на том же месте, на тех же кустах, те же самые ягоды.
Теперь в первую очередь буду закруглять с Иваечем-Петеичем, уж без художественной части постараюсь закончить плотничью работу до обеда. А во вторую очередь проведу одновременно эксперимент по биологии. Я отломил кусочек от вчерашней котлеты, вмял в него ягоду из спичечного коробка и дал котенку, который уже соскочил с крыши и бодал, мурлыкая, мои ноги. “Мы не в пустыне”, – подумал я совсем не свои слова, совсем не на свой лад, а по-студенчески. Видно, омоложение пробралось уже и в мозг. Котенок проглотил кусочек. Я отломил еще, вмял в него три ягоды и, скармливая котенку, опять подумал в этом, новом для меня, невозмутимом стиле: “И хорошо, что мы не в пустыне”. Всего котенок принял семь ягод, я решил, что для его размеров достаточно, отдал ему остатки котлеты, всю лапшу с соусом и взялся за топор. Котенок мигом все слопал, покрутился у меня под ногами, подхватил из мусора горбушку хлеба и вспрыгнул с ней на крышу.
Когда заспанный Турнепсыч вылез из домика, у меня уже были подготовлены стропила, осталось поднять их наверх, поставить, сколотить обрешетку и покрыть шифером. Домик чуть больше крольчатника, в приложении к нему такие слова, как стропила, обрешетка, все равно что про банную мочалку сказать ковер, – жердочки. Но все-таки я утомил и загонял Бананыча взятым темпом. Он потел и пыхтел а радовался, что завершается строительство.
Про котенка я вспомнил, лишь приколотив последний лист шифера, когда Редисыч занялся обедом. Котенок продолжал спать на солнечной крыше – как свернулся в клубок, так и не менял положения. Я пощекотал его хворостинкой, он пошевелился. Пощекотал еще, котенок начал распрямляться, тянуться, выбросил вперед пятки-подушечки с растопыренными когтями и стал доставать от одного края крыши до другого. Рысь, а не котенок. Я Для того и кормил его ягодами, чтобы подкрепить свою догадку экспериментом, выяснить биологическое действие желтых ягод на молодой организм. Но я никак не ждал такого быстрого и заметного действия. Оно меня даже испугало. На какое-то мгновение мне показалось, что все это несуразный сон и, возможно, я проснусь. Я ущипнул себя в тыльную сторону кисти с вывертом – получился немедленно синяк. Кот тем временем приоткрыл глаза, вытянулся, будто специально для наглядности, еще больше и зевнул во всю розовую пасть. В месте щипка бился пульс, кисть горела. Воровато оглянувшись – не видит ли кто, я стегнул кота хворостиной – тот не столько от боли, сколько от неожиданности прыснул с крыши и помчался, прыгая через участки, словно тигр, – в один мах, а напоследок перелетел так же легко через главный высоченный забор садового кооператива.
Кто знает, что было бы, разгляди этого вундеркотенка мой догадливый Сельдереич. (Даже в пустыне у меня не нашлось бы другого выхода, как только вытянуть котягу хворостиной.} Вон ведь как меня заносит озорничать словами. Я и воспользовался этим своим настроением. Чтобы поскорее выбраться из сада-огорода, способ придумал тоже юмористический, исходя из сложившихся обстоятельств. А обстоятельства сложились так, что никакого убедительного повода для моего отъезда, слов, которые можно выговорить и не покраснеть, не насторожить, не выдать себя, не было решительно. Накануне Рассадыч своими догадками заставил меня согласиться, что ИО – это я в своем прошлом виде, как только почувствует облегчение, так и прикатит в наш сад-огород-ягодник, или даже еще более возможно, что ИО – опять прежний я – вовсе и не заболевал, но по своему обыкновенно соблазнился грибной погодой и бродит по лесам, следовательно, жди его вот-вот. И мне – на этот раз мне, Жоре, – приходилось бурчать или кивать, подтверждая его догадки. Кабы знать, что сам настраиваю для себя западню.
– Наденет, Жора, твои джинсы-пинсы и прикатит нынче вместе с моей Иркой на шестнадцатичасовой электричке.
Шестнадцатичасовая электричка с Иркой. Значит, я должен смыться раньше. В крайнем случае на этой же шестнадцатичасовой электричке, с которой прибудет Ирка, уеду до Конечной станции подальше от Города. А выберусь я только в том случае, если сосед догадается, почему мне позарез, и само собой естественно, что позарез, нужно уехать, – вот какой я придумал юмористический способ, воспользовавшись своим озорным настроением. Догадался же он, что я Жора, так пусть догадается, почему этому порожденному его догадливостью Жоре позарез необходимо покинуть ягодник. Сначала мне показалось, что есть опасность – вдруг Гексахлоранович догадается, что для пользы Жоры должен он Жору не отпускать до приезда своей лупоглазой Ирки. Но я тут же такую возможность отбросил, как не подходящую к характеру моего соседа. Он может догадаться только так, чтобы и дальше плыть по течению, он не будет догадываться против течения.
– Жора, садись обедать, – Мудреич поставил на козлоногий стол из горбылей чугунную сковороду яичницы с колбасой и салом.
Тянуть нечего, пора начинать давить на его природные способности.
– Я не буду! – пробурчал я невнятно, во вчерашнем стиле и как можно отчетливее и подчеркнутее брякнул: – Мне уезжать нужно! – подсел к сковороде, приналег и вскоре прикончил свою половину. Раз ты такой мудрец, то и догадывайся без меня.
Догадыч не отставал, хотя любил есть с расстановкой. Значит, плывет вслед за Жорой. А Жора – я наблюдал за ними, как сторонний третий, – Жора проглотил залпом кружку кофе из сгущенки, набычился на пустую сковороду и прямо-таки взвыл с тоской в голосе: – Надо!
И ведь можно затосковать на самом деле – без чего-то три, пятнадцать часов, значит, а в шестнадцать – Ирка. Потому и неподдельно прозвучала у Жоры тоска. В глубине души я был уверен, что ход выбран правильно и Жора одолеет Рассудыча.
Вырвемся мы из сада. Но вот догадается ли сосед отдать деньги? Ведь среди тех, кто всегда по течению, очень много таких, которые, как только зайдет о деньгах, на водопад выплывут против течения…
Ну а пока надувай, Жора, губы, набычивайся. Вижу, мой Виноградыч мучается, снует глазами, снует, но никак не может понять, еще чуть-чуть – и откажется, начнет у нас требовать объяснения. А у нас ни единой подсказки за душой. Время, время! Жора вспотел даже от набычивания, между лопаток потекла, щекоча, струйка. Неужто не выйдет? Сидим друг против друга молчком.
– Брысь ты, проклятый, кто только откормил такого тигра! – кричали на дальнем участке.
“Не хватало еще этого пустынного котика!” – подумали мы с Жорой, и Жора вдруг, как я его ни удерживал, ухмыльнулся самым благодушным образом.
Тут-то Телепатыч совершенно обо всем догадался (это, конечно, так он решил для себя, что совершенно обо всем). Сначала его глаза застыли на месте, открываясь все шире, радостно поднялись брови, потом он вскочил, хлопнул меня по плечу, меня, потому что я почувствовал шлепок и кончилось раздвоение, исчез сторонний зритель, остались только действующие лица.
– Так бы сразу и говорил! – Ясновидыч назидательно и заговорщицки задрал голову, и скрылся в своем пряничном домике под новой крышей, и вернулся с деньгами.
– Дуй, ИО (бывшему мне, значит) я все объясню, как приедет. Костюм его побереги. – Тут он опять стал ко мне приглядываться, снова у него глаза пошли ерзать.
О, черт, еще догадывается. О чем же? Но Георгиныч сразу же и посветлел.
– Слышь, Жора, а ведь видно, что костюмчик на тебе чужой. Вчера мне показалось удивительно – сидит как влитой.Глаза у него еще разок ерзнули, да, видно, течение тянуло мощное, смыло какую-то догадку в зародыше, и он заключил так: – Это костюм вчера по тебе еще не обвиселся. Зато сегодня в глаза бросается, что с чужого плеча. Дуй! А то опоздаешь. Сумку с инструментом не возьмешь? И правильно, ИО возьмет, когда приедет. – Резнул Полыныч напоследок мне слух моим именем-отчеством, и я понесся к станции как ветер. Хотел было, завернув за угол, сбавить скорость, плестись вразвалочку, наслаждаясь передышкой. Да не тут-то было, начала действовать психика человека скрывающегося, уходящего от преследования. Почему бы, думаю, не сделать вид, что спешу на электричку, которая идет в Город – мало ли народу смотрит с садово-ягодно-морковных участков на прохожих. За городом у людей, не успеют пожить там день-другой, образуется первейшая деревенская привычка – развлекаться, наблюдая дорогу: кто, куда, от кого, с кем и, главное, не заключена ли в прохожих хотя бы отдаленная угроза морковному или банановому урожаю. Обязательно найдется и такой наблюдатель, который засечет меня и запомнит, что да, торопился на городскую электричку такого и такого-то вида молодой человек. Черт его знает, никуда это не денешь – не во сне, а наяву молодой!
Не по трамвайно-магазинной вежливости – по самоощущению.
Бегу не задыхаясь, в пятках словно крылышки, как у греческого бога. Но я не даю себе и моральной передышки, некогда любоваться, нельзя терять бдительность. Нужно решать криминальную задачу: как уйти от преследования, как не наследить.
Прежде всего кинутся ловить, искать, задерживать Жору в моем костюме или, скажем, как они скажут, такого-то и такого-то вида молодого человека, в таком-то костюме явно с чужого плеча. И, конечно, хотя и не сначала, а по ходу будут искать мое тело, тело пенсионера ФИО. Но эти поиски мне не помешают, пусть ищут мое тело хоть всей командой, я займусь исключительно Жорой – самим собой в моем теперешнем сложном положении. В Город на электричке, к которой тороплюсь, я не поеду, но, наверное, надо сделать вид, что уеду, и взять билет в Город. А поеду в другую сторону, до Конечной. Но тогда придется взять билет и до Конечной. Нельзя в моем положении ездить без билета. На таких пустяках и ловят преступников. Батюшки, я преступник! Конечно, можно тут наужахать с я всласть, но у меня не было времени, так, просто мелькнуло на бегу. Преступник не– преступник, а Жора под подозрением, несправедливым подозрением, и надо его до лучших времен увезти отсюда и спасти от погони.
Касса-то на станции одна, как же я буду брать одновременно билеты в оба конца: в Город и до Конечной? Сразу же и наслежу. Подходить два раза? Кассирша-то одна. Сделать вид, что в Город, а билет наоборот? Но как сделать вид для кассирши? Для нее куда взял билет, туда и еду. Вот уж и платформа, и касса, и электричка выкатывается из-за поворота, и кассирша смотрит из окошка, и дежурная по станции в красной фуражке улыбается – дескать, в самый раз к поезду.
Общественное давление – никуда не денешься, как под гипнозом делаю то, что от меня ожидают: полтинник на блюдечко в кассу – один в Город! Вот и сделал вид. Дальше еще лучше: сел в вагон, двери задвинулись, электричка тронулась – повезли загипнотизированного Жору в Город навстречу его коварной судьбе.
Не тут-то было, я вовремя встрепенулся и переиграл и гипноз и судьбу – вышел из вагона на следующей остановке, прошел кустами до конца платформы, пересек линию и в кассе на противоположной платформе взял билет до Конечной.
Теперь оставалось лишь несколько минут до шестнадцатичасовой электрички с лупоглазой Иркой. И не остался торчать на платформе, нырнул снова в кусты. Уж на этот раз мы не наследили с Жорой. А теперь в кустах пора было мне с ним расставаться, как я к нему ни привык, как ни вжился в его образ.
Хватит. Жора исчез навсегда, я остался наедине с самим собой, молодым и непривычным. В новом теле – старый дух. Только бы знать, сколько у меня в запасе доаврального времени: сегодня объявят тревогу или завтра? У меня уже тогда возникло впечатление, что в моей грудной клетке, где-то около сердца, пустили часы. Идут они пока равнодушно, еле слышно: так-так, тик-тик, но и с угрозой.








