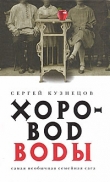Текст книги "Учитель Дымов (СИ)"
Автор книги: Сергей Кузнецов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Может быть, вы покажете Ире Москву? – спросил Игорь уже в прихожей, и Валера вежливо согласился, но, вместо того чтобы вести девушку в Третьяковку или Пушкинский музей, сказал:
– Может, на пляж сходим? У тебя купальник–то есть?
Так они оказались сначала на Ленинских горах, потом – на Андреевской набережной, а в конце концов – на том самом поскрипывающем диване, где Валера два дня назад просидел за ужином весь вечер.
Позже они много раз обсуждали, как это случилось. Ира раздевалась, и Валере показалось, что в какой–то момент, перед тем как её светлые волосы исчезли внутри снимаемого через голову платья, она улыбнулась, и поэтому он подхватил её на руки и понёс в комнату, а потом уже все получилось само… но вот только Ира говорила, что вовсе она не улыбалась, а просто снимала платье, а когда сняла, то уже так растерялась, что её куда–то несут, что, кажется, поцеловала Валеру первой ещё до того, как он стащил с неё верх от купальника, а может, и после. Короче, все попытки восстановить ход событий приводили к тому, что они снова начинали целоваться или пытались, как в театре, снова разыграть ту сцену, а в результате то и дело даже не доходили до комнаты, а оказывались где–то на полу, едва ли не в прихожей – там было жёстко, но зато ничего не скрипело.
Конечно, за время учёбы у Валеры было несколько романов, все – с однокурсницами: художницы, переводчицы и филологини нравились ему, но почему–то он робел решительных действий. Бывает, что юная девушка в окружении взрослых и опытных мужчин приписывает все знаки внимания своей молодости и красоте, тогда как ей хочется признания себя достойной собеседницей и мыслящим существом. Так и Валера, бодро беседовавший с молодыми физиками и математиками о Кафке и Булгакове, смущался заговорить с какой–нибудь инязочкой, за душой которой не было даже хорошего произношения, не говоря уже о знании литературы.
Однокурсницы–спортсменки были покладистыми и деловитыми, их не смущала ни Валерина фигура, ни физическая сила: большинство их партнёров были из того же института. Конечно, с ними было особо не о чем поговорить, и потому Валера довольствовался совместными физкультурными упражнениями, не включёнными ни в какую программу, вероятно, потому, что в этом случае природа и юность были лучшими преподавателями.
Его подружки были крепкими, сильными и выносливыми; Ира была слабой и хрупкой. Рассмотрев её первый раз обнажённой, Валера даже испугался: вот сейчас обнимет чуть крепче – и что–нибудь поломается. Но Ирина слабость была обманчива – на втором свидании она оказалась резкой, неутомимой и жадной. Он хорошо запомнил её силуэт на фоне окна: только что встав с дивана, она курила, выпуская дым в открытую форточку.
– Не показывалась бы ты голая соседям, – сказал Валера, потный и уставший, как после часовой тренировки.
– Они примут меня за мальчика, – ответила Ира, показывая на свою грудь, в самом деле почти мальчишечью.
– А волосы?
– Так сейчас у всех длинные. – И она засмеялась.
Впрочем, скоро Валера перестал бояться, что её увидят: густой дым заполнил Москву, из Ириного окна нельзя было различить соседнего дома, а значит, и из дома никто не мог бы разглядеть Иру.
Этим летом они встречались почти каждый день. Валера приезжал через час после того, как Ирины родители уходили на работу, – в распоряжении влюблённых было часов восемь, и в конце августа Валера настолько обжился в Ириной квартире, что, когда началась Олимпиада, стал включать телевизор: всё–таки в цвете все выглядело совсем иначе.
– Ты меня любить приходишь или свой спорт смотреть? – смеялась Ира.
Она вообще много смеялась тем летом, возможно, больше, чем за все те годы, что они проживут вместе. Так же, смеясь, она сказала Валере, что у неё задержка.
В этот день Марк Спитц как раз получил седьмую золотую медаль, поэтому Валера не сразу понял, что она имеет в виду.
– Что? – переспросил он.
– Я беременна, – сказала Ира.
Валера отвернулся от телевизора и посмотрел на неё. Она улыбалась, и он улыбнулся в ответ.
– Вот и хорошо, – сказал он, хотя и сам не знал, хорошо это или плохо.
* * *
Жене казалось, она хорошо помнит эту квартиру, большую и светлую, но теперь стены проросли ненужными вещами, старыми и дряхлыми уже в момент своего появления, отъедающими пространство, источающими пыль и запах неизбежной смерти. Квартира съёжилась, иссохла, словно кусок кожи в старом французском романе, стала тесной и маленькой: Женя дважды споткнулась по дороге от прихожей до своей бывшей комнаты – теперь спальни тёти Маши.
Точно так же, как квартиру, Женя не узнала её хозяйку: в постели, укрытая под самый подбородок, лежала сухая, морщинистая старушка. Редкие седые волосы, глубоко запавшие серые глаза, слабый шелестящий голос, такой тихий, что Женя нагнулась, чтобы разобрать хоть слово.
– Ты приехала, – шепчет тётя Маша. – Оля, доченька.
Женя замирает, склонившись над ней, медлит секунду и говорит:
– Это я, Женя, – и потом добавляет: – Извините.
Когда тётя Маша засыпает, Женя выходит на кухню. Те же ненужные старушечьи вещи, столь неуместные в конструктивистском интерьере, тот же запах тлена и распада. Это как человек, думает Женя, пухлый, весь в перетяжках младенец пахнет мамой и молоком, в нем нет ничего лишнего, он совершенен, а потом жизнь иссушает его тело, покрывает морщинами кожу, забивает воспоминаниями мозг… столько всего лишнего! И в конце концов это использованное жизнью тело забывает запах материнского молока и пахнет так же, как эта квартира – невозвратностью, неизбежностью, скорым завершением.
Тётя Маша уже в конце пути, думает Женя, да и я сама – сколько уже прошла?
Замерев в дверях, она вспоминает, как впервые увидела здесь Володю: круглая голова, тёмный силуэт, зимний заоконный свет.
А потом он поднял голову и улыбнулся.
Четверть века прошло, считай, вся жизнь.
Как всегда, Женя ошибается в своих оценках: двадцать пять лет – это не вся жизнь, в её случае – даже не половина, так, меньше трети.
Но пока Женя ничего не знает об этом. Она подходит к телефону, достаёт из кармана записную книжку и набирает номер. Сначала – длинные гудки, потом – резкий женский голос:
– Алле!
– Добрый день, – здоровается Женя, – будьте добры, позовите, пожалуйста, Валеру.
– Щас!
В трубке тишина, далёкие шорохи. С каждой секундой Женя все больше боится услышать Валерин голос. Всё–таки семь лет прошло, был мальчик, а сейчас уже стал мужчина. Вдруг и его не узнает, как не узнала тётю Машу?
Замерев, Женя стоит перед чёрным телефонным аппаратом и, чтобы не
смотреть на рассыхающуюся кухню, закрывает глаза.
И тут из темноты раздаётся: алле!
И Женя сразу улыбается: да, конечно, как она могла подумать, этот–то голос она всегда узнает!
– Валерка, – говорит она, – сынок, это я, тётя Женя, узнаешь меня?
Так первый и последний раз Женя назвала Валеру сыном, но, кажется, он даже не замечает этого, а изумлённо спрашивает в ответ:
– Тётя Женя, вы где? Все в порядке?
Стоит Жене войти в прихожую, она сразу чувствует знакомый запах, не сразу даже догадывается, откуда он так знаком, а потом понимает: это запах счастья и молодости.
Валерка выходит ей навстречу – ух, какой стал красавец! Не узнать! Хотя нет, конечно же, узнать! Всюду, везде Женя узнает своего мальчика!
А он обнимает, ведёт на кухню… какая большая, метров восемь, наверное, будет!.. Уже и стол накрыт, а за столом – молодая блондинка, это, конечно, Ирочка, а рядом с ней… батюшки–светы!
– Игорь!
– Женька!
Они обнимаются, хотя и удивительно, что Женя его узнала: постарел, полысел, потолстел.
– А вы знакомы? – изумляется Валерка.
– Конечно. Игорь же Володин студент.
Валерка хлопает себя по лбу: да, как я мог забыть! – и тут же наливает себе и Игорю водки, а Жене – красного вина.
– Мне тоже налей немножко, – капризно говорит Ира.
Валерка достаёт ещё бокал, наливает едва ли четверть.
– Ну, за встречу!
Чокаются, выпивают.
– Ну, Игорь, расскажи – сам ты как?
– А ты не видишь, Женька? – Он обводит вокруг рукой. – Отлично все. Хватит, наездился по всяким медвежьим углам, поподнимал советскую науку. Я уже лет пять как по партийно–хозяйственной линии пошёл. Видишь, в Москву перевели, квартиру дали… а я и детям ещё кооператив купил! Пусть живут в своём доме, верно? Что им со стариками?
Ух ты! Женя восторженно оглядывается. Так значит, это Игорь ребятам квартиру купил? Здорово, а я и не знала.
– Да Валерка не рассказывает ничего, – говорит она, – не пишет, не звонит. Я только знала, что жену Ира зовут, а что она твоя дочка, не говоря уже про квартиру…
Женя машет рукой, Игорь смеётся, Ира молча выходит с кухни.
– А как Гриша? – спрашивает Женя.
Она надеется, голос не выдаёт её. Сразу хотела спросить, самым первым
вопросом, ничего ведь о нем не слышала с того самого дня, как они расста–лись в Куйбышеве.
– Гришка? – переспрашивает Игорь. – Ну, нормально так. Инженер на заводе в Казани, даже, наверное, главный инженер. Женился, конечно… попозже меня, но все равно – давно. Двое детей, а у меня, кстати, только одна, тут он меня обскакал, паршивец. Девчонка и пацан у него… или два пацана?
Не помню.
Игорь задумывается, и, словно воспользовавшись паузой, Валерка выскальзывает из кухни.
– А, не, два пацана, точно! – восклицает Игорь. – Евгений и Игорь. Я думаю, в нашу с тобой честь.
Игорь смеётся, Женя пытается улыбнуться в ответ, не получается. Она понимает: да, в самом деле, в их честь. Значит, где–то в Казани живёт мальчик Женя, Евгений Григорьевич, живая память о давней любви его отца.
Это мог быть мой сын, думает она.
– А вот внуков у Гришки нет, – продолжает Игорь, – тут я его сделал, первый дедом стал, здорово, правда?
Женя механически кивает и тут же смотрит изумлённо:
– И давно?
– Ну, как давно… – Игорь пожимает плечами. – Две недели уже, ты ж сама знаешь! Только не говори, что тебе Валерка ничего не написал. Ты ведь внучатого племянника посмотреть приехала?
Запах, понимает Женя. Это не запах молодости и счастья, это просто младенческий запах. Как во многих счастливых молодых семьях.
Она поворачивается к двери: на пороге стоит Валерка, Ира прижимается к его плечу, а в руках он держит свёрток, и оттуда раздаётся тоненький писк, жалобный и беззащитный, и Женя сразу вспоминает – двор горбольницы, тёплая и шершавая Володина ладонь в её руке, Оля в окне второго этажа, свёрток у неё на руках – и такой же слабый, трогательный младенческий голос из глубины этого свёртка.
Женя переводит взгляд на Иру. Она стоит, прижавшись к Валеркиному плечу, уставшая и сонная…
– Ну, тётушка, возьмите племянника! – говорит Игорь, и Ира почему–то смеётся. Валера протягивает свёрток Жене, а та медлит и только спрашивает:
– Как вы его назвали?
– Андрей, – отвечает Валера, но в ушах у Жени все раздаётся Ирин смех, неуловимо знакомый, молодой – Олин смех.
Женя берёт младенца из рук Валеры и краем глаза видит, как Ира обхватывает мужа руками и снова смеётся.
В такой же позе они стоят на единственной сохранившейся у Андрея родительской фотографии, только мама в свадебном платье, а папа – в неловко сидящем на нем костюме. Андрей найдёт её, разбирая вещи после смерти матери, и оставит себе. Он очень любит этот черно–белый снимок, любительский, чуть недодержанный, где вокруг новобрачных все словно залито прозрачным молочно–белым светом, светом молодости, любви и счастья… Он будет часто рассматривать её, но это – спустя много лет, а сейчас Женя прижимает к себе маленькое тельце и беззвучно повторяет: все уже случилось, все снова случилось само.
Теперь у меня опять есть ребёнок.
Она глядит в красное, сморщенное личико, слушает Ирин смех и думает: а из Иры такая же мать, как из Оли. Такая же, если не хуже.
На этот раз она не ошибается: через два с половиной года Ира уйдёт к знаменитому футболисту, оставив Андрея мужу. В самом деле, кому же нужна молодая жена с ребёнком? Она ещё не раз выйдет замуж и не раз разведётся, но детей у неё больше не будет, Андрей останется единственным.
– Хорошее имя, – говорит Женя и повторяет: – Андрей… или Андрейка?.. Андрюша?..
Не обращая на неё внимания, Валера целует Иру, и только Игорь смотрит на Женю неожиданно трезвым, грустным взглядом.
* * *
Сначала Валера не узнал голос, возможно, потому, что Андрейка за спиной заливался на руках у Иры нервическим смехом, грозящим вот–вот перейти в повизгивающие рыдания. Простите, кто говорит? – спросил Валера, вжимая в ухо красный раструб телефонной трубки. Мембрана вздрогнула в ответ, обдав сквозь аккуратные дырочки знакомым хохотом.
– Дядя Лёня?
– Какой я тебе дядя! – довольно засмеялся Буровский. – Я ещё в Грекополе тебе говорил: зови меня просто Леонид…
– Как спартанского царя, – закончил Валера.
Он улыбнулся. Из трубки на него словно повеяло утренним бризом, захотелось даже лизнуть микрофон, как когда–то собственное плечо, – вдруг на красной пластмассе VEFа проступит морская соль из грекопольского детства?
И пока Буровский рассказывал, как он, совсем случайно, узнал, что Валера, оказывается, давным–давно в Москве, он так и стоял, улыбаясь, пока Андрей наконец не разрыдался на руках у Иры.
– Ты с кем? – спросила она.
Валера обернулся: всем видом жена показывала, что он мог бы и взять орущего ребёнка, вместо того чтобы трепаться по телефону. Похоже, Буровский услышал крик, потому что резко оборвал фразу – словно порвалась плёнка, натянутая между двумя бобинами «Яузы».
– Запиши мой номер, – сказал он, – а хочешь, просто приходи в пятницу вечером, я тебя заодно со всеми нашими познакомлю.
– Ага, – сказал Валера и потянулся за карандашом, – давай сразу адрес, я приеду.
На кухне у Буровских накурено так, что, входя, хочется руками раздвинуть колышущиеся занавеси сизого дыма, словно задние кулисы в студенческом театре. Сходство усиливают аплодисменты, которыми встречают Валеру. Он оглядывается смущённо – может, надо раскланяться? – и с облегчением замечает сидящего на широком подоконнике рыжеволосого бородача с гитарой, судя по всему, он только что закончил петь. Слава богу, хлопали не мне, думает Валера.
Остроносая женщина с чёрной чёлкой и быстрыми глазами вскакивает, говорит: «Садитесь!», Валера отказывается, но Буровский, обхватив за плечи, приземляет его на табуретку.
– Это Мила, моя жена, – шепчет он.
Бородач поёт следующую песню. Сначала Валера смотрит, как бьют по струнам длинные сильные пальцы, чуть тронутые рыжеватым пушком, и только потом начинает вслушиваться в слова: одинокий мужчина с рюкзаком идёт от деревни к деревне, в каждой деревне видит нищету и запустение. Куда я иду и долго ли мне идти? – спрашивает он в припеве. А чего пошёл, если не знаешь куда? – думает Валера, который не любит ни туристов, ни походную песню, но тут рыжеволосый добирается до деревни, посреди которой стоит заброшенная церковь. Он входит в распахнутые двери и слышит звон давно исчезнувшего колокола.
– Я опускаюсь на колени, – ударяет по струнам бородач, – я долго шёл… и я пришёл домой!
Все снова аплодируют, Валера тоже хлопает несколько раз. Ему неловко: шёл в гости к старому знакомому, а попал на концерт.
– Ох, Марик, как я люблю эту твою песню, – говорит певцу Мила, – прямо вот за сердце берёт, особенно в самом конце.
– На самом деле я тут ничего не придумал, – отвечает Марик, – все вот так и было. Только я не один, конечно, был, это когда мы с ребятами в прошлом году в Карелию ходили…
– Но это, наверное, все равно такая аллегория? – спрашивает невысокий мужчина лет сорока, сидящий справа от Валеры.
– Ну конечно, Витя, это аллегория, – вздыхает Мила, – это же песня о поиске веры…
– Это я понял. – Витя пожимает плечами. – Я просто все время забываю, что есть люди, которым надо искать веру. Для меня вера – самая естественная вещь на свете.
– Ну, Витьке повезло. – Певец откладывает гитару. – Он у нас вообще как птичка небесная – не пашет, не сеет…
– Так ведь и было завещано. – Витя чуть заметно улыбается.
Мила разливает чай, ставит на стол вазочку с сушками. Валера рассматривает гостей: все они старше его да и, пожалуй, чуть постарше Буровского. Одеты в вязаные свитера и ношеные ковбойки, человек, наверное, десять–двенадцать, мужчины и женщины. Заметив Валерин взгляд, Буровский, спохватившись, представляет его гостям: это сын моего любимого институтского научного руководителя, профессора Дымова, я вам о нем рассказывал.
Гости называют свои имена, выясняется, что большая часть работает с Буровским в одном институте или где–то ещё занимается химией; протягивая руку, они докладывают Валере о сфере своих научных интересов, решив, видимо, что он учёный, как и его отец. Только Витя, недавно говоривший с Милой про песню, молча стискивает Валерину кисть.
– А вы чем занимаетесь? – спрашивает Марик.
– Я – учитель физкультуры, – отвечает Валера, чуть дёрнув подбородком. Он думает, что это выглядит немного высокомерно, такой жест был бы уместен после слов «я – космонавт» или «я – академик», поэтому добавляет, пожав плечами: – В обычной школе, ничего такого.
– Как интересно! – восклицает Наташа, округлая и розовощёкая блондинка. – Я всегда хотела работать в школе!
– Это советская школа, – перебивает её Витя, – в ней слишком много лжи.
– Даже на физкультуре?
– Ну в партию–то все равно надо вступать, – отвечает Витя, затягиваясь.
Серый дым скрывает его лицо, и Валера не видит, улыбается ли он.
– Я пока не вступил, – говорит он, – но вообще–то в партию приходится вступать где бы ты ни работал.
– А я нигде официально не работаю, – сообщает Витя. – Я считаю, это единственный способ не участвовать в преступлениях этой безбожной власти.
– А хлеб в булочной ты тоже не покупаешь? – спрашивает Буровский.
– При чем тут хлеб?
– А он такой дешёвый, потому что большевики ограбили крестьянство и продолжают грабить сегодня.
– Ну в любом случае я не покупаю хлеб, – отвечает Витя, – мне его обычно приносят другие люди.
– Ты так живёшь, просто потому, что у тебя нет детей, – говорит Мила.
– Если бы у меня были дети, – возражает Витя, – Бог бы дал мне денег и на них. Но вообще–то тот, кто в самом деле хочет идти путём праведника, должен уметь отказываться от всего лишнего. В том числе – от детей.
– И от женщин? – спрашивает Наташа, и её щеки из розовых становятся алыми.
– И от женщин, – твёрдо говорит Витя. – Если есть стремление к подлинной жизни, от всего можно отказаться.
Валера пожимает плечами: его жизнь и так достаточно подлинная и отказываться ни от чего он не собирается. Он забудет Витины слова и вспомнит их только через полгода – внезапно и неожиданно для самого себя.
В те выходные Андрейка, как всегда, будет у тёти Жени, и Валера с Ирой останутся дома вдвоём. Проснувшись, Валера увидит, что жены нет в кровати; окликнув её и не услышав ответа, он встанет и, выйдя на кухню, увидит Иру: она будет сидеть за столом, уронив голову на скрещённые руки. Валера поцелует её в трогательно выступающий на худой шее позвонок и уже было скользнёт рукой к груди, но тут Ира встряхнёт головой, сбрасывая его поцелуй, как назойливого слепня, и, обернувшись, посмотрит на него красными, сухими глазами.
– Что случилось? – спросит Валера, а она ответит незнакомым голосом, чужим и дрожащим:
– Ничего. Разумеется, ничего не случилось. Все как всегда. Ты даже не замечаешь, что я за эти два года постарела на десять лет!
– Ну что ты! – Валера попытается её обнять, но Ира ударит его в грудь крепко сжатым худым кулаком:
– Ты мне ни одной новой вещи не купил за все это время! Я так и хожу в обносках! А от тебя – никакой благодарности, ты меня только лапать горазд! А ты даже не представляешь, от чего я ради тебя отказалась!
И вот тут–то Валера и скажет: ну, если любишь – от всего можно отказаться! – скажет даже быстрее, чем поймёт, что переиначивает вроде бы давно позабытые Витины слова. Услышав это, Ира застынет, и Валера сразу пожалеет о своих словах – ещё до того, как Ира разрыдается.
Пройдёт ещё месяц, прежде чем она заведёт себе первого любовника, и полгода до того, как уйдёт от мужа. Но Валера всегда будет помнить: их развод начался тем самым воскресным утром, начался со слов «от всего можно отказаться».
* * *
Будильник, как всегда, звонит в семь. По привычке Валера тянет руку к изголовью, где должна быть тумбочка, – рука проваливается в пустоту и уже у самого пола прерывает механическую трель. Ну да, опять забыл, что спит не в своей кровати, а на кухне, на раскладушке.
Валера включает электрическую плиту – пусть нагреется – и идёт в душ. Хорошо, что Алла не встаёт так рано, можно спокойно ходить по квартире в одних трусах, как привык, а иначе было бы неловко: вдруг подумает, что он хочет её соблазнить?
Валера горько усмехается: Ира оставила его полгода назад, и он даже ни разу не подкатывал к другим девушкам. Живёт в полном воздержании, прям как в армии.
Валера быстро одевается, ставит на плиту сковородку, разбивает два яйца. Вот и завтрак – дёшево и сердито. А пообедает, как всегда, в школе.
Ставит грязную тарелку в раковину, заливает водой… думает: помою вечером, хотя, конечно, знает: когда вернётся, все уже будет вымыто.
Алла вообще сразу навела в доме порядок. То есть Валере казалось, что у него и так был порядок, но выяснилось, что мужской и женский порядок различаются, как инь и ян.
Про инь и ян Валера прочитал в очередной машинописи, которую дал ему Буровский: приезжая из своего Чертанова, он каждый раз привозил несколько папок с самиздатом; в этот раз вместо привычных и уже поднадоевших книг о сталинских репрессиях он принёс полученную от розовощёкой Наташи темно–синюю папку с несколькими ксероксами и слепой копией переведённой с английского книги про восточную мистику, которую Валера полистал в первый вечер, а потом задвинул в дальний угол стола… впрочем, кое–что ему запомнилось. Как минимум он узнал новые слова: вот, скажем, инь и ян.
Валера входит в школьный двор, весь усыпанный оранжевыми и жёлтыми листьями. Наверное, золотая осень – самое любимое время года в Москве, этом бессмысленном городе без моря. Иногда Валера спрашивал себя: почему я не уезжаю в Грекополь? Там наверняка тоже нужны учителя физкультуры. Но на самом деле он знал ответ: слишком много друзей живёт в Москве, вряд ли в провинциальном южном городе можно найти им замену.
Валера взбегает на крыльцо – осеннее солнце косыми лучами пробивается сквозь ало–жёлтую листву – и останавливается за несколько ступеней до конца площадки: на вершине лестницы возвышается Александра Петровна Воронцова – несокрушимая, словно дозорная башня.
– Добрый день, Александра Петровна, – здоровается Валера.
Он делает ещё один шаг ей навстречу. Ноги предательски дрожат, будто он – школьник, опаздывающий на первый урок.
– Здравствуйте, Валерий Владимирович, – отвечает Воронцова. – Вчера ведь вы опять не были на собрании?
– Так я же не член партии, – пытается улыбнуться Валера, – разве я должен?..
Серые глаза Воронцовой, увеличенные линзами очков, смотрят на него сверху холодно и прозрачно:
– Должны, конечно. Это общее собрание. Вы ведёте себя вызывающе и неуважительно, постоянно прогуливая общественно значимые мероприятия, поэтому мы решили поручить вам к следующему разу подготовить доклад о международном положении.
Он поднимается ещё на ступень – теперь они стоят почти вровень. Он видит, как луч солнца на мгновение вспыхивает в стёклах очков, словно Воронцова подмигнула ему.
– Боюсь, я опять не смогу прийти, – говорит Валера, – у меня очень много работы. Надо изучить новые методические указания, вы же понимаете? Нормативы, все такое…
Воронцова уже не смотрит на него; задрав тройной подбородок, она озирает окрестности, выискивая новую жертву. Валера проскакивает в дверь за её спиной.
По дороге в спортзал Валера заходит в учительскую поздороваться с коллегами. Ему нравится, что он работает в хорошей английской спецшколе, и, хотя дети иногда попадаются излишне заносчивые, Валера рад, что на перемене всегда может перекинуться с другими учителями парой слов про последний фильм Тарковского, обменяться впечатлениями от выставки на Малой Грузинской или обсудить то, как Давид Тухманов использует на своей модной пластинке стихи полузапретных Волошина и Ахматовой. Сегодня Валера пришёл рано – в учительской только «англичанин» Константин Миронович Грановский, один из немногих мужчин в школе.
Они здороваются, и Грановский говорит:
– Давно хотел вас спросить, Валерий Владимирович, как вам «Дом на набережной»?
Роман Трифонова про расположенный напротив Кремля Дом правительства вышел ещё в январе, номер «Дружбы народов» был нарасхват, и многие прочитали его только недавно. Валере, впрочем, ещё в марте принесли ксерокс, так что сейчас он уже успел немного его подзабыть.
– Хорошая книжка, – говорит он, – но вы же сами понимаете, в этой теме есть писатели и посильнее.
– Вот–вот, – кивает Грановский, – я то же самое сказал. Но тот факт, что это напечатали… по–моему, это положительная тенденция. Если вы понимаете, что я имею в виду.
Валера тоже кивает. Конечно, интеллигентные люди понимают друг друга без слов.
Во время уроков Валера нет–нет да вспоминает: Алла уезжает завтра. Всё–таки за три недели он привык к ней, хотя и соскучился без Андрейки.
Она позвонила в тот самый вечер, когда Буровский принёс от Наташи папку с переводным самиздатом. Они пили водку и говорили о Солженицыне.
– Жить не по лжи – прекрасный лозунг, – объяснял Буровский, – но он никогда не будет работать. Это не цель, а попытка самоутешения. Мы все знаем, что бывает ложь во спасение, значит, можно жить и по лжи, и не по лжи. Главное – знать для чего ты живёшь, а потом уже решать – как. А если человек не знает «зачем?», то никакому «не по лжи» он следовать не будет. Все это – в пользу бедных, хотя, конечно, очень привлекательно.
Валера хотел возразить, что если «зачем?» требует лгать, то это какое–то странное «зачем?», но тут как раз зазвонил телефон, и, услышав в трубке незнакомый женский голос, Валера не сразу сообразил, что говорит с вдовой своего дяди. Алла собиралась в Москву и спрашивала Валеру, может ли она у него остановиться. Валера ответил «конечно», а наутро ругал себя: зачем мне в доме посторонняя женщина? Я даже не помню её толком: виделись–то всего один раз, на проводах в армию. Кажется, она была намного моложе дяди Бориса, а юная девушка и старик всегда вызывали в памяти картину «Неравный брак», где богатый седой сановник с прямой спиной покровительственно смотрит на невесту, с трудом держащую в руках горящую свечу. Впрочем, сообразил Валера, вышедший из лагеря дядя был гол как сокол, поэтому вряд ли Алла польстилась на его деньги.
Так или иначе, делать было нечего: на эти три недели Андрей переехал к тёте Жене, Алла поселилась в спальне, а Валера – на кухне. Как–нибудь перетерплю, сказал он себе, а вот терпеть и не пришлось, и теперь Валера даже жалеет, что Алла уезжает завтра: она оказалась отличной соседкой – и не только потому, что сразу навела в квартире женский порядок, просто Алла обладала удивительным даром деликатности. Когда Валера хотел побыть один – Алла исчезала, но стоило ему подумать: «что–то давно её не видно», она появлялась то с полной сумкой неведомо где купленных огромных спелых яблок, то с билетами в ближайший кинотеатр.
Ей было лет тридцать пять, и, значит, когда она вышла замуж, дядя Борис был старше её почти в два раза. Он умер три года назад, и Алла приехала в Москву, надеясь добыть из недр КГБ дело реабилитированного мужа – то самое, на котором якобы было написано «хранить вечно». Валера сразу сказал, что шансов фактически нет, но Алла ответила, ну и ладно, почему бы ей не провести часть отпуска в приёмных и архивах?
Отпуск заканчивался через два дня, и, разумеется, никакого дела Алле так и не выдали. Ну главное, чтобы её саму не арестовали, как говорила по этому поводу тётя Женя, боявшаяся, что гостья может привлечь к Валере лишнее внимание.
Женя жила в квартире на Усачева, куда после смерти Марии Михайловны помог ей прописаться Игорь Станиславович. После Валериного развода она сильно помогала ему с Андрейкой.
– Я думал, ты вернёшься в Энск, к папе и маме, – сказал ей однажды Валера, но тётя Женя только пожала плечами: мол, с чего ты взял, мне и тут хорошо.
Этот жест запомнился Валере, и только вечером, уже засыпая, он понял, в чем дело: пожатие плеч получилось у Жени каким–то деланым, ненастоящим. Фальшь этого жеста так удивила Валеру, что он больше не заговаривал с Женей о своих родителях.
Сама Женя тоже никогда не упоминала Володю и Олю.
В прихожей Валера сразу чувствует пряный запах – Алла готовит. Все это время он удивляется, как из самых обычных продуктов, которые есть в любом магазине, можно готовить какие–то ни на что не похожие блюда. Алла говорит, что весь секрет – в специях, которые она привезла с собой, но Валера думает, что она просто знает какие–то тайные бурятские рецепты.
Так и есть: на кухонном столе – десяток глубоких тарелок, в них что–то скворчит, нежные облачка пара дрожат в воздухе. Алла достаёт из холодильника «Столичную» и сдирает крышечку.
– О, мы сегодня выпиваем? – говорит Валера.
– Последний день, – отвечает Алла, – как же без этого?
Выпивают по первой, Валера тащит в рот кусок… кстати, кусок чего?
– Это курица? – спрашивает он.
– Не скажу.
Алла часто улыбается, но это слабая, еле заметная улыбка: губы чуть–чуть растягиваются, а глаза становятся ещё уже.
– Спасибо, что приютили меня, – говорит она.
– Жалко, что у вас ничего не вышло, – вздыхает Володя, – но я предупреждал: гэбэшники своими секретами не делятся.
– Я была к этому готова, – отвечает Алла, – и, если не считать визитов на Лубянку, я хорошо провела время, посмотрела Москву.
Валера кивает.
– Я вам не говорил, но дядя Борис был для меня очень важным человеком, хотя я и видел его всего дважды. Когда я его встретил, я сначала испугался… принял его за шпиона.
– Не вы первый, – без улыбки замечает Алла, – его уже принимали за шпиона. Кажется, за японского. Я не запомнила, а дело, как вы знаете, мне так и не удалось прочесть. Там–то наверняка все написано.
Не курица. И не утка. Может быть, свинина? Или рыба?
Есть ли вообще в Бурятии рыба? – спрашивает себя Валера и продолжает вспоминать:
– А потом я услышал его разговор с отцом, и Борис сказал: где бы мы ни оказались, мы должны бороться. Не надеяться на медленные перемены, как мой папа, а сражаться, как на фронте. Мне, мальчишке, это очень запомнилось. Наверное, я тогда и решил, что не должен идти, ну, проторёнными тропами, и не стал учиться ни на химика, ни на врача, чтобы не быть похожим ни на папу, ни на тётю Женю. Сейчас иногда думаю, что это все какая–то глупость.