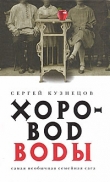Текст книги "Учитель Дымов (СИ)"
Автор книги: Сергей Кузнецов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Оленька сморщила носик. Это была одна из тех гримасок, которые она специально разучивала перед зеркалом, так что теперь она получалась у неё почти рефлекторно, мило и непосредственно – вот и Володя сразу прекратил говорить про голод и поцеловал её в переносицу.
Хлопнула входная дверь – вернулась с работы Оленькина мама.
– Я на самом деле и раньше знала, что дело к этому идёт, – объявила она, входя на кухню, – меня Роман Иванович предупредил. Ещё спросил, сколько у меня денег на сберкнижке, потому что там будут один к одному менять, а наличные – один к десяти. У нас–то ничего в сберкассе давно не осталось, так что я даже предложила ему положить своих денег на мой счёт.
Недовольная гримаска пробежала по Оленькиному лицу: мамин ухажёр был ей неприятен, хотя она и не видела его ни разу. Какой–то спекулянт, говорила она Володе, что мама в нем нашла? Хотела добавить «особенно после папы», но промолчала: что уж тут говорить? Жаль, что Володя с папой не был знаком.
Конечно, Оленька никогда не заговорила бы так при маме – Марии Михайловне было достаточно одной её гримаски, чтобы прикрикнуть в ответ: «Это ещё что такое? Я к тебе по поводу твоих кавалеров не пристаю. Хотя могла бы!»
Она метнула недовольный взгляд на Володю. Он вздохнул и посмотрел на Selza: пора было идти на завод.
Спускаясь, он встретил на лестнице Женю: теперь, поступив в мёд, она приходила домой совсем поздно, а уходила ни свет ни заря.
– Как дела у наследников Галена? – спросил Володя.
Женя устало улыбнулась в ответ. Совсем девчонку замучили, подумал Володя и, поравнявшись, похлопал её по плечу:
– Ты держись, Женька. Первый курс – всегда самый трудный.
– Спасибо! – ответила она и побежала вверх.
Хорошая девушка, подумал Володя, только застенчивая очень. Трудно ей будет найти себе парня. Познакомить её, что ли, с кем–нибудь подходящим?
Но, выйдя из подъезда, он привычно задумался о подборе катализаторов для синтеза полимеров и тут же забыл про Женю. Даже продолжая вертеть в голове формулы, в глубине сознания – а может, в глубине тела – Володя помнил тепло Оленькиных кошачьих объятий, и оно согревало его морозным декабрьским вечером.
Володя открывает бутылку: пенная струя фонтаном бьёт в зенит, женщины с весёлым визгом отскакивают, спасая праздничные платья, пробка стукается о потолок и откатывается за диван, на долгие годы затерявшись овеществлённым воспоминанием об этой ночи.
– Ну, с Новым годом! – кричит Володя, разливая шампанское.
Они все знают: этот Новый год особенный. Впервые с 1930 года 1 января снова объявлено выходным. Вот так и вышло, что целое поколение – поколение Жени и Оли – прожило детство без зимних праздников: у них не было ни Рождества, ни Нового года. Теперь праздник вернулся, а детство прошло. Так что же? Раз они взрослые, значит, можно налить им шампанского! Эх, жалко, удалось достать всего одну бутылку!
Следом за шампанским приходит черёд водки, девушки отодвигают рюмки, Володя и тётя Маша опрокидывают стопку за стопкой. Олина мама пьянеет быстро, наверно, потому, что злится на Романа Ивановича, который ни разу так и не позвонил, после того как забрал из сберкассы свои десять тысяч, удачно обменённые по курсу два к трём вместо один к десяти.
– Он же на этом тысяч пять заработал, – говорил Володя, – по совести, должен был поделиться!
Женя всегда считала, что совести у спекулянтов не бывает, поэтому, услышав про сберкассу, сразу подумала, что ухажёра тётя Маша больше не увидит: наверняка он раскидал свои деньги по нескольким доверчивым женщинам, а когда собрал урожай, то посчитал бессмысленным продолжение отношений. Конечно, Женя не стала говорить об этом тёте Маше – рассказала только Оленьке. Та привычно сморщила носик – мол, я так и знала! – но Володи рядом не было, гримаска пропала зря, а Женя вернулась к своим бесконечным конспектам и учебникам, впрочем, она была уверена, что, сколько бы она ни учила, сессию все равно провалит и из мёда вылетит.
После очередной стопки тётя Маша обхватывает Володю за шею и говорит ему, не обращая внимания на двух девушек:
– Володь, я ведь дура, правда? Надо было украсть у него эти деньги, и всё! В милицию он бы все равно не пошёл, верно?
– Вы все правильно сделали, Мария Михайловна, – отвечает Володя, осторожно освобождаясь от объятий.
– А знаешь, когда тебе сорок, а денег нет, то ты вообще никому не нужна! – продолжает тётя Маша. – Вообще! Вот скажи сам: ты умный, красивый, перспективный – правильно? И кого ты выбираешь? Мою дочку! Ещё бы! Ей же восемнадцать лет! А восемнадцать – это тебе не сорок! А ты посмотри на меня, разве я хуже?
Тётя Маша встаёт и, расправив плечи, пытается выставить вперёд грудь в разрезе декольте. Она плохо держится на ногах – не схвати её Женя за локоть, упала бы.
– Спасибо, деточка, – говорит тётя Маша, – спасибо.
Тётя Маша снова плюхается на диван рядом с Володей, не обращая внимания на Оленьку, которая прижалась к нему с другого бока.
– Гони её, Володь, – говорит тётя Маша, – в конце концов, сегодня наш праздник. Эти–то даже и не знают толком, что такое Новый год!
Женя видит, как Оленька, схватив Володину стопку, резко её опрокидывает. На этот раз она морщится всем лицом – не только нос, но лоб, щеки, даже губы.
– Перестань, – говорит Володя, и Женя даже не понимает: это он Оленьке или тёте Маше.
– Ничего я не перестану. – Тётя Маша снова пытается обнять Володю, и тут Оленька вскакивает и со слезами убегает к себе.
– Что? Не нравится? – кричит ей вслед тётя Маша, пытаясь подняться. – А ведь из–за тебя вся моя жизнь, вся моя жизнь прошла впустую! Всё из–за вас, из–за двух потаскушек! – Она тычет ярко накрашенным ногтем в Женю, и Женя смотрит с удивлением: мол, меня–то за что? я‑то тут при чем? – а тётя Маша продолжает: – Как Аркаша на фронт ушёл, так и жизни никакой нет! Сначала одну расти, потом вторая припёрлась на мою голову! Думала, вырастут, свалят куда–нибудь! Так ведь нет! Ты зачем, дура, в мёд поступала, если тебе там даже общежития не дали? Шла бы куда–нибудь ещё, уехала бы в другой город, хоть на край света – лишь бы от меня подальше! И этих двух с собой забери, чтобы я не видела их больше! Ненавижу, ненавижу вас всех, – шепчет тётя Маша и внезапно заходится в судорожных пьяных рыданиях.
– Надо отвести её в ванную, – говорит Володя.
Но Женя уже ничего не слышит, в ушах её стоит истошный крик: хоть на край света, лишь бы от меня подальше! А в самом деле, чего уж там, если куда подальше, то прямо сейчас подойти, открыть окно и сигануть вниз, пока Володя и выбежавшая из комнаты Оленька успокаивают тётю Машу в ванной. А что? Тоже выход, а другого, в сущности, и нет, потому что сессию она завалит, из мёда с позором вылетит, вот и хорошо, уедет тогда в другой город, пускай тут Володя с Оленькой поженятся, пусть живут сами по себе, а она… она будет где–то далеко… но… если она не может жить без Володи, тогда зачем вообще жить?
Как только Женя подходит к окну, Володя кричит из ванной: Женька, принеси ещё полотенце! И она бежит к комоду, открывает ящик, ищет что похуже: самой ведь потом отстирывать.
Сессию Женя всё–таки сдала: хоть и с тройками, но с первого раза. В первый день каникул она стоит напротив витрины продуктового: сколько же всего появилось! Но по каким ценам! Кило сахара – пятнадцать рублей, кило кофе – семьдесят пять рублей, кило гречки – двадцать один рубль. Может быть, и дешевле, чем было в Особторге, но все равно – страшно дорого.
Вот так и выглядит моя жизнь, думает Женя, поворачивая прочь от магазина, все, что мне хотелось бы, – рядом, но недоступно. Либо за стеклом, либо по той цене, которую я не могу уплатить. А что бы мне хотелось? Свой угол, свою семью, любимого. А мне все это показывают только на витрине: вот квартира, но не твоя, вот любимый, но не твой, вот мама – ну какая–никакая, но мама, живая мама! – и та не твоя!
С тётей Машей после новогодней ночи Женя не обмолвилась и тремя словами; да, впрочем, и раньше Оленькина мама не слишком была разговорчива с племянницей, а тут ещё сессия, так что Женя была рада бывать дома поменьше и сидеть в библиотеке допоздна.
Зря я не выбросилась тогда из окна, думает она, но сегодня эта новогодняя мысль кажется ей глупой и детской.
Женя открывает дверь, из кухни доносится громкий Володин голос, и сердце в нарушение всех законов анатомии сразу куда–то проваливается у Жени в груди, потому что она слышит, как Володя говорит:
– Мария Михайловна, я официально прошу у вас руки вашей дочери.
Кухни в конструктивистских домах плохо приспособлены для бесед вчетвером, поэтому Женя так и осталась стоять в двери, пока Володя объяснял, что два месяца назад он написал в несколько разных мест и вчера ему пришёл ответ из Куйбышевского авиационного института, где работал кто–то из его однокурсников и где, конечно, тоже нужны химики, потому что какие же самолёты без топлива и сплавов, а это все та самая химия, хотя и не совсем его, Володи, специальность, но, видимо, однокурсник расхвалил его так, что его готовы взять на работу прямо со следующего семестра и даже выделить служебную квартиру для него и – внимание! – его молодой жены. И поэтому Володя хотел бы как можно быстрее покончить с формальностями и вместе с Оленькой переехать по новому месту работы.
– А ты, Оленька, ты–то хочешь за него замуж? – спрашивает Мария Михайловна, и Оленька отвечает: «Да, конечно» – как–то даже непривычно сухо, без гримас и без смешков, и тогда её мама начинает плакать – не как тогда, в новогоднюю ночь, с подвыванием и криками, а тихими, беззвучными слезами.
Пока она плачет, все молчат, а потом Мария Михайловна достаёт носовой платок, вытирает мокрое лицо и говорит:
– Оль, ты прости меня, дуру, за все, что я тут наговорила. Может, останетесь лучше? Как–нибудь все вместе… в тесноте, да не в обиде?
И Женя тоже хочет сказать: «Оставайся», но знает, что это бесполезно, и к тому же в горле застрял ком, так что она вообще ничего не может произнести и только молча смотрит, как Оленька качает головой:
– Нет, мама, мы поедем. Не хотим тебе мешать.
Тётя Маша переводит взгляд на племянницу:
– Выходит, Женя, мы с тобой вдвоём останемся?
И Женя отвечает:
– Нет, Мария Михайловна, я тоже уезжаю. Переведусь в Куйбышевский мёд. Вроде вполне неплохой. – Говорит и сама не верит своим ушам, потому что ещё минуту назад у неё не было даже идеи о Куйбышевском мёде, но теперь как–то очевидно, что, каким бы неплохим он ни был, перевестись из Москвы в Куйбышев должно быть не так уж сложно. В крайнем случае, потеряет год. Но зато… зато они будут вместе.
– Ой, Женька, как здорово! – Оленька, подбежав, целует сестру в щёку. – А я‑то ещё думала: как я там без тебя буду?
Женя улыбается в ответ и вдруг понимает: пока мы живём в такой большой стране, у нас не может быть безвыходных ситуаций. Из любой можно найти выход, уехать в другое место, унести свою ситуацию с собой и там, на новом месте, найти выход, которого не было здесь.
Впервые за много лет она вспоминает, как плакала на маминой могиле, навсегда затерянной на чужом деревенском погосте. Ей было тринадцать, она была круглой сиротой, и деревенские, стоявшие рядом с ней, вряд ли могли ей помочь, хотя бы потому, что им не хватало еды для своих детей. Женя проплакала всю ночь, а потом, собрав все, что у неё осталось, в фанерный чемодан, отправилась в Москву, к маминой сестре тёте Маше, которую всегда побаивалась и никогда не любила. Женя позвонила в её дверь – и осталась здесь на пять лет, а теперь ей снова пора уходить, и она подходит к немолодой женщине, неподвижно сидящей, поставив локти на кухонный стол, целует в щёку, говорит: спасибо, что приняли меня, – и, поколебавшись, добавляет: тётя Маша.
Оформить документы и собрать вещи заняло чуть больше недели. Сумрачным февральским днём они прощались в просторной прихожей. Володя шутил, что у них с Оленькой – настоящий медовый месяц, даже с путешествием. Молодая жена была непривычно молчалива – как–никак, в этой квартире прошла вся её жизнь. Тётя Маша выплакала все слезы в первые два дня и к моменту прощания сумела убедить себя, что только выиграла, избавившись от двух девиц, сковывающих её по рукам и ногам.
Она обманывала себя: разлука с дочерью и племянницей сделает её ещё более одинокой. Впрочем, популярностью у мужчин она будет пользоваться много лет, куда дольше, чем рассчитывала. Никто из кавалеров не захочет остаться с ней надолго, кроме разве что одного – немолодого лысоватого бухгалтера, приехавшего с Урала в надежде осесть в Москве. Его Маша выгонит сама, узнав о романе с молоденькой сослуживицей, Оленькиной сверстницей. До конца жизни она будет говорить, что бухгалтер хотел всего лишь прописаться в московской квартире; именно этого мужчину она будет любить больше других, хотя даже ему не скажет ни про свой настоящий возраст, ни про взрослую дочь, живущую в другом городе.
Женя попрощалась с тётей Машей и, перед тем как уйти, ещё раз заглянула на кухню. На этот раз небо за окном было затянуто тучами, и Женя подумала, что больше никогда сюда не вернётся, никогда не замрёт на пороге, глядя на холодный свет зимнего солнца.
В тот день Жене не было восемнадцати.
Сегодня Евгении Александровне восемьдесят с лишним, жизнь близится к концу, но вот зимнее солнце… оно все так же светит в окно той самой кухни. Старая женщина садится напротив Андрея, опустившего коротко стриженную голову, и со вздохом спрашивает:
– Ну, рассказывай… что там у тебя случилось?
2
За всеми предотъездными хлопотами Оленька не забывала главное. Пакуя свои туфли и перешитые мамины платья в довоенный чемодан, купленный ещё отцом, уговаривая Женьку не брать с собой так много книг, всплакнув над своими детскими куклами, последний раз засыпая в своей детской кровати, тайком целуя папину фотографию в маминой комнате и прощаясь с мамой в прихожей их квартиры, Оленька помнила: она уезжает из Москвы, чтобы стать ещё счастливей. Ведь она теперь жена, она вышла замуж за самого лучшего на свете мужчину, за человека, который любит её и которого любит она! Во всех фильмах именно в этом и заключался счастливый конец: любимые соединялись, сюжет прекращался, впереди их ждало только безоблачное счастье, бесконечное, как вечность после финального титра. Вот и сейчас зачарованная принцесса дождалась своего принца, ещё немного, и он посадит её на коня и увезёт в своё далёкое королевство.
Оленька ехала навстречу счастью, но, когда они сели в плацкартный вагон, она впервые заподозрила, что сбилась с пути: ведь в мечтах она представляла, что они будут путешествовать в таком же купе, в каком она когда–то ездила с родителями в Крым. Оленька давно уже забыла дорогу в эвакуацию, как всегда старалась забывать то, что мешало ей быть счастливой, и потому путешествие в поезде так и осталось для неё детским ожиданием каникул, предчувствием лета, моря и солнца, и плацкартный вагон, пахнущий застарелым потом, грязной одеждой и немытой чужой плотью, заставил померкнуть те картины безоблачной жизни, которые Оленька рисовала себе последние недели.
Тогда она ещё не знала, что в Куйбышеве ей предстоит полтора месяца унизительных скитаний по общежитиям с их запахами забившейся канализации, сырости, плесени и неуюта, ей, никогда не жившей в коммуналках, придётся слушать ночные крики пьяных соседей, узнать, как выглядит утренняя очередь в душ и туалет, и открыть для себя общую кухню, пахнущую прокисшей едой и медленно тлеющей сварой.
Желание быть счастливой, которым Оленька так дорожила, не выдержало встречи с тем, что было повседневной реальностью для миллионов её сограждан, ей показалось, что она спустилась в ад, где её тоска и отчаяние только усиливались при мысли, что именно сейчас, во время своего медового месяца, она и должна быть счастлива, что именно этого счастья она и ждала всю свою жизнь.
Оказалось, что все Олино счастье осталось в Москве, для него не нужны были туфли и платья, для него не нужна была даже любовь – оно возникало просто от того, что утром можно было, толком не проснувшись, брести в одной ночнушке в ванную, плеснуть в лицо тёплой водой, зевнуть и потом, никого не стесняясь, пойти на кухню – на свою собственную кухню! – на кухню в отдельной квартире, где у неё есть своя собственная комната, где есть своя ванная и свой туалет, куда не ходят чужие! Только это и было настоящим счастьем, настоящей жизнью, той, которой ей, Оле, и было предназначено жить.
Когда–то, давным–давно, она обещала погибшему папе, что будет такой, какой он хотел её видеть, – умной и красивой, но главное – счастливой. Шесть лет она держала слово, но теперь, в самый неожиданный момент, ей было стыдно сознаться, что силы оставили её. Но я ведь не виновата в этом, шептала она себе, затыкая пальцами уши, чтобы не слышать ругань и скрип кровати за стеной, я не виновата, я по–прежнему хочу быть счастливой, но я не могу, я никогда не смогу быть счастлива здесь.
Как же так получилось? – спрашивала себя Оленька и снова и снова вспоминала тот Новый год, когда в своей комнате она так же затыкала уши, чтобы не слышать маминых пьяных криков и этих страшных слов – хоть на край света, лишь бы от меня подальше!
Так был разрушен кукольный домик её детства, так мама, её собственная мама, изгнала Оленьку из её волшебного двухкомнатного дворца, где она только и могла быть счастлива. И вот, давясь рыданиями, Оленька клялась себе, что больше никогда, никогда не вернётся в Москву, не переступит порог дома, где её так предали!
Оленька впервые жила в общежитии, и вместе с тем она впервые оказалась совсем одна: Женя устраивалась в Куйбышевский мёд, а Володя, прибыв на место, выяснил, что для преподавания химии в авиационном институте нет даже самого необходимого. С утра до ночи он пропадал на работе: выбивал в бухгалтерии деньги на оплату реактивов, объяснял стекольщикам, какая химическая посуда нужна ему для лабораторных, требовал от хозчасти обеспечить нормальную работу вытяжки, а вернувшись домой, садился готовиться к лекциям, с каждым днём нервничая все больше.
Согласившись в своё время на предложение КуАИ, Володя даже не подумал, что все его представления о работе преподавателя были получены из глубины студенческой аудитории: он не знал, как спланировать лекцию, как распределить материал по семестру, не знал даже, как принимать зачёты или экзамены.
В ночь перед своим преподавательским дебютом он долго не мог уснуть. Выйдя покурить в коридор (Оленька запрещала дымить в комнате), он напряжённо замер у тёмного окна и вдруг вспомнил свою первую атаку, предательскую дрожь перед рассветом, внезапное опьянение многоголосого «ура!», то волшебное и страшное чувство, когда твои ноги словно сами бегут по чавкающей глине, рот сам разевается в крике, а руки… руки сами делают важное дело убийства себе подобных. Памятью о мелком осколке, встреченном где–то в Польше, заныла левая нога, и Володя, прихрамывая, вернулся в комнату.
Он совершенно успокоился: он как будто уже знал, что будет завтра.
И действительно, он вышел к доске, обвёл взглядом лекторий, кашлянул, проверяя акустику, поздоровался и сказал: меня зовут Владимир Николаевич, я буду читать у вас курс органической химии – и внезапно понял, что видит всю аудиторию, легко различает каждого из полусотни студентов, знает, что и когда должен сказать, чтобы удержать их внимание… возможно, даже знает, какую оценку поставит каждому в конце семестра.
Он улыбнулся, взял сырой, крошащийся мел и начал лекцию.
Хотя привезённые Женей из Москвы документы были в порядке, ректорат КуМИ никак не мог взять в толк, почему москвичка из Первого мёда хочет перевестись к ним, в провинцию. В конце концов Женя сказала: «У меня сюда сестра переехала, а я с ней», что было почти правдой и вполне устроило церберов, охранявших вход в мир прозекторских, операционных и моргов. Так Женя получила студбилет и даже место в общажной комнате с тремя другими медичками, с подозрением смотревшими на серьёзную большеглазую девушку, приехавшую из самой Москвы.
Нам, выросшим во времена повальной телефонизации, трудно представить, как связывались между собою люди того времени. На вахте общежития был телефон, и Жене каждый раз надо было просить у вахтёрши чёрный эбонитовый аппарат с крутящимся тугим диском. Набрав номер общежития КуАИ, Женя звала Олю или Володю из двести тринадцатой комнаты, и потому весь их разговор слушали вахтёры двух общаг: немолодая оплывшая брюнетка из медицинского и хромой фронтовик, густобровый и вечно небритый. Максимум, что можно было сказать: я к тебе зайду через часок? – формальный и бессмысленный вопрос, Женя и так знала, что Оленька никуда не выходит, по–кошачьи свернувшись в углублении панцирной сетки и дожидаясь возвращения Володи, и, значит, можно было и без всякого звонка дойти до авиационной общаги. Но дорога в один конец отнимала почти час, март выдался снежным и холодным, занятия в институте оказались ничуть не легче, чем в Первом мёде, и потому, когда вахтёрша стукнула в дверь Жениной комнаты, чтобы позвать её к телефону, Женя поняла, что не видела Володю и Оленьку уже две недели.
Она прошла промозглым коридором, гадая, что же могло случиться – неужели просто так позвонили? – и, только услышав сквозь треск довольный Володин голос, поняла, даже не разобрав слов, что на этот раз всё в порядке и сегодня новости, если они и есть, только хорошие. И тут, наконец, Володя прорвался через электростатику помех и прокричал:
– Квартира! Нам дали квартиру!
Квартира, выделенная семье Дымовых, располагалась в старом, ещё прошлого века, доме. Когда, запыхавшись, Женя подбежала к подъезду, она увидела, что рядом с Володей и Оленькой стоит невысокий седой мужчина: круглое лицо, очки в узкой оправе.
– Знакомьтесь, – сказал Володя, – это Валя, Валентин Иванович, он–то меня сюда и вытащил. А это – Женя, Олина сестра.
Валентин Иванович протянул руку, и, пожимая её, Женя заметила, что верхняя фаланга указательного пальца неестественно искривлена влево. Женя поскорее отпустила ладонь, но все равно где–то вдоль спины пробежала покалывающая гадливая дрожь.
Они поднялись на второй этаж, Валентин открыл дверь и передал ключ Володе:
– Принимай жильё, хозяин!
Потёртая казённая мебель придавала квартире официальный и нежилой вид, и от этого Жене казалось, будто они все четверо пришли в приёмную и ожидают, пока их вызовут в кабинет, – точь–в–точь как ждала она, пока ректорат КуМИ примет решение на её счёт.
Квартира была совсем небольшая – комната, кухня и санузел. Женя подошла к окну. Во дворе дети штурмовали снежную крепость, видимо, уже последний раз в этом году: на тротуарах блестели лужицы талой воды, в них отражалось мартовское солнце.
– Надо выпить, – сказал Валентин, доставая из портфеля чекушку, и Женя пошла на кухню, где сразу же нашла в буфете несколько рюмок (и сразу выбросила одну, треснутую, – плохая примета).
Валентин разлил, мужчины выпили. Оленька с погасшим лицом опустилась на диван: то ли у неё уже не было сил радоваться, то ли она была разочарована тем, насколько новая квартира не похожа на её московское жильё. Через пять минут Володя уже жаловался Валентину, что институтские снабженцы никак не хотят принять у него заказ на новое оборудование, и Женя, не слушая мужской разговор, ещё раз прошлась по квартире. Диван мы развернём, думала она, а стол поставим к окну, чтобы Володя за ним работал. Тот стул выкинем: все равно он вот–вот развалится, не дай бог кто–нибудь шею себе свернёт. Посуды ещё купим, видела на барахолке совсем недорого. А вот сюда прибьём что–нибудь, пальто вешать… хотя бы гвоздь или крюк какой–нибудь… Женя деловито ходила мягкой хозяйской походкой из комнаты на кухню, а потом назад в комнату, и постепенно под её взглядом квартира оживала: ведь это был первый дом, который был именно её – не мамы с папой, не тёти Маши, а именно её, Женин. Теперь только она решала, что и как здесь будет, и радость поднималась в её душе мелкими шампанскими пузырьками. Лишь на секунду Женя замерла: постой, это ведь не твой дом, это дом Володи и Оленьки! – но она тут же улыбнулась и поспешила дальше: ну и что, что Володи и Оленьки, не они же, в самом деле, будут его обустраивать? Володя весь день на работе, а Оленька… ну, я с ней пять лет в одной комнате прожила, она и в родном доме не знала, где тарелки стоят!
Женя не слушает разговора мужчин, но с кухни доносятся отдельные реплики:
– …настоящая утопия для настоящего учёного…
– …это утопия, скрещённая с гетто…
– …только так и может существовать настоящая утопия!
Пройдёт много лет, пока Женя сложит все воедино и поймёт, о чем говорили Володя и Валентин, а сегодня, когда они останутся втроём, она будет рассказывать, что собирается передвинуть, что выкинуть, а что купить заново. На кухне Женя покажет, где тарелки, а где приборы, что надо бы поменять при случае, а чего не хватает уже сейчас – полотенце! на кухне должно быть своё полотенце! – и, уже завершая неожиданную экскурсию, кивнёт на деревянную скамью у стены и скажет:
– А вот это прямо сегодня надо вынести, лучше ещё пару табуреток купить.
– По–моему, нормальная скамейка, – возразит Володя, немного ошарашенный Жениным напором, но все же улыбаясь – той самой своей улыбкой.
– Нормальная, да, – кивнёт Женя, – но мы сюда вечером раскладушку будем ставить.
– Зачем раскладушку? – удивится Володя.
В ответ Женя только пожмёт плечами.
– Я буду на ней спать, – скажет она. – Зачем же ещё?
Пару лет назад Володины трофейные Selza внезапно остановились. Он отнёс их к старому часовщику, который снял заднюю крышку, продул и почистил внутренности. Часы затикали снова, а старик показал Володе скрытую внутри корпуса пружину, которая, скручиваясь и расправляясь, приводит в движение сложный часовой механизм.
С тех пор Володя часто думал, что такая же сжатая пружина – пружина его тайной тревоги – даёт ему силы и определяет его поступки. Он изучал химию в университете, выбирал себе специальность на старших курсах, искал работу, ехал в эвакуацию и на фронт, возвращался на завод и увольнялся с завода – и внутри, подтверждая верность каждого шага, пощёлкивала взведённая пружина. Иногда по ночам, прислушиваясь к храпу попутчиков или соседей по общаге, Володя улавливал её напряжённую вибрацию и не мог уснуть от постоянной, неослабевающей усталости.
Когда он увидел Оленьку впервые, она показалась ему прекрасным видением, пришелицей из далёкой и полузабытой жизни, из тех времён, когда будущее казалось ясным и беспечным, когда ему не исполнилось и шестнадцати, он был мальчишкой, мечтавшим о славе и любви, был, фактически, ровесником этой девушки. Он стал приходить к Оленьке домой, потому что рядом с ней его тревога успокаивалась, пружина теряла свой напор, будто Оленька заражала его своей лёгкостью, радостью и беспричинным счастьем. Володя глядел в её бездонные голубые глаза, и впервые за много лет ему померещилось, что он обрёл покой.
Но длилось это недолго. Однажды ночью Володя проснулся, как просыпаются от кошмара: холодный пот, задыхающееся от бега сердце, боль в грудной клетке. Он пытался вспомнить, что ему приснилось, но не смог и, только когда это повторилось на следующую ночь, понял: никакого кошмара не было, это с утроенной силой вернулась покинувшая его тревога и от этого пружина в груди сжалась так, что стало больно дышать. Внутренний механизм, определявший жизнь Володи, разладился, и вместе с ним в любой момент могла разладиться и сама его жизнь.
Мне надо перестать с ней видеться, подумал Володя, но на следующий день он снова сидел на маленькой кухне и пил чай. В тот вечер он старался не встречаться с Оленькой глазами и потому впервые обратил внимание на Женю: она была неглупой и забавной, похожей на взъерошенную птицу, но в её больших карих глазах скрывалась грусть, такая же бесконечная и беспричинная, как счастье, сквозившее в глазах Оленьки. Стоило Володе встретиться с Женей взглядом, как его внутренний механизм, умолкший за последнее время, заводил позабытую песню тиканья и щелчков, и ночью Володя спал привычным некрепким сном, избавленным от внезапных панических пробуждений.
Так Володя понял, что, одновременно находясь рядом с обеими девушками, он не выключает свою тревогу, а всего лишь приглушает её, смягчает. Глядя на Оленьку, Володя начинал верить в возможность безмятежного счастья; переводя взгляд на Женю, он снова вспоминал, что счастье недостижимо. Эти колебания позволяли Володе ежедневно калибровать свой внутренний механизм, подбирая правильную балансировку, защищая от внезапных скачков, предотвращая выход из строя.
Все изменилось тем летом. Когда они познакомились, Оленька была ещё девочкой, но за полгода любовь – или просто возраст? – превратили её в красивую молодую женщину, статную и соблазнительную. Холодную кукольную красоту сменила тёплая, кошачья грация невинных ласк и девичьих поцелуев, и вот уже на смену недавно обретённому Володей радостному спокойствию пришло жгучее желание, желание взрослого мужчины, давно познавшего плотскую любовь.
Теперь он смотрел на Оленьку другими глазами: вместо призрачного видения перед ним была женщина из плоти и крови, женщина, не до конца осознающая природу своей новой красоты и оттого ещё более притягательная и манящая. Каждое её заурядное движение, полусонное, медленное и текучее, теперь казалось Володе слабым отблеском грядущих ласк, обещанием той последней близости, до которой он не допускал ни себя, ни её. Если бы они были сверстниками, они давно бы уже оказались в одной постели, но он был взрослым мужчиной, а она – недавним ребёнком, и потому Володя не делал даже попытки продвинуться дальше поцелуев и целомудренных объятий.
Так тревога снова вернулась к нему, и теперь это была тревога не только за себя, но и за Оленьку, может быть, даже и за Женю.
Володя знал, как непрочно то, что связывает двух людей, и, возможно, поэтому ему хотелось, чтобы их с Оленькой первая ночь была исполнена торжественности и даже некой церемонности, которые навсегда выделили бы её из череды заурядных дней человеческого бытия. Столетия назад для этого придумали венчание, но, отменив Бога, советская власть отменила и старые обряды, и вот накануне отъезда в Куйбышев они вместо свадьбы просто зашли в загс и быстро расписались. Было бы странно приурочить их первую ночь к такому скучному бюрократическому событию, и Володя решил подождать, пока они приедут в Куйбышев, где их ждала отдельная, их собственная квартира.
Разумеется, их собственная квартира принадлежит не им, а КуАИ, да и вообще, частная собственность на жильё, вероятно, отомрёт ещё до полного построения коммунизма: Володя недавно услышал об этом, проходя мимо аудитории, где старый большевик Мензуев читал лекции по «Краткому курсу ВКП(б)», услышал и поморщился, поскольку уже считал эту, ещё неполученную, квартиру только своей, его и Оли.