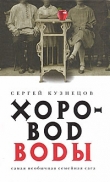Текст книги "Учитель Дымов (СИ)"
Автор книги: Сергей Кузнецов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В апреле Женя заметила, что не всегда может вспомнить, где была несколько минут назад – так она догадалась, что иногда засыпает на ходу. Её дни проходили в тревожном сумраке между сном и явью, моменты осознанного бодрствования были редкими и внезапными, во время одного из них она увидела, что уже несколько минут тычет соской в раскрытый учебник анатомии, и тут же разрыдалась так громко, что Валерик из кроватки посмотрел на неё с удивлением и, как ей показалось, даже с уважением.
Но, возможно, его взгляд ей только почудился.
Она рыдала, с кухни прибежал Володя, обнял, погладил по взъерошенным волосам, спросил:
– Ты что, боишься не сдать сессию?
Женя кивнула, всхлипывая.
– Ну так не сдавай, – сказал он, – возьми академ. Зимняя сессия у тебя неплохая, объяснишь ситуацию, все поймут. В крайнем случае – я позвоню.
– А так можно? – спросила Женя, боясь спугнуть растекавшуюся по телу тёплую спокойную волну.
– Конечно, – пожал плечами Володя, – извини, я раньше не догадался сказать. Тоже не высыпаюсь, наверное.
За две недели Женя обо всем договорилась в деканате и оттого, что больше не надо думать об экзаменах, весь май была переполнена счастьем – немного неуместным, если учесть, что Володя до позднего вечера принимал зачёты и лабораторные и спали они по–прежнему несколько часов в день.
Потом наступила сессия, за ней – каникулы. Вдвоём справляться с Валериком стало куда легче, но Женя знала: осенью Володя вернётся в свой институт, и потому сейчас, когда он сказал: «Я просто не понимаю, что мы будем делать в сентябре», Женя поднялась и сказала:
– Пойдём домой. Нам Валерика через полчаса кормить.
Ей казалось: ещё одно слово о сентябре – и она разрыдается.
Они пошли вдоль берега Волги, левой рукой Володя катил коляску, а правой неожиданно взял Женю под руку.
– Спасибо тебе, – сказал он, – я думал, если я об этом не поговорю, то просто сойду с ума.
Последние недели Оля вела себя так тихо, что, вернувшись, они даже не сразу поняли, что её нет дома, – только старый халат валялся на диване, там, где она обычно лежала.
– Господи, господи, – нелепо, по–стариковски запричитал Володя, – куда она ушла, в чем же она ушла?
Женя открыла шкаф: все было на месте, кроме самых любимых Олиных туфель и купленного прошлым летом шёлкового платья, изумрудно–зелёного, с огромными красными маками.
– Господи, – повторил Володя все так же растерянно, – что ж она вырядилась, как в театр? Где нам теперь её искать?
– Может, заявить в милицию, пусть помогут? – предложила Женя.
– Нет, милиции не надо, – сказал Володя своим обычным голосом, – только милиции нам и не хватало!
Надеть шёлковое платье! Самые любимые туфли! Расчесать волосы, чтобы спадали на плечи светлой волной! Взять с собой только ключи – ни коляски, ни сумки… выйти на улицу просто так, без цели.
Что может быть лучше!
Оля идёт по городу, и ей кажется – она в Москве. Вместо псевдорусских башенок Драмтеатра она видит Исторический музей, вместо цилиндрического клуба им. Дзержинского – клуб завода «Каучук», а скупые конструктивистские плоскости превращают Дом Красной армии в её дом на Усачевке.
Родная Москва прорастает сквозь Куйбышев, превращая город изгнания в вечный и неизменный город Олиной судьбы, город, где она была счастлива, беспричинно, безответственно счастлива. Она не знала тогда, что будет изгнана из родного дома, не знала, что будет мыкаться по общежитиям, не знала, что чужое существо, по какой–то нелепой ошибке считающееся её сыном, заявит права на её тело и её жизнь.
Оля вспоминает последние полгода, ей кажется, это один безбрежный чёрный день, глухой, как беззвёздная ночь, пронизанный отчаянием, прочерченный болью.
Но сегодня светит солнце, ветер развевает светлые волосы, можно забыть прошлое и глазеть по сторонам. И вот шаг за шагом этот город, весь год казавшийся Оле нелепостью, недоразумением, местом добровольной ссылки, предстаёт перед ней таким, каким его любят местные: полузабытой, почти мифической Самарой, сквозь которую прорывается к будущему новый Куйбышев–град, с его конструктивистскими зданиями, научными институтами, промышленными производствами. Не город купцов, а город учёных, рабочих, врачей. Тайная, запасная столица СССР, неслучайно принявшая во время войны правительство.
Оленька идёт по набережной, прохожие улыбаются, она улыбается в ответ. Когда–то, давным–давно, именно так она и познакомилась с Володей. Она была тогда совсем молодой и глупой – сегодня она бы ни за что не позвала незнакомца к себе домой.
Оля смотрит, как лучи заходящего солнца окрашивают багровым низкие облака, и вдруг понимает: уже настал вечер. Пора возвращаться, говорит она себе и идёт домой лёгкой, летящей походкой юной девушки.
Оля открывает дверь: Женя кормит Валерика, Володя сидит за столом, подперши круглую голову руками, и встаёт, завидев Олю:
– Боже мой, где ты была?! Я полгорода обегал…
– Я просто гуляла, – улыбается Оля, – давно никуда не выходила, совсем забыла про время. Прости, не сообразила, что надо было сказать…
Володя подбегает к ней – на мгновение Оля пугается: сейчас ударит! Но нет, он обнимает её, прижимает, тычется лицом в светлые вьющиеся локоны – и вдруг плачет, горько, навзрыд, почти как голодный Валерик.
– Так вот наш сын в кого! – Оля тоже обнимает Володю. – Не плачь, что ты. Все же хорошо, ничего не случилось.
– Я так испугался, – сквозь всхлипы говорит Володя, – я думал, ты…
Женя, продолжая кормить Валерика, молча выходит на кухню. Володя и Оля опускаются на диван, почти не размыкая объятий.
– Мне просто хотелось погулять, – говорит она, – я чувствовала себя такой никчёмной последнее время… а теперь все хорошо.
– Оленька, любимая, – отвечает Володя, вытирая лицо тыльной стороной ладони, – конечно, я так рад, что все хорошо, это здорово, что ты погуляла. Я просто хотел тебе сказать, ну, что когда ты лежала здесь, на диване, то это тоже было хорошо, ты же была со мной, была с нами.
– Какая польза, что я была с вами? – вздыхает Оля. – Я же видела, вы с Валериком убивались день и ночь, а я…
– При чем тут польза? – говорит Володя. – Разве от красоты должна быть польза? Какая нам польза от пения птиц? От заката? От синего неба?
– Но я же не небо и не закат, – улыбается Оля.
– Для меня ты и птицы, и закат, и небо, – отвечает Володя. На лице его нет ни тени улыбки, а глаза смотрят серьёзно и печально. Он молча глядит на Олю и добавляет: – Ты делаешь мою жизнь счастливей просто тем, что ты со мной.
Женя сидит на шаткой кухонной табуретке, прислонившись, чтобы не упасть, к стене. Одной рукой она держит Валерика, другой суёт бутылочку. Валерик сосёт плохо, вертит головой направо и налево.
Оказывается, очень неудобно кормить младенца, сидя на табуретке.
Женя старается не слушать, но до неё все равно доносятся всхлипы и Володины слова про любовь, про счастье, про мне никого не нужно, кроме тебя. Что отвечает Оля, Женя не может разобрать, да оно, наверное, и к лучшему.
Наступает тишина, младенец, выпустив соску, глубоко и сосредоточенно моргает, как всегда перед тем, как уснуть, и Женя тихонько его укачивает, но тут из–за стены доносится уже позабытый звук скрип–крип, скрип–крип, впервые за много месяцев, первый раз после рождения Валерика.
Оказывается, с младенцем на руках очень неудобно затыкать уши, понимает Женя и удивляется внезапно проявившемуся во рту горькому, горклому вкусу.
Но она не двигается с места и только продолжает укачивать Валерика, невольно все больше и больше попадая в такт звукам из соседней комнаты.
* * *
Ясным летним вечером 1954 года Женя спускалась по высокой лестнице мединститута. Двое ждавших внизу молодых людей сразу заметили её. Один из них, невысокий кудрявый брюнет в лёгком парусиновом костюме и светлых сандалиях, помахал ей рукой.
– Привет, мальчики, – приветствовала их Женя, – как там ваши самолёты?
– Первым делом, первым делом сдать зачёты, – пропел его спутник на мотив из «Небесного тихохода», – ну а самолёты могут подождать.
– Без рифмы не смешно, – сказал брюнет.
– Тут есть рифма, просто она в первых строчках, – ответил второй юноша, – дай минутку, и я придумаю.
– Похоже, Игорю надо было идти в литературный институт, – сказала Женя.
– Если такой есть, – заметил брюнет.
– Точно есть, в Москве. Я слышала, когда там жила.
Женя легко произносит эти слова, но уже сама не верит, что когда–то в самом деле жила в Москве. Это было давным–давно, с какой–то другой девушкой. У неё даже не осталось там никаких знакомых, если не считать тёти Маши, с которой они исправно поздравляют друг друга с Новым годом и Днём Революции. Странная она, тётя Маша: когда Женя написала ей, что у неё родился внук, она не только не предложила приехать, но даже не попросила прислать фотографию и ни разу за шесть лет не спросила, как у него дела. А могла бы, хотя бы из вежливости.
– Потому что мы с тобою не пилоты, нынче госы мы готовимся сдавать, – пропел Игорь, и его приятель тут же откликнулся:
– Первым делом, первым делом сдать зачёты, ну а самолёты могут подождать!
– Да мы с тобой просто как Лев Миров и Марк Новицкий, – рассмеялся Игорь.
– Как Тарапунька и Штепсель, – сказала Женя.
– Как Миронова и Менакер, – предложил брюнет.
– Главная проблема с этими куплетами в том, что зачёты мы уже сдали, – заметил Игорь, – да и госы тоже.
– Значит, Грише придётся сочинить куплеты про распределение, – сказала Женя, потому что не было уже сил обманывать саму себя: заседание комиссии было назначено на эту пятницу и значит, все будет решено через два дня.
Она много раз представляла этот день: вот комиссия объявляет пункт назначения, Женя расписывается на приказе, проходит длинным коридором мединститута, пытаясь вспомнить карту: далеко ли? Сколько часов на поезде? А на самолёте? Летают ли туда вообще самолёты? – а потом приходит домой и говорит: «Ну что, ребята, давайте прощаться? Меня распределили в…» – и называет какой–нибудь город, которого Оля не знает совсем, а Володя даже если знает, то не может вспомнить, в какой части Советского Союза он затерялся.
Обычно, когда Женя доходила до этого места, она начинала жалеть себя так, что слезы щипали в носу. И потому, предлагая сочинить «куплеты про распределение», Женя чувствовала себя очень смелой – вдруг скажет и тут же разрыдается?
Но нет, она все так же улыбалась, глядя, как Гриша хмурит лоб, крутит свои чёрные кудри и глядит вдаль, изображая Пушкина, именно в этой позе растиражированного в миллионах репродукций и тысячах фарфоровых статуэток.
В конце концов Гриша взмахнул правой рукой и торжественно продекламировал:
– Оставьте распри и деление, нас ждёт одно распределение.
– Вот и неточно, – заметила Женя, – у каждого распределение своё.
– Но у каждого – одно, – возразил Гриша, – как судьба: у каждого своя и у каждого одна.
Так, подшучивая друг над другом, они дошли до набережной.
– Я, пожалуй, пойду, – сказал Игорь, – у меня ещё дела.
Женя заметила, что Гриша легонько кивнул в ответ, но, улыбнувшись, только помахала Игорю рукой.
– Мои приветы Владимиру Николаевичу, – крикнул Игорь, удаляясь.
– Передам, – прокричала Женя и, повернувшись к Грише, спросила: – Ну и что ты его отослал?
Игорь и Гриша были Володиными студентами, и Женя познакомилась с ними на новогоднем празднике, куда пришла вместе с Володей и Олей. Она любила вечеринки авиаинститута – хотя бы за то, что именно там три года назад поняла, насколько любят Володю его студенты. В тот раз, на осеннем празднике в КуАИ, посвящённом тридцать четвёртой годовщине Октябрьской революции, Володя стоял, окружённый плотным кольцом третьекурсников, у которых в последнем семестре вёл семинар по органическому синтезу. Затесавшись в их толпу, Женя сначала испугалась, что они будут говорить только о химии, но оказалось, что студенты – они и есть студенты: обсуждали Утесова и Уланову, подшучивали над каким–то Мензуевым, неизвестным Жене, и, конечно, друг над другом.
По дороге домой Женя спросила Володю:
– Скажи, а почему они весь вечер вились вокруг тебя? У нас так делают, только если очень зачёт нужен.
– С зачётами у меня это не помогает, – ответил Володя, – в этих делах я строг. Так что, думаю, им просто со мной интересно.
– Мне тоже с тобой интересно, – сказала Женя, – но не уверена, что я бы это поняла, если бы при первых встречах мы говорили о химии.
– Мы, кстати, говорили, – встряла Оля, – помнишь, каучук и все такое?
Они обменялись с Володей полувзглядом–полуулыбкой: конечно, у них были общие, отдельные от Жени воспоминания.
– С тобой, может, и да, – сказала Женя, – а со мной точно нет.
– Так я же и с ними не говорю о химии, – ответил Володя, – я их учу. Это совсем другое дело.
– Но ты их учишь химии?
– Я преподаю химию, а учу я – мыслить, потому что это единственное, чему можно научить. Можно преподавать физику, математику, немецкий язык, да хоть историю древнерусской литературы – тема не важна, важен метод и, как бы сказали немцы, рефлексия о нем. Ну а поскольку для умного человека нет ничего интересней, чем мыслить, то умным студентам интересно со мной. Вот и всё.
– А меня ты тоже учишь мыслить? – спросила Оля. – Если да, то мне кажется, у тебя не очень хорошо получается.
– Я тебя не учу, – сказал Володя, – я с тобой живу, а это разные вещи.
Женя хотела спросить: а меня? – но промолчала, потому что если Володя и учил её чему–нибудь, то только во время их редких полусекретных встреч, о которых по негласному уговору они никогда не упоминали при Оле. Не упоминали, но никогда и не скрывали, что проводят время вдвоём.
Это началось, когда Валерка был совсем маленьким: они выходили погулять, забирались в какое–нибудь тихое место, садились в беседку, на скамейку или просто на ступени. Женя качала коляску, а Володя рассказывал про институтские дела или последние прочитанные книги – он немного читал по–немецки, а в городском букинистическом магазине время от времени появлялись трофейные книжки. Видимо, какой–то библиофил привёз из Германии, а теперь распродавал по одной.
Потом Валерка подрос (и незаметно для всех перестал быть Валериком, став именно что Валеркой, озорным и немного хулиганистым пацаном), и теперь Женя с Володей просто шли после работы в одно из своих привычных мест. Женя сама не могла бы объяснить, как они догадывались, что им снова пора встретиться, – интервалы могли быть от месяца до трёх (и три, конечно, выпадали на зиму, когда все равно было бы неясно, где можно спокойно поговорить).
Жене нравились эти встречи ещё и потому, что Володя никогда не жаловался ей на сестру. Конечно, как и любая другая пара, Володя с Олей ссорились время от времени, и, живя с ними в одной квартире, Женя знала об этом, но, хотя она часто была на Володиной стороне, ей не хотелось обсуждать Олю у неё за спиной – она ведь и с Олей не обсуждала Володю. Пусть уж, говорила она себе, их ссоры будут только их, а меня они не касаются.
Впрочем, одна из этих ссор Жене хорошо запомнилась: Оля хотела сшить себе платье (ей очень хвалили портниху), Володя возразил, что платье будет слишком дорогим для его преподавательской зарплаты. Оля наморщила носик – это умение давно к ней вернулось – и сказала, что вообще–то Володя видел, кого брал в жены. При жизни папы, добавила она, мама ни дня не работала и у неё было буквально все.
Но ты же знала, что я не в наркомате работаю, как твой отец, ответил Володя.
Да, но ты мог и дальше заниматься своей химией и стать, например, академиком, сказала Оля, а ты почему–то решил сделаться преподавателем провинциального института.
Володя промолчал в ответ, но, разговаривая через несколько дней с Женей, спросил, как она думает, не нужен ли в мединституте преподаватель химии? В результате уже в следующем семестре Володя получил ещё полставки в мёде. Домой он стал приходить ещё позже, но зато Оля могла шить себе любые платья на свой вкус.
Кроме ссор с Олей, была ещё одна тема, которой Володя никогда не касался, хотя Женя несколько раз пыталась разговорить его. Ни разу за все годы он ничего не сказал ни о своих родителях, ни о родном городе… да и вообще не вспоминал ни о чем, что было до его поступления на химфак. Казалось, будто Владимир Дымов появился ниоткуда, соткавшись из летнего московского воздуха 1934 года.
Однажды Женя поняла, что точно так же он никогда не говорил в Куйбышеве о своём московском прошлом: кто–то из его студентов, будучи у них в гостях, искренне удивился, когда Женя сказала, что познакомилась с Володей в Москве.
– А как вы там очутились? – спросил молодой человек.
– Мы там жили, – ответила Оля, – все трое.
Озадаченное лицо юноши заставило Женю рассмеяться – да и вообще, когда Володины студенты приходили к ним в гости, ей часто бывало весело. Именно во время одного из таких визитов Женя разговорилась с Игорем и Гришей и вскоре незаметно для себя стала проводить с ними много времени.
Им было легко и интересно вместе: все трое были студентами, примерно одного возраста, с воспоминаниями о военном детстве и мечтами о грандиозном будущем. Гриша хотел строить космические ракеты, Игорь – разработать принципиально новый тип топлива, а Женя – всего–навсего стать великим детским врачом.
Они были молоды, им казалось, их ждёт волнующая, счастливая жизнь… и с каждым годом воспоминания о войне, голоде и смертях все реже и реже заставляли их просыпаться по ночам. Поэтому им было легко вместе, поэтому они много смеялись – и вот почему светлым вечером 1954 года Женя с таким удивлением смотрит на Гришу, сосредоточенного и серьёзного.
– Как ты думаешь, Женя, – говорит он, – куда тебя распределят?
– Понятия не имею, – отвечает она, – скорее всего, в какую–нибудь провинцию. Надеюсь, что не в глухую деревню… туда всё–таки обычно распределяют мальчиков. А тебя?
– Наверно, я могу выбирать, – отвечает Гриша, – я отличник, и к тому же – комсорг курса.
– И что ты выберешь? Казань, правильно?
Женя горда, что вспомнила, где ведутся самые главные ракетные разработки, но Гриша молчит, задумчиво глядя на то, как Волга неспешно течёт мимо них. Да, за семь лет привыкаешь к этой грандиозной реке, как, живя с самого рождения в Москве, привыкаешь к подземной красоте метро и торжественности Красной площади.
– У тебя же распределение в эту пятницу? – спрашивает он.
– Ну да, – кивает Женя.
– А у меня – в понедельник.
– На два дня больше времени подумать? – Женя улыбается, но Гриша все так же серьёзно смотрит вдаль, а потом говорит:
– Я выберу тот город, куда распределят тебя.
Почему я считала, что люди признаются в любви словами, специально придуманными ради этого признания? – думает Женя. Зачем обязательно говорить эти три затёртых слова – «я люблю тебя»? Сегодня Грише было достаточно сказать, что он поедет туда же, куда и я, и вот я стою перед ним дура–дурой, ничуть не лучше, чем если бы он опустился передо мной на колено, как Онегин перед Татьяной. Мне все равно нечего ему сказать.
Гриша переводит глаза с реки на Женю, и, краснея под его взглядом, она говорит:
– Спасибо.
– Ты знала?.. – спрашивает он.
– Разве это важно? – отвечает Женя, а сама думает: знает ли Володя, что я люблю его столько лет? И если знает, то когда догадался? Когда нас прижало друг к другу на восьмисотлетии Москвы и сердце чуть не выскочило у меня из груди? Когда я сказала, что поеду с ними? Когда осталась с ними жить, чтобы растить их ребёнка?
– Я знаю, что ты любишь другого, – говорит Гриша, – и это тоже не важно. Важно, что я люблю тебя.
А ещё важно, что тот, кого я люблю, останется здесь и не поедет со мной, думает Женя. Я давно знаю, что в этом году мы расстанемся, и просто стараюсь не думать об этом. Я училась здесь семь лет, и да, я знала, что потом должна буду уехать. Думала отработать распределение и вернуться через три года, но, может, уже хватит возвращаться? Может, действительно уехать с Гришей? Валерке уже шесть, у Оли с ним все нормально, только я помню, что она выделывала первые полгода. А что все это время я говорила себе, что они не справятся без меня… так на самом деле я уверена – Володя справится. И с Олей, и с Валеркой – со всем справится.
А вот я… как я справлюсь без них?
Но тут Гриша обнимает Женю за плечи и мягко прижимается губами к её губам.
Вот он, Женин первый поцелуй – прозрачным летним вечером, на берегу великой реки, с человеком, который готов отправиться с ней на край света.
Женя бы предпочла, чтобы это был человек, с которым на край света хотела бы отправиться она. Но Гришины объятия так нежны, а губы упруги и настойчивы, что Женя обхватывает его руками, закрывает глаза и отвечает на поцелуй.
Да, Женя много раз представляла себе этот день: комиссия, длинный коридор мединститута, сдержанное прощание, слезы шибают в нос прокисшим новогодним шампанским. Она разыгрывала эти сцены в воображении не очень часто, но все же достаточно, чтобы быть уверенной: реальность не принесёт никаких сюрпризов.
И вот он теперь, её сюрприз, ждёт у подножия лестницы, нервничает, жадно затягивается и отбрасывает папиросу, стоит Жене появиться.
Уже давно Гриша узнаёт Женю в любой толпе: быстрая, подпрыгивающая походка, вечно взлохмаченные волосы, острые коленки, локти торчат в стороны, словно Женя добавляет себе объёма, хочет казаться больше. Кошка поднимает дыбом шерсть, воробей топорщит перья, а его любимая лохматит волосы и ощетинивается худыми локтями. Она сбегает навстречу, и Гриша спрашивает:
– Ну, куда?
– Грекополь, – отвечает Женя, привыкая к тому, что теперь на целых три года это будет её адрес.
– Ну хорошо… тепло, море.
Звучит немного растерянно, нет?
Женя смотрит ехидно и говорит с улыбкой:
– Похоже, ты надеялся услышать «Москва» или «Ленинград».
Конечно, она только шутит… но если Гриша в самом деле собирается жить с ней – пусть привыкает.
– Нет, – отвечает он, – я надеялся услышать «Чукотка» или «Улан—Удэ»: если меня туда не распределят, я туда в жизни не попаду.
Они смеются, и на этот раз Женя первая тянется к его губам, вот так, прямо у входа в институт, где она училась семь лет! Теперь она взрослая, свободная женщина, может целоваться где хочет и с кем хочет!
А внутри – никаких слез, никакой жалости к себе. Вот и выходит, что поцелуи хороши даже без любви… интересное медицинское наблюдение, надо бы исследовать… но только практически, практически, без теоретической зауми, лучше вот как сейчас…
И тут Гриша отстраняется от её губ, скользит поцелуем по щеке, поднимается к уху и шепчет:
– Я люблю тебя…
Да, всё–таки трудно обойтись без этих слов, думает Женя и молча закрывает Гришин рот поцелуем.
Оля выглянула в окно: шестилетний Валерка вместе с соседским Пашей по–прежнему ковырялся в большой куче песка. Он, конечно, хотел убежать вместе с другими ребятами купаться на Волгу, но Оля ему запретила, мол, подрасти ещё да научись как следует плавать. К тому же Люська говорила, что, после того как у Ставрополя начали строить плотину, все течения Волги изменились и даже опытные пловцы иногда попадают то в водоворот, то в омут, которых раньше отродясь не было. Оля Люське верила, не зря же та обшивала не только актрис из драмтеатра, но и всех горкомовских жён – одним словом, была в курсе всего.
Из ванной, до пояса завёрнутый в полотенце, вышел Володя. Капли воды стекали по груди – голову он почему–то никогда не вытирал. Оля подошла и прижалась к мужу, влажному после душного, жаркого воздуха ванной. Володя поцеловал Олю в макушку, туда, где расходились светлые, вьющиеся пряди, осторожно обнял рукой за плечи. Ему почему–то всегда казалось, что в такие моменты в глубине Олиного тела раздаётся тихое урчание или мурлыканье, короче, звук, который издаёт довольный котёнок, когда легонько почешешь ему мохнатый, надутый животик или местечко на шее, где шёрстка гуще всего. Володя прислушался, но, как всегда, ничего не услышал. Они ещё немного постояли, обнявшись, а потом он сказал:
– Ну, давай я оденусь, а то Женя скоро придёт.
Женя пришла через полчаса, и двигалась она как–то по–особому легко, быстро, счастливо. Даже волосы, густые и чёрные, как беззвёздная ночь, были растрёпаны сильней, чем обычно. Хотя, казалось бы, куда сильней? Оля и так в глубине души была уверена, что вокруг Жени вечно дует какой–то особый, только ей предназначенный ветер – ещё бы, у всех девушек нормальные причёски, а у Жени уже через десять минут буквально не пойми что – смотреть стыдно.
– Ну как? – спросил Володя. – Распределили?
Женя счастливо улыбнулась, и Оля подумала: «Неужели в Москву?» За все эти годы сама она так ни разу даже не съездила в гости: сначала Валерка был маленький, потом, хотя Володя и работал на двух работах, не было денег… а может, Оля боялась этой поездки. Да и где бы она остановилась: у подружек, с которыми только и общего, что новогодние открытки? У мамы? Но до сих пор при одном воспоминании о том самом Новом годе что–то начинало скрестись внутри, словно просыпался какой–то мерзкий зверёк, обычно дремавший, – не то мышь, не то крыса.
– Распределили, – кивнула Женя, – в Грекополь.
– О, прекрасный город, – с деланой бодростью откликнулся Володя, – тепло, море…
На море Оля не была ещё с до войны, когда папа возил их с мамой на Чёрное море, в санаторий наркомата тяжёлой металлургии. Олю – маленькую, пухлую, светлокожую – вечно загоняли в тень под большие зонты, но она все равно норовила убежать и плескаться в полосе прибрежной пены, куда равномерно, как стрекот ходиков, накатывали волны – маленькие, как раз по пояс. А вот Женя, вспомнила Оля, кажется, вообще не была на море.
– Море – это здорово, – сказала она, – тебе понравится, я уверена. Даже завидую тебе немножко!
– Так приезжайте в гости! – Женя снова улыбнулась. – Квартиры мне сразу не обещают, но, говорят, там всегда можно снять комнату на неделю–другую.
– А может, действительно? – Оля посмотрела на Володю. – Возьмём Валерку и поедем вот прямо в августе, а?
– Боюсь, дороговато выйдет, – сказал Володя.
Он явно не хотел сейчас говорить об этом. Спрошу ещё раз вечером, подумала Оля, и тут Валерка застучал в дверь – до звонка он ещё не дотягивался, поэтому, вернувшись со двора, просто колотил кулачками и коленками в обитую дерматином поверхность. Кое–где дерматин уже лопнул, из дыр выпирала вата неприятного жёлтого оттенка.
Женя, как всегда, первой побежала открывать. Оля услышала, как она ойкнула:
– Ну ты и поросёнок! Где же ты нашёл такую лужу?
Валерка, действительно перемазанный жидкой грязью от сбитых коленок до оттопыренных ушей, пустился в путаные объяснения: если он и испачкался, то не нарочно и вообще он спасал… ещё не придумал кого, но точно спасал… из той самой лужи! Но пока спасал, он совсем не испачкался, а вот уже потом его встретили хулиганы и бросили в другую лужу, точно такую же, но ещё более глубокую и грязную, поэтому во второй раз… но тут Женя наконец загнала его в ванную, так и не услышав конец истории.
– Как Валерка без тебя будет? – спросила Оля. – Он же тебя с рождения знает! Привык небось.
– Уж как–нибудь, – ответила Женя, и Оля впервые подумала: а я‑то как?
Голодная и исхудавшая, Женька появилась у них на пороге как раз в тот день, когда у Оли случились первые месячные. В отличие от многих сверстниц, испугаться она не успела: стоило ей закричать, заметив кровь на простыне, как прибежала мама и объяснила, что это нормально, что теперь она почти взрослая, и Оля даже преисполнилась какой–то особой, тайной гордости, сидела на диване, торжественно и неподвижно, словно была драгоценной хрустальной вазой или дорогой фарфоровой куклой, какую она однажды, ещё до войны, видела у одноклассницы Люси. И тут как раз появилась Женя и больше никуда не исчезала, всегда была рядом. Если бы Оля верила в ангелов, она бы сказала, что ангел–хранитель послал ей Женю, чтобы та сопровождала её в настоящей, полной взрослых опасностей жизни. Впрочем, Оля поняла это не сразу: вот ещё, какая–то девчонка будет спать у меня в комнате! Это же моя комната, а мама меня даже не спросила! Да и потом, бывало, она шипела на Женю, а здесь, в Куйбышеве, Женя временами доводила её до истерики своей аккуратностью: чуть встанешь из–за стола, а она уже здесь, с мокрой тряпкой. Чуть выйдешь из кухни – уже шуршит веником. Даже удивительно, что такая женщина не может уследить за собственными волосами!
Володя что–то сказал про моряков, а Женя ответила, что её, скорее всего, ждут не моряки, а приехавшие на курорт дети, до волдырей сгоревшие на солнце и до поноса объевшиеся черешни, она всё–таки педиатр, а не корабельный врач.
– Когда уезжаешь? – спросил Володя.
– Через две недели, – ответила Женя.
Две недели! – ахнула про себя Оля. Две недели, и всё? И будем видеться только в отпуске? Как же так? Но вслух сказала только:
– Что же так быстро…
– Ну, у меня вещей немного. – Женя по–прежнему улыбалась, словно её вовсе не печалила эта разлука, вдруг ставшая не просто неизбежной, а реальной, уже почти случившейся. – Помнишь, мы из Москвы как быстро собрались? А там, считай, всю жизнь прожили.
Да, из Москвы они собрались быстро, но из Москвы их прогнала Олина мать, из Москвы они бежали… а откуда бежит Женя? И зачем?
– Какая всё–таки глупость это распределение! – сказал Володя. – Будто здесь не нужны детские врачи! В поликлинике каждый раз очередь на два часа: посадили бы ещё пять человек, сразу стало бы полегче!
Женя начала было объяснять, что в Куйбышеве–то каждый хочет работать, но врачи же нужны всюду, не только в больших городах, и тут приятный холодок пробежал у Оли между лопаток, как всегда бывало в те редкие минуты, когда в голову ей приходила интересная, по–настоящему стоящая идея. Она задержала дыхание, а потом осторожно спросила:
– А вообще, что там есть, в этом Грекополе?
– Ну, военно–морская база, – сказал Володя, – порт.
– А какие–нибудь вузы?
– Не помню, – пожал плечами Володя, – хотя, кажется, кто–то говорил, что года два назад там открыли филиал Одесского политеха.
Оля ещё раз вдохнула, а потом спросила хитро и улыбчиво:
– А как ты думаешь, химики там нужны?
Они гуляли обнявшись сначала под старыми дубами в Загородном парке, потом вышли на набережную и, глядя на медленно плывущий пароход, пытались представить себе Грекополь, военные корабли на рейде, пенные барашки волн и блеск жаркого южного солнца. Солнце палило вовсю, но Жене все равно было приятно тепло мужского тела, прижимавшегося к ней, когда они целовались. Наверное, это и называется «быть влюблённой», думала она и была счастлива, как никогда в жизни, потому что все складывалось как в сказке, лучше, чем она могла даже мечтать. Она представляла, как они обустроятся на новом месте: Володе и Оле наверняка дадут квартиру, а у неё с Гришей будет своя комната в коммуналке, они будут ходить друг к другу в гости, по вечерам, как и прежде, сидеть за столом и по очереди читать вслух Чехова или Тургенева, но только теперь с ними вместе будет Гриша, и по выходным они будут все вместе бегать купаться на пляж.