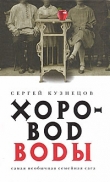Текст книги "Учитель Дымов (СИ)"
Автор книги: Сергей Кузнецов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Она так ясно видела череду этих картинок – вот они впятером пьют чай, а вот Валерка лезет в море, а Оля кричит ему: «Постой! Куда? Утонешь!», а вот они с Гришей обнявшись возвращаются от Оли с Володей к себе домой… неужели у неё будет свой собственный дом? Не дом, конечно, комната, но все равно… хотя, если она будет хорошо работать, может, ей предложат остаться? И даже дадут им с Гришей квартиру как молодой семье? Тем более если у них будет ребёнок… а ведь у нас наверняка будет ребёнок, подумала Женя и тут же спросила:
– А когда у нас будет ребёнок, ты кого хочешь – мальчика или девочку?
Гриша взглянул удивлённо, потом засмеялся, подумав: «Вот ведь, правду говорят, стоит только поцеловать девчонку, она уже прикидывает, сколько у нас будет детей!», но говорить вслух не стал, а ответил:
– Девочку. Чтобы на тебя была похожа. Маленькая и взъерошенная.
– А я, наверно, мальчика, – подумав, сказала, Женя, – мальчики мне как–то понятней. А может, я просто с Валеркой привыкла. Я тебе не рассказывала? До года Оля болела, почти им не занималась, я ему, можно сказать, вместо неё была. Поэтому и год пропустила.
– Будешь скучать по нему? – спросил Гриша.
– Почему? – удивилась Женя и тут же спохватилась: – Ой, главного же я тебе не сказала! Володя с Олей, они тоже едут в Грекополь! Там новый институт два года назад открылся, Володя уже звонил, ему сказали, что такие преподаватели, как он, там нужны до зарезу и они его готовы взять прямо со следующего семестра. Даже квартиру обещали, двухкомнатную, ну, из–за Валерки! Мы, думаю, все вместе поедем…
И тут Женя замолкает, потому что видит, как с каждым словом меняется Гришино лицо: сначала застывает улыбка, потом что–то происходит с глазами, они будто смотрят сквозь неё, а потом губы собираются в узкую щёлочку и даже рука соскальзывает с Жениной талии.
– Он тоже едет? – спрашивает Гриша.
– Так я же говорю – да! – отвечает Женя, по–прежнему глядя на него изумлённо, стараясь приглушить радость в голосе.
– Тогда ты будешь жить с ними, а не со мной, – говорит Гриша.
– Да нет, почему? – Женя пожимает плечами. – Нам же дадут комнату.
– Да неважно! – говорит Гриша. – Ты все равно будешь с ними! Я никогда тебя не видел такой счастливой, как сегодня, даже удивился сначала, а теперь я все понял – просто Владимир Николаевич тоже едет, вот и всё.
– Ну да, и он, и Оля, и Валерка. – Женя все ещё делает вид, будто не понимает, но с каждым новым словом начинает злиться все больше и больше. – Ну и что?
– А то, что ты любишь его, а не меня!
Гриша кричит, теперь они стоят друг против друга, Женя вздёргивает остренький носик и снова повторяет:
– Ну и что? – на этот раз громче, резче, злее. – Тебе же это было неважно ещё в среду?
– Было неважно, потому что он оставался здесь! А теперь важно, потому что он будет с нами!
– При чем тут вообще Володя? – спрашивает Женя, безуспешно стараясь говорить хотя бы чуть–чуть мягче. – Оля – моя сестра, мы с ней вместе с тринадцати лет, её мать меня спасла в войну, мы выросли вместе! У меня, может, вообще никого ближе Оли нет на свете! Конечно, я рада, что мы не расстанемся! Это, кстати, была её идея! Они с Володей – моя семья, и если ты собираешься меня ревновать…
– Они – не твоя семья! – Гриша хватает её за плечи. – Они – своя собственная семья, а ты, ты живёшь у них как приживалка, как бедная родственница!
– Не смей так говорить! – Женя сбрасывает его руки. – Откуда ты только слов таких набрался! «Приживалка»! Идиот!
Они стоят молча, и Женя ждёт, что Гриша опять закричит или скажет что–то обидное, и тогда она повернётся и уйдёт, да, уйдёт сама, но Гриша вдруг отвечает ей тихо и совсем спокойно:
– Ты просто не понимаешь. Ты не видишь себя со стороны, а я, ещё когда первый раз пришёл к Владимиру Николаевичу, сразу понял. Ты когда на него смотришь, у тебя лицо меняется. Как будто внутри, я не знаю, лампочку включают. Не на его жену, не на их сына – на него. Если они поедут с тобой, ты никогда и никуда от них не денешься. Ты всю жизнь так и проживёшь – их тенью.
– Но, может, я так и хочу? – говорит Женя. – Почему ты решаешь за меня, как мне жить?
– Потому что я не могу смотреть, как девушка, которую я люблю, гробит свою жизнь! – отвечает он. – И я не хочу ехать с тобой и смотреть на это каждый день.
– Значит, ты не хочешь ехать со мной? – спрашивает Женя.
– А ты – хочешь ехать со мной?
– Да! – говорит Женя. – Да, я – хочу!
– Тогда скажи им, чтобы они остались здесь!
Женя смеётся:
– Ты с ума сошёл! Они взрослые, самостоятельные люди, едут куда хотят! Как я скажу «оставайтесь»?
– А вот так, как я собирался завтра сказать «я не поеду в Казань».
– Собирался? – спрашивает Женя. – А теперь уже не собираешься?
– А теперь уже – нет, – говорит Гриша. – Если ты хочешь ехать с ними, то поезжай без меня.
И когда он говорит эти слова, Женя понимает: все кончилось, все кончилось, не успев даже начаться, – новая, прекрасная жизнь, жизнь, где она ходила обнявшись, целовалась на глазах у всех, где она была прекрасна, желанна и любима.
Она смотрит на Гришу и отвечает чужим голосом, холодным и спокойным:
– Значит, я поеду без тебя.
4
Дорога домой – вязкая, асфальтовая, дымящаяся от жара – вела в гору. Над ней поднимался тёплый воздух, заставляя колебаться городские дома на горизонте и кипарисы вдоль обочины, и оттого весь мир казался зыбким, нереальным. Валерка вспомнил, как папа говорил, что похоже устроен мираж в пустыне, и тут же стал сам себе придумывать историю про отважных путешественников, караваны верблюдов и призрачные оазисы – сюжет, вполне подходящий и для такой жары, и для того, чтобы дорога от моря не казалась бесконечно долгой.
Валерка лизнул плечо языком – здорово, солёное по–прежнему. Ему нравилось, что, даже высохнув, он уносит с собой частичку моря, и поэтому он так не любил, когда тётя Женя загоняла его в ванную. Казалось, смывая соль, он предаёт море, избавляется от него. Если бы Валерка догадался рассказать об этом папе, Володя объяснил бы, что соль, смытая в душе, как раз возвращается в море – самому Валерке эта мысль пришла в голову только через несколько лет, когда море интересовало его куда меньше медовокосой и круглопопой Зиночки из дома напротив.
Валерка вошёл в подъезд, от толстых обшарпанных стен дохнуло хоть и слабой, но прохладой. Между первым и вторым этажом он запустил руку под подоконник выходившего на улицу окна, там, в узкой щели, подцепил головку ключа и вытащил его с ловкостью, давшейся целым летом практики, – ещё весной Валерка догадался прятать ключ в подъезде, чтобы не таскать с собой на море. Если бы кто–нибудь узнал об этом, Валерка бы объяснил, что боится его потерять или не хочет, чтобы его украли хулиганы, пока он будет плавать, но на самом деле ничего Валерка не боялся, а вот мысль, что у него есть свой собственный тайник, приятно грела – или, учитывая погоду, приятно охлаждала.
Вприпрыжку он взлетел ещё на два этажа и, скользя ладонью по отполированной мальчишескими попами перилам, повернул на последний лестничный пролёт – и остановился.
На ступеньках перед их квартирой сидел незнакомец. Был он коротко, почти налысо, пострижен, одет в великоватый, видавший виды костюм и стоптанные, почти развалившиеся ботинки. Он сидел, широко расставив ноги и чуть наклонившись вперёд, упираясь локтями в колени и переплетя пальцы.
Именно эти пальцы заставили Валерку остановиться. Они были страшные – корявые и покрытые коростой, как сучья. Незнакомец посмотрел на мальчика из–под спутанных седых бровей, и Валерка увидел, что и глаза у него тоже были страшные, совсем выцветшие, почти прозрачные и очень холодные.
– Проходи, не бойся, – сказал мужчина, и от этого «не бойся» у Валерки ледяной холодок заёрзал туда–сюда вдоль позвоночника, не давая двинуться с места. Валерка лихорадочно соображал, что делать: пройти мимо, будто он идёт на другой этаж (а что потом? опять спускаться мимо страшного незнакомца?), или всё–таки рискнуть и попробовать как ни в чем не бывало войти в квартиру и потом запереться на замок, засов и цепочку и ждать папу.
Мужчина, продолжая смотреть на Валерку, спросил:
– Ты не знаешь, мальчик, Владимир Дымов не в этой квартире живёт?
– Я… я не знаю, – ослабевшим голосом сказал Валерка и на всякий случай добавил: – Я не здесь живу, я подъездом ошибся!
Он бегом припустил вниз и остановился, только пробежав два пролёта, прислушаться, не гонится ли за ним незнакомец. На лестнице было тихо, лишь в ушах что–то грохотало после быстрого бега. Валерка перевёл дыхание и спустился во двор.
Во дворе было пусто, и Валерка, с опаской поглядывая на дверь подъезда, задумался, как ему теперь быть. Он решил, что мужчина наверняка был шпионом – кем же ещё мог быть такой страшный человек в приграничном городе? Высадился ночью на берег моря и теперь пришёл к ним, чтобы… чтобы что? Чтобы думалось лучше, Валерка ещё раз лизнул плечо (все ещё солёное) и сразу сообразил: чтобы похитить папу. Папа работает в институте и точно знает кучу секретов, которые шпион должен у него выведать. Все бы у шпиона получилось, но только он, Валерка, оказался начеку: сейчас он найдёт милиционера, с ним вместе они арестуют шпиона, спасут папу, а Валерке даже дадут орден за бдительность и мужество.
Валерка уже собирался бежать на поиски милиционера, когда сообразил: а что, если папа вернётся домой, пока его не будет? Шпион захватит его врасплох! Значит, никуда бежать не надо, надо затаиться, дождаться папу и предупредить его. А дальше они вместе позовут на помощь.
Думая, положена ли ему будет медаль, если они поймают шпиона вместе с папой, Валерка спрятался за кустами жасмина и стал ждать, сев на корточки. Если бы незнакомец вышел, он бы не увидел Валерку, а самому Валерке в щёлочку между густыми, пряно пахнущими листьями хорошо были видны тяжёлые, крашенные коричневой краской двери подъезда.
Папа появился совсем быстро – милиционера можно было и не успеть найти. Заметив его, Валерка стрелой вылетел из–за куста и бросился к отцу.
– О, кто это у нас тут? – сказал папа, но Валерка приложил палец к губам и зашептал:
– Говори тише, папа! У нас дома – засада!
– Какая ещё засада? – Папа присел на корточки. – Ну–ка, расскажи мне!
Валерка и рассказал: и про незнакомца, и что тот спрашивал о Владимире Дымове – о тебе, папа! – и о том, что им надо бежать искать милиционера, чтобы арестовать этого человека, который наверняка шпион.
– Ну ты напридумывал! – рассмеялся папа. – Пойдём теперь, посмотрим твоего шпиона.
– Ты что, без милиции нельзя! Вдруг он вооружён?
– Нет, в милицию мы не пойдём, – очень серьёзно сказал папа, – да и зачем? Мы же с тобой двое сильных мужчин, я вон почти всю войну прошёл. Что мы, с одним каким–то хилым шпионом не справимся? – И он подмигнул.
Валерка предпочёл бы всё–таки поискать милиционера, но решил, что если они вдвоём задержат шпиона, то каждому из них точно дадут по ордену.
Папа вошёл в подъезд и начал подниматься, крепко взяв сына за руку. Валерке показалось, поднимались они целый час, если не дольше, но вот наконец второй этаж, ещё один пролёт и…
Незнакомец все так же сидел перед дверью их квартиры, даже позы не поменял. Но теперь, увидев папу, он поднялся (сейчас как прыгнет! – подумал Валерка), развёл в стороны свои страшные руки и вдруг очень тихо сказал:
– Володька? Не узнаешь?
И тут папа сначала вцепился в Валеркину руку, а потом, наоборот, отпустил и произнёс каким–то незнакомым, почти механическим голосом:
Борька?.. Ты? – и, отпихнув Валерку, бросился вверх. Там он схватил незнакомца за плечи и еле слышно проговорил:
– Живой! Борька, живой!
Ещё девочкой Оля замечала, что мужчины на улице смотрят на неё иначе, чем на подруг. Московскую школьницу такие взгляды, одновременно липкие и зачарованные, заставляли сжиматься и поскорей спешить домой, но к своим двадцати восьми Оля привыкла к этим взглядам, даже обрела в них источник пьянящей бодрости. В лёгком платье проходя по прокалённым солнцем улицам Грекополя, всей загорелой кожей она впитывала струящийся вслед сладкий трепетный эфир невесомых мужских взглядов. Она научилась распознавать тонкие вкусовые оттенки: когда она была с Володей, зависть, обращённая на него, привносила лёгкую нотку горечи; от толпы одиноких курортников ощутимо несло адреналином охотничьего азарта, а сейчас, миновав двух стариков, сморщенных и почти дочерна высушенных временем и солнцем, Оля на мгновение ощутила слабый аромат увядающих цветов.
Год назад, чтобы не сидеть весь день дома, она пошла работать. Валерка подрос и уже не требовал постоянного присмотра, бытовые хлопоты по–прежнему брала на себя Женя, и Оля устроилась в регистратуру одного из приморских санаториев, где отдыхали красивые мужчины в форме и при погонах. Иногда Оля представляла: будь папа жив, она могла бы выйти замуж за одного из этих блистательных молодых офицеров. Это была приятная, дразнящая мысль, но все равно из всех мужчин Володя оставался для Оли самым желанным, самым умным и единственным – любимым.
В Грекополе Володя, казалось, обрёл второе дыхание. Он как–то легко и почти незаметно защитил диссертацию, но главное, он не то чтобы нашёл ответы на вопросы, которые когда–то волновали его – как объяснить материал? как удержать внимание аудитории? как спланировать курс? – но эти ответы вдруг стали неважны. Курс был сбалансирован, аудитория внимала, учебный материал сам ложился студентам в голову. Как Володя объяснил когда–то Жене, он не учил химии – он показывал, как устроено научное знание, как работает человеческое мышление. На его лекции стали приходить студенты с других факультетов, молодые коллеги, которых с каждым годом вокруг становилось все больше, все чаще обращались за советом. Его выдвинули в методологический совет института; он отказался, не желая разрушить волшебство своей работы грубым анализом. Увидев, что он не спешит делать карьеру, руководство политеха потеряло к нему былой интерес. Постепенно сам Володя стал держаться с коллегами подчёркнуто вежливо, но отстраненно. Зато все студенты знали, что он никогда не отказывался быть научным руководителем ни на курсовых, ни на дипломах и делал эту неблагодарную работу на совесть, разбираясь в расчётах, указывая на теоретические огрехи и практические ошибки. Оля давно уже привыкла, что студенты и аспиранты ходят к ним без предупреждения: входя в дом, она привычно прислушивалась, не раздаётся ли чей–нибудь молодой голос, говорящий её мужу непонятные слова на странном птичьем языке. Она быстро научилась распознавать в потоке речи отдельные термины – например, «катализатор» или «абсорбция», но не попыталась понять, что они значат. Ей казалось, понимание разрушит волшебство, благодаря которому химические термины превращались в заклинания, а Володя возвышался до мага и кудесника.
Оля привыкла к неожиданным гостям, но сегодня, войдя в квартиру, остановилась в недоумении: на столе возвышалась початая бутылка, а Володин собеседник – крепкий, жилистый старик с густыми бровями и седой щетиной – совсем не походил на студента. К тому же её муж, обычно сдержанный и корректный, то и дело норовил хлопнуть старика по плечу и называл не иначе как Борькой. Увлечённые выпивкой и беседой мужчины не заметили Олиного появления, так что, устав стоять в дверях, она в конце концов сказала: я пришла! – стараясь, чтобы эти слова прозвучали саркастично и даже угрожающе: мол, я пришла, а вы тут что делаете?
Володя, однако, сарказма не заметил. Широко улыбаясь, он поднялся и, махнув Оле рукой, представил её:
– Это Оля, моя жена!
– Борис! – сказал старик, чуть приподнявшись.
– Очень приятно, – ответила Оля немного холодно.
– Это мой брат, – пояснил Володя, – он пока поживёт у нас. Я думаю, положим его в Валеркиной комнате.
Оля заторможенно кивнула и пошла на кухню. Достала колбасу, нарезала и положила на тарелку. Некоторое время стояла неподвижно, а потом позвала Володю: мол, помоги мне здесь. Когда он пришёл, Оля заговорила тихим, шипящим шёпотом:
– Ты с ума сошёл? Какой ещё брат? Я о нем от тебя вообще впервые слышу! Я с тобой десять лет живу, ты мне никогда ничего о своей семье не рассказываешь, и вдруг – нате! – это мой брат, он у нас поживёт! А завтра у тебя сестра объявится или мама и тоже будут жить с нами?
– Нет у меня никакой сестры, – раздражённо ответил Володя, – а мама давно умерла. Через полгода после Бориного ареста.
Оля оцепенела.
– Так твой брат, что, из этих? Из… репрессированных?
– Ну да, – сказал Володя, – я потому и не говорил.
И, подхватив тарелку с колбасой, направился в комнату.
Через час пришла Женя, и сразу оказалось, что в доме есть нормальная еда. Дымилась варёная картошка, сверкали свежевымытыми боками помидоры, пупырчатые огурцы сами просились в рот.
– Похоже, я твоего пацана напугал немного, – сказал Борис. – Он, когда меня первый раз увидел, знаешь как от меня стреканул!
– Он решил, что ты шпион, – пояснил Володя, – и собираешься меня похитить, чтобы выпытать Военную Тайну.
– Шпионом я уже был, – мрачно кивнул Борис, – кажется, японским, сейчас и не помню.
– Расскажи лучше, как ты всё–таки меня нашёл? – спросил Володя. – Ты же не знал моей фамилии!
– О, хорошая история. – Борис хрустнул огурцом и одобрительно подмигнул Жене. – В тридцать девятом, после второй посадки, мне повезло: где–то на полгода я попал на шарашку. И там, в библиотеке, в каком–то журнале по органической химии увидел знакомую рожу. Победитель конкурса студенческих работ или что–то в этом роде. Тогда–то я и понял про мамину фамилию… Это ты хорошо придумал!
Борис захохотал – ухающим, страшноватым смехом.
– А где шарашка была? – спросил Володя. – Под Казанью?
– Нет, в Тушино, – ответил Борис. – А что?
– Да знакомый у меня там был, Валя Глуховский, Валентин Иванович. Не встречал?
Борис задумался.
– Молодой такой, да? – сказал он. – В очках? Ему ещё пальцы на следствии сломали.
– Точно! – Володя стукнул ладонью по столу.
Женя ясно, как будто не прошло стольких лет, увидела кривой уродливый палец Валентина Ивановича, вспомнила гадливую дрожь, пробежавшую вдоль позвоночника. Сломали на следствии… вот оно, значит, как.
– А ты, я гляжу, профессором стал, – сказал Борис, накладывая себе картошки. – Папа бы гордился, я тебе точно говорю!
– Ну, я ещё не профессор, – ответил Володя, – только преподаватель. До профессора ещё надо поработать немножко.
– А помню, когда ты мальчишкой был, – продолжил Борис, – ты все хотел строить новый мир. Мировая революция и прочий троцкизм. Надо ставить крупные задачи! Стремиться к грандиозным целям!
Володя скривился.
– Молодой был, глупый, – сказал он. – А знаешь, когда мне расхотелось строить новый мир? В пять утра четырнадцатого марта тысяча девятьсот тридцать третьего года. Помнишь дату?
– Такое не забывается, – кивнул Борис. – Выпьем за нашу удачу! Как–никак, оба живы остались – большое дело по нашим временам!
– Я предпочитаю малые дела, – ответил Володя, – но за удачу – выпью.
Они выпили, и потом ещё, и засиделись за полночь, так что Женя ушла домой, а Валерка с Олей ушли спать. Братья допили всю водку, но все равно продолжали спорить.
– Малые дела, – говорил Володя, – вот что реально изменит мир. Достаточно революций, довольно террора. Только воспитание людей, только мелкие изменения. Шаг за шагом, медленно, но верно.
– А скажи мне, – усмехался в ответ Борис, кивая на трофейные Selza на запястье брата, – ты ведь был на фронте, правда? Не отсиживался за спинами товарищей, ходил в атаку, воевал, да?
– Все так, – кивал Володя, – и в атаку ходил, и воевал.
– Но ты же там, на фронте, не верил в мелкие изменения, шаг за шагом? Ты знал, что есть враг и нужно его уничтожить.
– Так то на фронте!
– Здесь то же самое. Мы знаем, что есть враг. И знаем, что это – наша война. Мы можем дезертировать, но мы не должны говорить, что дезертировать – это правильно. Если мы не сражаемся – это значит, мы струсили. Нас просто сломали.
Они говорят всю ночь, и всю ночь Валерка не спит, вслушиваясь в каждое слово. Он знает, это очень важный разговор, его надо запомнить на всю жизнь.
Наутро дядя Борис уже не казался Валерке страшным, может быть, потому, что был одет в папину рубашку с коротким рукавом и папины же полотняные штаны.
– Тебе, Борька, в твоём костюме нельзя здесь на улицу выходить, – сказал папа, – люди шарахаться будут.
После завтрака тётя Женя сказала строгим, как всегда не допускающим возражения тоном:
– Валерка, отведи нашего гостя к морю, покажи ему, где ты с мальчишками купаешься, а мы потом вас догоним, у нас дела по дому.
Валерка покорно кивнул: он уже давно знал, что спорить с тётей Женей бесполезно, а до переходного возраста, в котором захочется испытать это знание на прочность, оставалось ещё года четыре.
И вот они вдвоём идут знакомой дорогой, море виднеется где–то вдалеке, между вершин кипарисов.
– Дядя Борис, – говорит Валерка, – а почему вы раньше к нам не приезжали?
– А я, Валера, жил очень далеко. Долго ехать было. И адреса не знал.
– А вы путешественник? – спрашивает Валерка с надеждой, потому что если дядя путешественник, то все становится на свои места: он побывал в страшных переделках, сражался с дикарями и пиратами и немудрёно, что вчера Валерка немного напугался и даже принял за шпиона родного дядю.
– Можно и так сказать, – отвечает дядя, – уж во всяком случае, поездил я по свету немало.
– А в Москве были?
– В Москве тоже был. Совсем недавно.
– Это как в песне, знаете? – И Валерка поёт:
Я по свету немало похаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен бывал дважды заживо,
Но всегда возвращался к Москве.
Из–под лохматых бровей дядя удивлённо смотрит на Валерку:
– Откуда ты все знаешь? Это ж про меня песня! И про землянки, и про тайгу, и про два срока! В окопах только не довелось, но это твой папа за меня выполнил.
– А в Турции вы были? – спрашивает мальчик.
– В Турции не был, – качает головой дядя.
– А она совсем близко, вон там! – Валерка показывает в сторону моря. – Этот берег наш, а тот – турецкий.
– Да, близок локоть, да не укусишь, – загадочно говорит дядя.
– Почему не укусишь? – спрашивает Валерка. – Я могу!
Выгнув руку, он кусает себя за локоть – увы, никакой соли уже не осталось. Ну ничего, ещё немного – и в море!
– А ты путешественником хочешь быть? – спрашивает дядя.
– Нет! Я хочу быть химиком, как папа! – Валерка выкрикивает это с гордостью и тут же жалеет: может, всё–таки путешественником?
– Химиком – это хорошо, – кивает дядя, – а ещё лучше знаешь кем?
– Лётчиком? – пытается угадать Валерка. – Или моряком?
– Нет. – Дядя качает головой и нагибается к Валеркиному уху. – Лучше всего быть врачом. Как твоя тётя.
– Врачом… – разочарованно тянет Валерка. – Но это скучно.
– Нет, не говори, – уверенно отвечает дядя, – врачи всегда нужны, где бы ты ни был. В землянках, в окопе, в тайге. В любом, как ты их называешь, путешествии.
– И какие у нас дела по дому, ради которых мы не пошли на море с утра? – спросил Володя, когда Валерка и Борис ушли.
Женя посмотрела на него сурово. За три года жизни в Грекополе она окончательно утвердилась хозяйкой в доме, то есть стала человеком, который не только стирает, готовит и гладит, но и решает, что и как мы будем делать. В её голосе появилась мягкая, бархатная уверенность, черты потеряли былую резкость, плечи, руки и колени округлились. Угловатую девушку–подростка сменила молодая хорошенькая женщина: похоже, в её жизни, как и в жизни всей страны, голодные годы наконец сменились тучными, а может, просто помогли южное солнце, морской воздух и свежие фрукты. Впрочем, волосы на её голове так же стояли дыбом, растрёпанные невидимым для других ветром.
– А ты как думаешь? – сказала она Володе. – Садись, рассказывай. Мы с тобой десять лет живём, а, выходит, ничего о тебе не знаем.
– Что рассказывать–то? – спросил Володя, но послушно сел, куда указала Женя. – Я ж вроде вчера все сказал.
– Все рассказывать. С самого начала. Где родился, кто родители были. Как когда анкету заполняешь – всю правду.
– Ну в анкетах–то я правды отродясь не писал, – усмехнулся Володя, – но чего уж теперь…
И он рассказал – с самого начала.
Володя Карпов родился осенью 1917 года на Выборгской стороне Петрограда. Его мать окончила Бестужевские курсы, преподавала в частных гимназиях математику и естествознание. Её недоучившиеся ученики уходили в бомбисты, а Надежда продолжала верить в то, что просвещение принесёт долгожданные перемены. Октябрь 1905 года, казалось, подтвердил её правоту: на выборах в Государственную думу она голосовала за энэсов, ратовала за общинные начала русской жизни и отвергала политический террор.
Третье июня 1907 года стало для неё ударом: вера в возможность мирных перемен была почти потеряна. Надя уволилась из гимназии, но после двух летних месяцев, прозрачных, как её отчаяние, она приняла решение. Августовским утром 1907 года она отправилась на Выборгскую сторону, в школу для детей рабочих Механического завода. Взрослым, сказала она себе, уже ничем нельзя помочь. Остаются только дети.
Следующие семь лет каждое утро Надя приходила в трехэтажный дом на Нюстадской улице, открывала дверь в класс и рассказывала о тайнах математики и загадках естествознания. Десять–пятнадцать пар глаз – мальчишечьих и девчачьих – следили за ней. В огромные прямоугольные окна лился тусклый северный свет, конические плафоны покачивались на длинных проводах под высокими потолками.
Тут же, в рабочем посёлке, она познакомиться с молодым инженером Колей Карповым. Они поженятся в начале 1909 года, а в декабре у них родится сын Борис. Володя будет четвёртым ребёнком, но двое старших братьев умрут ещё до его рождения – от них ему достанутся только расплывчатые, дымные фотографии, такие же, как и от отца, всего через год после Володиного рождения ушедшего защищать новую власть. Пулемётная очередь насмерть прошьёт Николая Карпова в одной из мелких стычек на юге Украины, и он так и не узнает, что спустя восемь месяцев жена родит наконец дочку, и точно так же не узнает, что вскоре маленькая Маша умрёт от «испанки».
– Возможно, это и к лучшему, – объясняет Володя Жене, – мама всегда говорила: отец был скорее анархистом, чем большевиком. Ему бы не понравилось, что получилось.
Итак, они остались втроём. Борис был старше на десять лет, и именно он поселил в душе брата тоску по мировой революции. Вернувшись с московской конференции КСМ, где он слушал Троцкого, Борис с восторгом пересказывал шестилетнему Володе:
– Наша задача – учиться и учить других! Мы должны объединить советский коллективизм и американскую технику! И вообще надо ставить перед собой грандиозные цели, стремиться решать по–настоящему крупные задачи!
Борис был прирождённый агитатор – младший брат слушал, как зачарованный. Через несколько лет Володя уже точно знал, кем хочет быть, когда вырастет, – он вступит в комсомол, поедет делегатом на съезд, станет секретарём… одним словом, повторит путь Бориса. Едва научившись читать, Володя изучал Маркса, Ленина и Бухарина. С энергий и работоспособностью, так хорошо знакомыми Жене, он имел все шансы сделать прекрасную карьеру и в двадцать лет сгинуть в мясорубке Большого Террора. Как мотылёк на свет электрической лампы, Володя двигался навстречу своей судьбе, но в марте 1933 года молодой и подающий надежды выпускник Института красной профессуры Борис Карпов был арестован, обвинён в троцкизме и осуждён на пять лет лагерей.
Шестнадцатилетний Володя был потрясён. Лестница, по которой он долго поднимался, вдруг оборвалась: под ногами больше не было ступенек, только пустота. Он не знал, куда идти, – оставалось только падать.
Неделю Володя сидел в углу комнаты – наверно, так же, как тогда, летом 1907 года, сидела его мать, – и за ту неделю тревога угнездилась в его груди сжатой пружиной, на долгие годы определившей его судьбу. Она и подсказала ему первое самостоятельное решение: он не повторит ошибок брата. Не будет вступать в партию, не будет ставить грандиозных задач, не будет менять мир. Он выберет что–нибудь простое и надёжное, займётся чем–нибудь, где существуют правда и ложь, где вчерашние истины не могут сегодня оказаться преступлением.
Наука казалась подходящим решением. Математика выглядела слишком далёкой от реальности, биология и физика тоже не привлекали, и Володя выбрал химию.
Мать умерла через полгода после ареста старшего сына, но незадолго до смерти, вспомнив, как строится конспиративная работа, выправила себе и Володе новые паспорта, прибегнув к помощи одного из своих бывших учеников–рабочих. В этих паспортах они были записаны под её девичьей фамилией – Дымовы.
– Это меня и спасло, – говорит Володя. – Когда в тридцать седьмом забирали всех, кто хоть как–то был связан с троцкистами, меня было уже не найти, а то отправился бы я следом за Борькой. Но все равно все эти годы я боялся, что меня разоблачат, разорвал все связи с Питером, переехал в Москву, даже вам не говорил о брате… да и что было говорить? Я был уверен, что Бори уже нет. А он, гляди–ка, выжил…
Женя смотрит на Володю. Вот почему он не дал назвать сына Борей, понимает она. Это имя было бы вечным напоминанием о брате, напоминанием, что жизнь может измениться в один день.
– Знаешь, – говорит она, – я все эти годы часто вспоминала наш с тобой разговор, ну, ещё в Москве. Я тогда спросила, всегда ли ты хотел заниматься наукой, а ты сказал, что хотел изменить мир, а теперь уже не хочешь.
Володя кивает.
– Да, я и Борьке то же самое вчера сказал. А потом почему–то подумал… вроде, получается, я и сейчас его меняю.
– Это как? – удивляется Оля.
– Учу студентов, – говорит Володя, – уже десять лет скоро. Посчитай сама, сколько их у меня было! Может, когда–нибудь все вместе они изменят мир.
Женя кивает. Да, десять лет. Десять лет они вместе. Значит, Володе в этом году исполнится сорок. Женя смотрит на него и видит, как в Володином лице, словно на фотобумаге под действием проявителя, проступают черты старшего брата, проступают как предсказание, как отпечаток грядущей старости.
Папа говорит, что камни на берегу круглые, потому что море обточило их, убрало все лишнее. Валерка скидывает сандалии и босыми пятками бежит по обжигающим камням. Вода у берега вскипает белой бархатной пеной.
– Дядя Боря, идите купаться! – зовёт Валерка, по колено стоя в солоноватой, прохладной, счастливой воде Чёрного моря.
Борис неподвижно стоит там, где его оставил Валерка. У его ног – скомканная майка и два сандалика, один упал кверху подошвой, другой – боком.
– Иди, пацан, поплавай, – говорит Борис, – я тут посижу. Я моря четверть века не видел, тебе не понять.