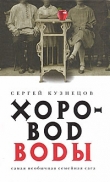Текст книги "Учитель Дымов (СИ)"
Автор книги: Сергей Кузнецов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Когда–то Женя мечтала жить в этом кукольном доме, но теперь, когда её мечта сбылась, она увидела, что ежедневная жизнь обитателей сказочного дворца мало отличается от жизни коммуналки, где она провела своё детство.
Мария Михайловна и Оленька точно так же стирали бельё, мыли пол, чинили прохудившиеся чулки, стояли в очередях, и постепенно Женя взяла на себя все эти дела, такие привычные, напоминавшие о том времени, когда мама ещё была жива. После двух лет в деревне это было совсем не трудно, и, в конце концов, это был единственный способ, которым она могла выразить благодарность тёте Маше и Оленьке.
Казалось, Мария Михайловна не замечала Жениных стараний – вероятно, так же до войны, пока ещё был жив её муж, она не замечала приходящую прислугу, а вот Оленька не забывала поблагодарить сестру лёгким полунаклоном головы и той самой улыбкой, от которой по–прежнему вздрагивало Женино сердце.
Когда–то Женя мечтала быть похожей на свою двоюродную сестру, но, оказавшись с ней в одной комнате, поняла, что мечта её недостижима. Дело не в перешитых шёлковых платьях, не в блестящих туфлях, даже не в волнистости светлых волос и фарфоровой красоте лица – Женя разглядела в Оленьке то, что составляло сердцевину её обаяния: какую–то неуловимую лёгкость, небрежность, умение принимать любые подарки судьбы как должное, как то, ради чего она, Оленька, и появилась на свет. Жене казалось, что Оленька, эта юная жительница голодной, только что пережившей войну страны, обладала удивительным даром – она умела быть счастливой. Блеск летнего солнца в свежевымытых московских окнах, жёлтые и багровые осенние листья на тротуарах, пушистый снег, падающий с неба, и трели птиц прозрачными весенними ночами – все это наполняло её радостью, и от этого весь окружающий мир представал только декорацией, призванной подчеркнуть Оленькину красоту и изящество, которые в глазах Жени не могли омрачить ни провал на экзаменах, ни несправедливая популярность среди молодых людей Оленькиных школьных подруг.
Женя любила Оленьку безответной и неутолимой любовью младшей сестры – приходя домой, она прислушивалась: дома ли? или ушла на каток? сбежала в кино, в гости к подружкам? Чаще всего Женя находила её в большой комнате перед зеркалом: Оленька репетировала, представляя Любовь Орлову. В такие минуты её было лучше не трогать, и потому Женя садилась в уголок с учебником – готовиться к поступлению в медицинский, куда собиралась этим летом, после десятого класса. Только иногда, поднимая глаза от химических формул, она любовалась сестрой.
Женя привыкла прислушиваться, входя в квартиру, и потому тем зимним днём 1947 года она сразу поняла, что Оленька на кухне: переливчатый девичий смех вторил мужскому голосу. Женя повесила на вешалку пальто (оно было маловато, как и почти все вещи, которые она донашивала после сестры), сняла валенки и повернула на кухню: она замёрзла и ей захотелось горячего чая.
Зимний свет падал из окна. Сидевший, опустив голову, мужчина показался Жене тёмным контуром, почти тенью.
Потом он поднял на неё глаза и улыбнулся.
В Жениной жизни мужская улыбка была редкостью. Как все девочки её поколения, Женя уже четыре года как училась в раздельной школе, где из–за войны не было даже учителей – одни учительницы. И мальчиков, и мужчин она встречала только на улице – если они и улыбались, то глумливой, кривоватой ухмылкой, той, которая заставляет убыстрять шаг и прятать лицо, словно от ветра или от стыда.
Но эта улыбка была совсем иной. Стеснительная и вместе с тем открытая, она как бы говорила миру: «Вот он я, мог бы быть и получше, но уж какой есть». Именно таков редкий (и оттого ещё более обаятельный) тип классической русской улыбки, в ней нет ни кокетства, ни иронии, ни скрытой угрозы. Пройдёт много лет, и Женя узнает её в хроникальных кадрах гагаринского триумфа – ещё до того, как улыбка первого космонавта перейдёт на бесконечные плакаты и открытки.
Но это будет нескоро, а сейчас Женя смотрит на незнакомого мужчину, он улыбается ей, а потом говорит:
– Здравствуй, меня зовут Владимир.
Вот так зимнее солнце морозного дня сведёт их вместе: неприкаянную послевоенную принцессу, вернувшегося с фронта солдата и бедную сиротку из старой сказки.
* * *
Аркадий Дубровин из–под чёрного банта смотрит, как его вдова, перед тем как идти на работу, красит губы у трюмо. Видишь, Аркаша, как оно все получилось, беззвучно говорит Маша мёртвому мужу, а я ведь старалась, делала, что могла, Оленьку растила такой, какой ты и хотел, чтобы она была, – умной, красивой, счастливой. Нелегко, конечно, но я же старалась, правда? И где же я ошиблась, скажи?
Не скажет. Молчит Аркадий Дубровин, теперь – мёртвая фотография, а когда–то – высокий широкоплечий красавец, вечно улыбающийся блондин, уверенный в себе сотрудник Наркомтяжмета, сначала Машин ухажёр, потом жених, а затем муж. Все Маше завидовали, все на Аркадия заглядывались – и подружки, и даже Нинка. Маша до сих пор думает, что она и за Сашу своего замуж выскочила, только чтобы от младшей сестры не отставать. Тоже, учудила – муж на пятнадцать лет старше, считай, вышла замуж за старика. Хотя, если вот теперь подумать, какой же Саша был старик? Сорок лет, через два года и самой Маше столько стукнет, нормальный, оказывается, возраст. Была бы одинокая женщина – от кавалеров бы отбоя не было, а так – кому она нужна с двумя девчонками? Была бы одна Оленька – ещё куда ни шло, но ведь и Женька тут же…
А ведь как Маша все хорошо рассчитала после Аркашиной смерти! Провела ревизию колец, брошек и серёг, выбрала, что похуже… пересчитала платья, отложила, что получше… устроилась на работу, получила хорошую категорию. Можно было не надрываться, всего хватило бы, чтобы дорастить Оленьку до конца школы, а повезёт – и до конца института. Кто же знал, что однажды утром на пороге появится замёрзшая девочка – худющая, несчастная, незнакомая… вот только на костлявом лице – огромные карие глаза, те самые, Нинкины глаза.
Ну что, Аркаша, я могла поделать? – спрашивает Маша мёртвого мужа. Я даже и решить ничего не успела, губы сами сказали: заходи! – ну и всё, не выгонять же её потом? Я тогда страшно испугалась, ты помнишь, я тебе говорила. Думала про себя, что я умная, расчётливая женщина, а тут – даже мигнуть не успела, как взвалила на себя ещё одного ребёнка. Пришлось и работать сверхурочно, и полторы ставки выпросить, и кольцо продать, которое ты мне на десять лет свадьбы подарил, – я страшно разозлилась и на себя, и на Женьку, но больше всего – на Нинку. Вышла замуж за старика, без копейки, без перспектив, да ещё, как оказалось, с больным сердцем. Эвакуировалась, как дура, в какую–то глушь и там умерла! Простудилась и умерла. Тоже мне, старшая сестра! Никакой ответственности, никакой заботы о близких.
А знаешь, Нинка, ты всегда такая была – только о себе думала. А я вот дочку–то твою вырастила, не бросила. Я её, может, в строгости держала, но ты пойми, я ведь очень напугалась тогда, я от себя не ожидала, что так сразу её в дом возьму, даже не спрошу – может, у Саши твоего родственники какие остались или ещё что? А что в строгости держала – так может, оно и лучше, жизнь–то нынче не сахар.
Маша надевает блузку, потом жакет, осматривает себя в зеркале. Нормально, для работы сойдёт; хотя на улице весна, хочется праздника, хочется одеться, как когда–то одевалась – лёгкое платье, туфли на каблуке, – и чтобы все мужчины оборачивались – ах! Но мужчин–то теперь мало осталось, вот и оборачиваются они вслед молодым, стали привередливы, как была когда–то сама Маша… им теперь совсем девчонок подавай! И тут она снова вспоминает этого Володю, а ведь она и не забывала, ни на секунду не забывала и когда про Нинкиного Сашу говорила, и когда про своё замужество – как тут забудешь, когда вокруг собственной дочки такой крутится… на двенадцать лет старше, фронтовик, без семьи, без дома. Маша так Оленьке и говорила раз за разом: Он же взрослый мужик! Ты хоть понимаешь, что это значит? Ты бы лучше со сверстниками гуляла, а то принесёшь в подоле – что делать будешь? Но Оленька только кривила губы презрительной театральной гримаской: мол, мама, что за глупости, в самом деле! Какое в подоле? Мы просто дружим, да и вообще, Женька все время с нами, мы и вдвоём–то не остаёмся. Женька, ну скажи ей, правда?
И Женька кивала, мол, да, Мария Михайловна, мы всюду втроём, мы только дружим.
И каждый вечер Маша возвращалась с работы и уже из прихожей слышала, как они втроём разговаривают на их маленькой кухне, бесконечно пьют чай и смеются, и впервые за эти годы радовалась, что когда–то взяла к себе домой Женьку, вот и хорошо, пусть теперь присматривает за сестрой, а то, неровен час, останется Оленька с этим Володей вдвоём, а дальше – знамо что!
Но вот на календаре закончилась зима, потом на улицах растаял снег, появились первые зелёные ростки, москвичи вернулись на свои огороды, разбитые где попало во дворах и парках голодного города, а Оленька, Женька и Володя стали все чаще уходить из дома, и по вечерам Маша сидела одна и думала: что же он за мужик, что с двумя все время шатается? Вот ведь сколько вокруг одиноких девушек! Нашёл бы кого–нибудь себе по возрасту, в самом, так сказать, соку, а Оленьку мою оставил бы в покое, сгинул куда–нибудь!
Но нет, никуда Володя не сгинул, все так же ходит почти каждый день, пьёт чай, смеётся, рассказывает какую–то ерунду.
Маша вздыхает, бросает прощальный взгляд на фотографию мужа и выходит из комнаты.
Эх, Аркаша, думает она, был бы ты жив – может, ты бы этого Володю отвадил? А я… Что я могу? Одинокая женщина с двумя детьми и полутора ставками на работе – где сил взять?
С началом весны они в самом деле стали то и дело уходить из дома: могли сесть на двадцать третий автобус и поехать к Крымскому мосту, гулять там по Хамовнической набережной, глядя, как трещит лёд, или, перейдя Москву–реку, отправиться в Парк культуры, а могли ни на каком автобусе никуда не ехать, а просто бродить по соседним улицам, глядя на ещё сохранившиеся деревянные дома.
Тёплой апрельской ночью Женя лежит в кровати и сквозь дрёму вспоминает, как пару недель назад они втроём пошли в Новодевичий сквер, где недавно был открыт для богослужения Успенский храм; заходить, конечно, не собирались, но было интересно поглядеть на людей, которые на тридцатом году советской власти все ещё верят в Бога. Был ясный весенний день, Володя и Оленька о чем–то перешёптывались, а Женя смотрела, как, разгребая ногами талый снег, тянутся ко входу в храм старики и старухи. Какое–то воспоминание шевельнулось в её душе – словно она, Женя, однажды уже была тут, уже шла вместе с другими прихожанами к распахнутым церковным дверям… но нет, с чего бы?
Наверно, просто померещилось; просто померещилось, а сейчас просто вспомнилось.
Женя уже почти засыпает, но тут Оленька окликает её:
– Женька, ты спишь?
– Не-а, – отвечает Женя.
– А ты тоже заметила, что Володя в меня влюблён?
Женя молчит, потом неуверенно отвечает:
– Не знаю… наверное, да. Иначе зачем он к нам все время ходит?
– Может, ему просто больше некуда пойти? – тревожно спрашивает Оленька. – Ходит, например, чтобы погреться…
– Да ладно тебе, – возмущается Женя, – сейчас уже тепло, какое там греться! Весна же!
Они молчат. Женя даже думает, что Оленька уснула, но та говорит:
– А знаешь, я, наверное, тоже в него влюбилась. Я каждый вечер засыпаю и представляю, как он завтра к нам снова придёт. Глаза закрою – и вижу его лицо. Глаза там, брови, губы… как он улыбается, как щурится на солнце… как будто мне кино показывают, представляешь?
Женя кивает в темноте, непроницаемой, как её мысли. Значит, вот это и есть любовь, думает она. Та самая, о которой в книжках и в кино. О которой старенькая учительница литературы говорила – это счастье, что не каждому достаётся в жизни.
Вот, значит, Оленьке досталось.
Только что она дальше будет делать с этой любовью? Напишет Володе письмо, как Татьяна Онегину? А вдруг он ей ответит, как Онегин Татьяне?
Хотя нет, кто же так ей ответит, такой красивой, такой счастливой?
– И я все время думаю, – продолжает Оленька, – а он меня вспоминает у себя на «Каучуке», ну, или ночью в общежитии? Рассказывает про меня своим друзьям?
Она садится в кровати. Луна светит сквозь неплотно прикрытые шторы, и Женя думает, какой красивой парой они будут – Володя и Оленька.
– Знаешь, если бы он меня позвал, – говорит Оленька, – я бы за него замуж вышла. Вот прямо сразу, без всякого там, сразу бы сказала «да!», и все!
Две девушки ещё долго шепчутся, снова и снова вспоминая, что Володя сказал сегодня, или вчера, или на прошлой неделе, или что он мог сказать, ещё скажет или, наоборот, о чем промолчит, и в конце концов Женя засыпает под голос сестры и, закрыв глаза, видит Володино лицо… глаза, брови, губы… как он улыбается, как щурится на солнце… видит ясно, как в кино.
В кино они отправятся только летом – в «Ударнике» будут показывать «Весну», первый послевоенный фильм с Любовью Орловой. На этот раз главная звезда советского Голливуда сыграла сразу две роли – актрису Веру и женщину–учёного Ирину. Володя сидел между двумя девушками, но Женя все равно слышала, как смеётся Оленька, особенным, заливистым смехом, который всегда прорезался у неё, когда она была рядом с Володей. Но когда Орлова запела о прохожем, которому и вешняя вода – ерунда, засмеялся весь зал, кроме Оленьки, и тогда Женя скосила глаза и увидела, что русая головка её сестры лежит на Володином плече, а его ладонь накрывает Оленькину руку. Весна идёт, весне дорогу! – пропела Орлова, но Жене почему–то стало грустно, и, чтобы отвлечься, она стала повторять про себя экзаменационные билеты по химии. Ещё недавно Женя представляла, как придёт к Володе и задаст ему какой–нибудь заковыристый вопрос, но теперь это не казалось таким уж удачным планом, и она повторяла билеты механически, словно заученное наизусть, надоевшее стихотворение.
Все равно я никуда не поступлю, со злостью думала Женя.
Она ошибалась – не первый и не последний раз в своей жизни. Она сдала все экзамены и с трудом, но всё–таки поступила, а вот Оленьку прокатили в театральном второй год подряд, хотя это её вовсе не огорчило: теперь все свободное время она проводила с Володей, и, приходя домой, Женя старалась громче топать в прихожей, чтобы случайно не застать целующуюся парочку в комнате или на кухне.
Похоже, даже Мария Михайловна смирилась с тем, что у её дочери роман со взрослым мужчиной, во всяком случае, уже несколько месяцев она не заводила об этом речь с дочерью, и Женя с горьким облегчением перестала сопровождать сестру на прогулки. Сначала она говорила, что ей надо готовиться к экзаменам, а потом уже Володя с Оленькой перестали её звать, и только в августе они все вместе отправились в Тушино, где в честь Дня Военно–воздушного флота проходил небесный парад.
На лётном поле были расставлены палатки с газировкой и пирожками, в голубой безоблачной выси один за другим появлялись самолёты, показывая фигуры высшего пилотажа… потом пронеслись звенья истребителей, крыло к крылу, словно одна огромная птица. И, наконец, реактивные истребители расчертили летнее небо белыми полосами – прекрасными и эфемерными, тающими на глазах.
У Жени захватывало дух, и она все время напоминала себе, что эти военные самолёты – собственно, орудия убийства – служат сегодня делу мира, показывая нашу мощь и силу врагам Советской страны. Но все равно она с облегчением вздохнула, когда в финале раскрылись сотни разноцветных парашютов, словно кто–то высыпал на лётное поле небесные цветы.
Когда они вышли с аэродрома, Оленька сказала, прижимаясь к Володе ещё теснее:
– Всё–таки, что ни говори, твой каучук – это совсем неинтересно. А вот самолёты…
Володя рассмеялся:
– Знаешь, почему я не лётчик? Потому что у них первым делом – самолёты, а у меня – девушки!
– Какие ещё девушки? – с деланым возмущением сказала Оленька.
Володя засмеялся в ответ:
– Как какие? Вот вы с Женей, – и левой рукой обхватил Женю за плечи.
Сердце тут же сделало «бум!», кровь прилила к лицу, но, кажется, никто этого не заметил.
Потом они сидели на кухне, разговаривали обо всякой ерунде, дурачились и шутили, и даже Женя смеялась, наверное, потому, что ей понравился праздник или просто вдруг на ровном месте стало прекрасное настроение, такое хорошее, какого уже давно не было, с самой весны.
Она наливала чай и любовалась на Володю с Оленькой. Женя всегда знала, что они красивые, но сейчас окончательно поняла, что они – красивая пара, будто сошедшая с афиши трофейной кинокартины в клубе завода «Каучук»: высокий, стройный брюнет и светловолосая девушка с пышными плечами и грудью, рвущейся из выреза платья. Именно их долгим поцелуем должен завершиться фильм, но вместо того, чтобы целоваться, Оленька и Володя просто смотрят друг на друга, а потом улыбаются, и их улыбки зажигаются одна от другой, как бенгальские огни, такие непохожие и такие счастливые.
Женя вспомнила, как когда–то в детстве ловила отблеск улыбки на лице сестры, а теперь эта улыбка озаряет кухню ровным радостным светом, и Женя понимает, что Оленька выросла, она больше не девочка–кукла, не сказочная принцесса… на смену застывшему совершенству пришла томная кошачья грация, полусонное, тайное, скрытое от глаз, ленивое и мягкое потягивание. Женя переводит взгляд на Володю и видит, с каким напряжённым вниманием он смотрит на Оленьку, и это напряжение, сжатое, как пружина, где–то в глубине его тела, прорывается наружу только в искрящихся глазах и чуть сжатых пальцах больших рук.
Он как будто ждёт чего–то, он все время начеку, все время настороже, вдруг подумала Женя и сама перебила себя: а может, они оба просто ждут, когда я уйду, чтобы опять броситься друг к другу?
И тут пробили часы – за стеной, в большой комнате. Оленькина улыбка погасла, и она спросила обеспокоенно:
– Который час?
Володя посмотрел на циферблат трофейных Selza.
– Уже десять, – сказал он, – чего–то твоя мама, в самом деле, задерживается, вроде она говорила, у неё нет вечерних смен на этой неделе.
Послевоенная Москва – город бандитов и налётчиков. В 1947 году их оставалось меньше, чем в 1945‑м, да и Усачева, и Хамовники – не Марьина Роща и не Тишинка, но все равно – Мария Михайловна никогда не возвращалась так поздно.
Но тут во дворе зашумела машина, хлопнула дверца, раздался женский смех – Женя с Оленькой изумлённо переглянулись, – а через минуту ключ уже поворачивался в замке.
– Мама! – сказала Оленька, выходя в прихожую. – Я уже волновалась, что ты так поздно! Что–то случилось?
– Ничего не случилось. – Мария Михайловна скинула туфли и босиком пошла на кухню. – Вы мне что, отчитываетесь, когда приходите чёрт–те когда?
– Мама, я же никогда не хожу одна… – начала Оленька, но мама махнула рукой:
– А с чего ты решила, что я одна? Я тоже не одна! – Она рассмеялась и опустилась на табуретку. – И вообще, девчонки, брысь спать! Ночь уже! А вы, Володя, наоборот, не уходите! Я, может, хочу с вами поговорить как взрослый человек с взрослым человеком!
– Пойдём, – сказала Женя и потащила Оленьку в их комнату.
Обращением «девчонки» она была удивлена даже больше, чем поздним возвращением тёти Маши и непривычным запахом вина.
Когда девушки ушли, Мария Михайловна закинула ногу за ногу, хохотнула и заговорила низким голосом, прерываемым редкими взвизгами смеха, нервного и искусственного и вместе с тем неуловимо напоминающего так хорошо знакомый Володе переливчатый Оленькин смех. Разговаривая, Мария Михайловна чуть раскачивалась, иногда наклоняясь к столу так низко, что Володя невольно отводил взгляд от её глубокого декольте. Ему хотелось поскорее попрощаться и уйти, но он не мог перебить этот запинающийся поток слов и поэтому продолжал сидеть, опустив глаза, стараясь не смотреть на собеседницу. А она говорила и говорила:
– Послушайте, Володя, мне скоро сорок. То есть как скоро? Через два года. Сорок лет. Вы представляете, что такое сорок лет для женщины? Вот вам сейчас, скажем, тридцать. Вы понимаете, у нас с вами разница в возрасте меньше, чем у вас с моей дочерью. Можно сказать, мы с вами почти сверстники. И при этом вы – молодой мужчина, а я – женщина на излёте. И от этой мысли никуда не деться. Вроде смотришь на себя в зеркало – и все ничего, все на месте… ну, вы понимаете, о чем я, да? А потом думаешь «сорок лет», и всё. Сразу понятно – ничего мне больше не светит. А ведь я совсем не чувствую себя старухой. Мне, между прочим, многого ещё хочется. И не в смысле всякого баловства, ну, вы понимаете, а внимания там, интереса. Чтобы подарки дарили. В театры приглашали. В ресторан водили… я, между прочим, сегодня первый раз за семь лет в ресторан сходила. Зато в «Метрополь»! Хотите, расскажу, что там было? Икра, рыба, американский джаз… А почему, Володя, вы не спрашиваете, откуда у меня такие деньги? Вы спросите, спросите, не стесняйтесь. Я вам отвечу: нет у меня таких денег! Это меня кавалер пригласил. Ухажёр. Даже можно сказать – ,хахаль, если вам так понятней. Роман Иванович зовут. Тоже немолодой человек. Но зато – при деньгах. Мог бы пригласить молодую, а пригласил меня. Значит, я ему чем–то приглянулась, правильно? Хотя мне уже сорок лет скоро, да! Выходит, как говорится, есть ещё порох в пороховницах! Хотя вот, например, вы, Володя… можно сказать, мой сверстник, а предпочитаете молоденьких. Вы вот с Оленькой моей гуляете, а случись что, кто отдуваться будет? Только не говорите мне, что женитесь! Куда вы на ней женитесь? В вашу общагу? Или, того хуже, ко мне в квартиру? Вот представьте – переедете вы сюда, Оленька ребёночка родит, и все это будет у меня на голове. Я и так никого к себе даже в гости привести не могу, а тут вообще… я же буду бабушка, все же об этом будут знать! А у меня ведь не так много времени осталось. Всего два года! Так что вы с Оленькой подождите с этим самым, ну, вы понимаете, о чем я, да? Что «Мария Михайловна»? Заладил тоже – Мария Михайловна, Мария Михайловна! Я же сказала: мы с вами, считай, сверстники. Зови меня просто «Маша», договорились?
В сентябре отмечали восьмисотлетие Москвы. Володя, Оленька и Женя шли в толпе, любуясь пышно освещённым городом. На площадях возвышались танцевальные площадки, на которых почему–то почти никто не танцевал.
– Мне кажется, – заметила Оленька, – здесь вообще почти нет москвичей. Ты только посмотри на них: видно же, только из деревни приехали!
В самом деле, в толпе то и дело можно было заметить мужчин и женщин, озирающихся по сторонам одновременно испуганно и взволнованно.
– Ну и что? – сказал Володя. – Почему на празднике Москвы должны быть только москвичи? Страна большая, а столица одна на всех. Это общий праздник.
Когда стемнело, они вышли на Красную площадь. Праздничная иллюминация делала Исторический и Музей Ленина похожими на старинные сказочные терема – только в этой сказке их украшали портреты Сталина и Ленина.
– Красиво! – сказала Оленька.
Володя промолчал.
Они шли сквозь толпу, и, чтобы не потеряться, Женя взяла Володю за руку и правильно сделала, потому что уже через несколько минут Оленьку куда–то оттёрли, а толпа на переходе к улице Горького притиснула Женю с Володей друг к другу. Оглянувшись, Женя увидела сестру в нескольких метрах позади, та махнула им рукой, мол, подождите меня.
Володя и Женя стояли, тесно прижавшись, почти обнявшись. Жене показалось, что у неё кружится голова – наверно, от того, сколько вокруг народу. Чтобы отвлечься, она спросила:
– Володя, скажи, а ты ещё в школе решил быть химиком?
Володя посмотрел изумлённо.
– Нет, – ответил он после небольшой паузы, – в школе меня совсем не интересовала наука, я хотел стать… я хотел заниматься другими вещами.
Не то в Володином голосе, не то в сильных руках, которыми он отгораживал Женю от толпы, вдруг снова промелькнуло то напряжение, которое она уже не раз замечала. Но на этот раз это не просто сдерживаемая сила, это скрытая тревога, словно Володя вспомнил о чем–то опасном… может быть, о фронте, о войне?
И чтобы отвлечь его от грустных мыслей, Женя заговорила быстро и легкомысленно, словно какая–нибудь фифа из американского фильма:
– Ой, а мне всегда казалось, наука – это так интересно! Я даже когда учебники читаю, так волнуюсь! Ведь учёные – это люди, которые меняют мир!
– Наука – это интересно, – кивнул Володя, – но нам только кажется, что учёные меняют мир. А на самом деле мир меняют совсем другие люди – например, те, кто принимают решения о том, как будут использованы те или иные открытия, те или иные изобретения.
– Ты имеешь в виду… руководителей? – спросила Женя, все больше входя в роль игривой дурочки и от этого забыв слово «политики».
– Можно и так назвать, – ответил Володя, – названия не важны, важно, что это люди, которые готовы принимать на себя ответственность за других людей. Люди, которые строят новый мир.
– И ты хотел быть таким человеком?
Тут толпа ещё плотнее прижала её к Володе, и сердце, как когда–то в Тушине, отрывисто стукнуло в груди.
– Ну, поначалу да.
– А потом? – спросила Женя прерывающимся голосом.
– А потом перестал, – ответил Володя и попытался отодвинуться, всем телом поворачиваясь к пробивавшейся им навстречу Оленьке.
Его движение было мягким и вместе с тем решительным, и Женя подумала, что это вовсе не была тревога, а просто Володя боялся, что Оленька потеряется, а теперь они снова все вместе, Володя обхватывает Оленьку за плечи, и они начинают выбираться из толпы, и, глядя на него, Женя думает, что Володе всё–таки удалось стать человеком, который отвечает за других, пусть даже сегодня «другие люди» – это только они с Оленькой, и все время, пока они пробираются сквозь толпу, Володя крепко держит Женю за руку, и ей даже кажется, что он незаметно пожимает её ладонь, она тоже отвечает слабым пожатием и думает: в этом ведь нет ничего плохого, мы же просто даём понять друг другу, что все в порядке, вот и всё.
Так и есть, когда через несколько минут они выбираются из толпы, Володя отпускает Женину руку.
– Уф! – смеётся Оленька. – Я чуть тебя не потеряла!
– Что ты! – отвечает Володя. – Я никогда не дам тебе потеряться!
Они целуются – впервые так открыто, на глазах у всех. У Жени внезапно портится настроение.
– Давайте пойдём домой, – говорит она, – а то я устала.
Хватит себя обманывать, думает Женя, лёжа на сундуке, который с каждым годом кажется ей все более неудобным, все более маленьким и жёстким. Не говори этого никому, но скажи себе самой: я люблю Володю. Это глупо, неприлично и, может быть, даже подло, потому что он любит Оленьку и Оленька любит его. А Оленька мне сестра и даже, наверное, подруга. Они с тётей Машей приютили меня. Они все эти годы заботились обо мне, кормили и одевали – как же я могу влюбляться в Оленькиного жениха? Ведь на самом деле Володя – Оленькин жених. Я сама слышала, как они говорили, что если бы им было где жить, то они сразу бы пошли и расписались – значит, жених. А я в него влюбилась.
Женя прислушивается к ровному дыханию спящей Оленьки. Представляет её лицо с широкими скулами, резко очерченными губами, светлыми волосами, разметавшимися во сне по подушке. Представляет Оленькино тело, утопающее в мягкой перине, по–кошачьи ленивое, представляет крепкие, как у Марики Рёкк, ноги и бедра, полные (как сказал бы Лев Толстой, «роскошные») плечи, пышную грудь, которую подчёркивает любое платье. Как можно не влюбиться в такую девушку? – думает Женя. Вот Володя и влюбился. Все справедливо.
Она повторяет «все справедливо», словно пытаясь заглушить тихий, почти неслышный голос, который где–то глубоко всхлипывает, плачет, жалуется… какая же справедливость? У Оленьки есть свой дом, своя постель, да, у неё тоже нет отца, но она хотя бы помнит его! И мама её жива, и Оленька живёт со своей мамой, а не с чужими людьми, взявшими её к себе из жалости, без любви. Почему же Оленьке достаётся все? Почему Володя – такой красивый и умный – выбирает её? Ведь Оленька не умна, совсем не умна. Она и школу–то закончила с трудом, а в институт – в институт она никогда не поступит (теперь голос звучит злорадно). Никогда! А я закончила школу на одни четвёрки и пятёрки, я поступила, и не просто – а поступила туда, куда хотела, поступила в Первый мёд! И почему Володя не видит этого? Почему не понимает, что ему не нужна Оленька, а нужна я, только я!
Что ты говоришь! – одёргивает себя Женя. Володя – взрослый, умный мужчина. Он сам знает, кто нужен ему, и уж точно не мне это решать. И, если честно, мне ведь не много и надо: я не хочу обниматься с ним, не хочу целоваться… думаю, если бы Володя поцеловал меня, я бы просто умерла на месте. От ужаса или от счастья, но умерла бы. А Оленька – ничего, Оленька жива, значит, он правильно её выбрал. И она такая красивая, такая счастливая. А я… я просто могу быть рядом, вот и всё. Будем друзьями – мы же уже и так друзья, вот и будем дружить дальше, пока не состаримся и не умрём.
Женя улыбается и переворачивается на другой бок. Просто будем всегда вместе, повторяет она, и тут же все тело пронзает ледяной холод – словно той зимой, в деревне, когда хоронили маму.
Мы не будем всегда вместе, понимает Женя. Рано или поздно Володя получит жильё от своего завода и они поженятся. Не в этом году, так в следующем. Не сейчас, так через пять лет. Он хороший инженер, ему быстро дадут хотя бы комнату в коммуналке, а если будет жена и ребёнок, то, может, даже и две. А я останусь здесь, и мы будем видеться по праздникам – 1 Мая, 7 Ноября, день рождения, все такое.
Только я так не хочу, думает Женя. Не хочу.
Но что я могу поделать? Любовь – это не экзамен, к ней не подготовишься, её не пересдашь.
14 декабря объявили: отменены карточки. Теперь все продукты нужно покупать в обычном магазине. Володя и Оленька, обнявшись, сидели на кухне, слушали радио и обсуждали, что будет с ценами.
– Понятно, что ниже, чем в Особторге, – сказал Володя, – но выше, чем были по карточкам. Так что многим придётся туго.
– А я довольна, – сказала Оленька, теснее прижимаясь к нему, – я всегда боялась, что мы карточки потеряем или их у нас украдут.
– Ну, так хотя бы у всех был гарантированный минимум, – пожал плечами Володя, – а теперь, если нет денег, то что же – с голоду подыхать, как при царе?
– Ладно тебе, – ответила Оленька, – вон у тебя есть деньги, у мамы есть… я вообще никогда не слышала, чтобы у человека совсем не было денег.
– Ты, наверно, и про голод этой зимой не слышала, – сказал Володя, – а мне один парень на заводе такое про Молдавию рассказал – вспоминать не хочется. Говорит, даже хуже, чем в войну. Трупы ели и все такое.