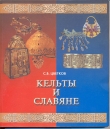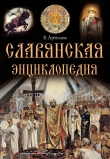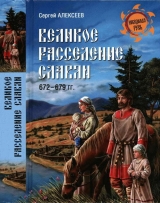
Текст книги "Великое расселение славян. 672—679 гг."
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
В то же время некоторые хозяйственные изменения в VII в. отмечены по всему славянскому ареалу. Совершенствуются ремесла. Особенно бурно развивалась обработка железа. Кузнецы овладели приемами сварки железа и стали, разнообразили способы ее получения, разработали методы закалки стальных изделий. Железоплавильный горн этого времени обнаружен на корчакском поселении Рашков I. На севере происходит распространение новых земледельческих орудий, вооруженных сошником, более пригодным для обработки свежих участков при подсеке. Развитие камнерезного дела показывает распространение наряду с глиняными пряслицами новых, вырезанных из мягкого камня[204]204
См.: Седов 1982. С. 12, 236–237, 239–240, 241.
[Закрыть].
Усиливалось расслоение в славянском обществе. Первобытные нормы общежития все более отходили в прошлое, общинный строй начинал разлагаться. На севере Славянского Мира этот закономерный процесс происходил ненамного медленнее, чем на юге. Один полюс общественной жизни отмечает его появлением нового термина для обозначения богатых, знатных людей – «могут», «могутич», отражающий именно их возросшую власть[205]205
ЭССЯ. Вып. 19. С. 106–107 (термины известны в северных славянских языках и западных южнославянских).
[Закрыть]. На другом полюсе появляется новое значение – «раб», «слуга» – у древнего слова *хоlръ, «холоп», обозначавшего раньше младшего члена семьи[206]206
ЭССЯ. Вып. 8. С. 62 (см. значения во всех языках, кроме болгарского и македонского).
[Закрыть]. Это отражает появление нового, позднее известного повсеместно обычая – обращения во временное или постоянное рабство соплеменников за долги или преступление. На первых порах статус холопов существенно выше, чем у обычных рабов-пленников. Это и потребовало появления нового термина.
Распад старого жизненного уклада, ускоряемый войнами и переселениями, находил отражение и оправдание в религиозных представлениях. Если на юге развитие славянской языческой религии, за вычетом некоторых заимствований местных обычаев, застопорилось, то на севере оно продолжалось поступательно. Примером воздействия общественных новшеств на религию славян VII в. стало появление нового термина *nebogъ, «небогатый» и одновременно «лишенный бога, удачи, божественного покровительства»[207]207
ЭССЯ. Вып. 24. С. 104–105 (слово неизвестно в болгарском и македонском).
[Закрыть]. С другой стороны, древнее обращение к божеству с просьбой о помощи, удаче («дай/дажь бог!») превращается в личное имя княжеского бога-родоначальника, Солнца. Во всяком случае, это произошло у какой-то части северных славян еще до сербохорватского выселения[208]208
ЭССЯ. Вып. 4. С. 182–183 (форма Дажьбог отмечена в древнерусском и старопольском; форма Да(й)бог в сербохорватском).
[Закрыть]. Сам по себе факт показательный, подразумевающий идею особой княжеской удачи, привилегированной «доли», исходящей от божественного предка. Именно княжеский предок теперь – «бог дающий», главный источник людской удачи. Но следует также иметь в виду, что вокруг нового имени Солнца складывается определенная мифология, объясняющая возникновение княжеской власти.
Дажьбог (Дабог) воспринимается как первый государь, безраздельно правивший всем земным миром, прообраз власти всех позднейших людских вождей – прежде всего своих славянских потомков[209]209
Этот комплекс представлений отражен в русской Ипатьевской летописи, где Дажьбог отождествлен с «царем» Гелиосом из Хроники Иоанна Малалы (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 279), и в сербской сказке о Дабоге, «царе земли».(см.: Славянская мифология 1995. С. 153). «Внуками Дажьбожьими» именуются, как известно, русские князья в «Слове о полку Игореве».
[Закрыть]. Этот миф укреплял сакральную, да и политическую власть князей. Он существенно возвышал элитарную общность воинов-кузнецов, «потомков» Дажьбога, к которой причислялись князья, – но собственно княжеские роды возвышал и над нею. Вообще, усиление опиравшихся на дружину князей постепенно сводило на нет влияние ритуальных и воинских союзов. В то же время к северу от Дуная княжеская власть оставалась в VII в., не только формально, выборной[210]210
Об этом можно судить по избранию правителем Само («Виниды избрали его над собой королем» – Fred. Chron. IV. 48: Свод II. С. 366–367).
[Закрыть]. В каких-то племенах выбирали не князей, а временных воевод. В таких случаях сохранялись некие формы коллективного правления – например, упоминаемый в польских преданиях[211]211
У Богухвала (см.: Великая хроника о Польше, Руси и их соседях. М, 1984. Гл. 1–2).
[Закрыть] совет из 12 «наиболее знаменитых и богатых людей», которые и выбирали воеводу. Но и воевода со временем мог превратиться в князя, закрепив власть за своим родом. Еще одним признаком усиления, зримого отдаления княжеской власти от племенной массы стало появление фигуры мечника – княжеского «придворного»-меченосца[212]212
См.: ЭССЯ. Вып. 18. С. 42.
[Закрыть]. Функцией такого рода лиц в первобытном обществе являлось устрашение «подданных» и подчеркивание особого, священного статуса власти вождя. Укрепление княжеской власти и появление первых устойчивых династий породило в славянской устной «литературе» новый жанр – родовой перечень князей. Существование таких перечней нельзя исключать и ранее. Однако самые древние из сохранившихся восходят к VII или даже – в большинстве случаев – к VIII в. Перечень начинался с предания о происхождении рода и закреплял его права на власть. На перечисление правивших родичей нанизывались при желании эпические предания о самых заметных событиях племенной истории. Такие сказания – прозаические или песенные, – имеющие конкретную историческую основу, прослеживаются также с VII в. Они создавались подчас по образцу древнего «великанского» эпоса. Но теперь речь шла о деяниях не мифических, а реальных героев, племенных вождей и дружинников. С самого начала в этом героическом эпосе сплетались мифологическое и «реалистическое» видения мира[213]213
См. исследование на конкретном источниковом материале: Алексеев СВ. Дописьменная эпоха в средневековой славянской литературе: генезис и трансформации. М., 2005; Алексеев СВ. Предания о дописьменной эпохе в истории славянской культуры XI–XV вв. М., 2006.
[Закрыть].
С процессом начавшегося размежевания «аристократической» и «народной» религии связано появление в пантеоне еще одного нового лица. От громовержца Перуна частично обособилась его ипостась – умирающее и воскресающее божество, связанное с буйными, не всегда благими, но животворящими силами природы. Имя нового персонажа, присутствующего в основном в чисто народных календарных празднествах, произведено от эпитета громовника – «яровитый», «ярило». Взаимосвязь поморского Яровита, русского, белорусского и сербского Ярилы, древнерусского Яруна не вполне ясна, но сродство всех этих персонажей и их функции в целом понятны. Ярилой именовалась также жертва (замещающая либо еще человеческая, мужская), приносившаяся на Ярилин день. Последний сначала приурочивался к летнему солнцестоянию. Этот праздник еще и на пороге Нового времени у восточных славян носил характер буйный, «разнузданный», эротический – и включал магические обряды[214]214
См.: ЭССЯ. Вып. 8. С. 174–175,177 (корень *jarъ в основе имени следует отличать от более «позитивного» по смыслу *jaro, связанного с исключительно благотворной солнечной активностью – отсюда, например, слово «яровой» – ЭССЯ. Вып. 8. С. 175–178); Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974 (обосновывается гипотеза об отражении образа Ярилы в народнохристианских представлениях о святом Георгии-Юрии); Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX – начала XX в. М., 1979. С. 181,250–252; Славянская мифология. 1995. С. 397–399. Наличие похожего обряда на летнее солнцестояние у лужичан (календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне-осенние праздники. М, 1978. С. 197) позволяет отнести зарождение если не образа Ярилы, то самого связанного обычая ещё к VI в.
[Закрыть].
Еще один новый персонаж, появившийся в славянской мифологии в канун выселения сербов и хорватов на юг или вскоре после этого, – Мокошь. Имя этой позднейшей верховной богини Руси X в. известно и на западе, а также у сербов, хорватов и словенцев. Однако там это скорее дух «низшей», народной мифологии. Имя Мокоши связано с древнеславянским корнем *mok-, отражая ее связь с водной стихией[215]215
ЭССЯ.Вып.19.С. 131–134.
[Закрыть]. Изначально имя это оставалось лишь эпитетом Матери Сырой Земли, старейшей верховной богини славянского пантеона. Прозвание Мокошь отражало ее власть над источниками земных вод и перекликалось с наименованием постоянным – Сыра.
Достойно замечания, что в VII в. окончательно складывается облик славянского языческого капища. Оно в этот период представляло собой округлую площадку, подчас на естественной возвышенности, окруженную рвом или ямами (иногда ямами во рву). Во рву сжигались жертвоприношения, а посреди площадки стоял деревянный идол. Таких капищ, существовавших или предположительно возникших в VII в., известно три в разных концах Славянского Мира. Зааринген расположен в бассейне Хафеля, Радзиково – в Польше, Хотомель – в Полесье. Самое крупное из них и дольше всего (до XIV в.) просуществовавшее капище в Радзикове имеет еще каменные и ямные жертвенники на самой площадке – там стояло несколько идолов[216]216
См.: Русанова, Тимощук 1997. Приложение № 29, 59, 72.
[Закрыть].
Иной тип славянского святилища встречается только в велетских землях. Здесь в VII в. построен использовавшийся и подновлявшийся до X столетия храм в Фельдберге. Не исключено, что именно Фельдберг – Ретра, стольный град племени редариев, поклонявшихся солнечному богу Радогосту Сварожичу. Каким образом божество получило известное с VI в. «княжеское» имя – неясно. Град Ретра именовался еще Радгощем, и не исключено, что изначально Радогост – основатель града, как часто у славян, слившийся в предании с мифическим прародителем. Деревянное двухкамерное здание прямоугольной формы площадью 50 м2 (5 х 10 м) располагалось на выступающем мысу. Славянские строители, по обычаю, окопали непривычный храм не очень глубоким (60 см), но широким (2 м) рвом. В центре храма находился типичный для славян ямный жертвенник. Храмы, подобные фельдбергскому, со временем распространяются на северо-западе Славянского Мира. «Авторство» их идеи, несомненно, принадлежало велетам, воспринявшим частицы наследия кельтского друидизма[217]217
Русанова, Тимощук 1997. Приложение 69; Седов 1995 С. 60.
[Закрыть]. По тогдашним славянским меркам, фельдбергское здание являлось весьма величественным и просторным. Появление подобных сооружений, как и однотипных открытых капищ на других территориях, – еще один показатель продолжавшегося развития славянской языческой религии.
Славяне против Ираклия
5 октября 610 г., на следующий день после жестокой расправы с тираном Фокой, императором Восточного Рима избрали победителя – Ираклия, родом армянина из Каппадокии, сына экзарха провинции Африка. Гражданская война завершилась. Однако продолжались войны внешние, и они-то превратились для нового государя в неизбывную и тяжкую заботу.
Ираклий ставил своей целью воссоздание хотя бы тени былого имперского величия, пусть на новых основах. Но в первые месяцы, даже в первые годы его правления задача казалась непосильной. Наследство досталось дурное. На Востоке персы хозяйничали по всей Сирии, Армении и в Малой Азии. О мести за Маврикия и восстановлении законной власти они уже не вспоминали. Хосров Парвиз теперь открыто провозгласил своей целью захват как минимум азиатских провинций, присоединение их к Персии и насаждение зороастризма. В Европе же немногие уцелевшие провинциальные центры оказались островками в «варварском» море. Вестготы теснили ромеев в Испании, лангобарды – в Италии, авары и славяне – на Балканах.
Ираклий в целом справедливо, но вынужденно счел главной заботой Персидскую войну. При наличных же силах Империи вести еще и войну в Европе не имелось никакой возможности. Многие пали в гражданской войне, целые провинции лежали в руинах, имперскую военную знать истребил Фока. Ираклий искал пути к миру с Аварским каганатом – но не находил. Аппетиты расползшегося на всю Восточную Европу кочевого государства резко возросли и не удовлетворялись откупами скудеющей византийской казны. Оставалось предоставить европейские провинции самим себе. Это Ираклий, не без колебаний, и сделал, закрепившись в Константинополе. За пределами столицы единственным надежным оплотом Империи на Балканах осталась Фессалоника, столица Иллирика.
Дела на дальнем Западе Ираклию удалось выправить лишь ценой потерь. Забросив испанские провинции, новый император практически сдал их вестготам. Зато в Италии в 611 г. он сумел заключить мир с лангобардами. Жестокое разорение аварами Фриуля в 610 г. создало в Европе совершенно новую политическую ситуацию. Преданный каганом, но заключивший союз с баварами и франками Агилульф резко сменил свою политическую линию. Теперь германские королевства вместе с Империей противостояли аварским завоевателям. Это несколько облегчало положение Ираклия. Но не исправляло дел по существу. Ни лангобарды, ни бавары, ни тем более франки, вынужденные оборонять от авар собственные земли, не могли даже при желании оказать помощи балканским провинциям.
Давление славян на уцелевшие ромейские владения, разумеется, со вступлением Ираклия на престол не прекратилось – как не прекращалось оно и до того. Незначительная передышка, имевшая место между двумя этапами славянского нашествия, завершилась в 611 г. Тогда альпийские славяне, доселе союзники лангобардов против Империи, дали свой ответ на мир короля Агилульфа с Ираклием. Славяне вторглись в Истрию и разорили ее «самым плачевным образом… перебив воинов»[218]218
Paul Diac. Hist. Lang. IV. 39: Свод II. С. 486–487.
[Закрыть].
Вторжение в Истрию – лишь один эпизод развернувшегося второго этапа величайшего славянского нашествия на Империю. Одновременно с Истрией вторжение произошло в Далмацию. Сюда устремилось два потока славян – из междуречья Савы и Дравы, родственные уже действовавшим там лендзянам, и с юга, из перенаселенного «охридского котла» Македонии. События, развернувшиеся далее, отразились и в славянских, и в романских далматинских преданиях Средневековья[219]219
Летопись попа Дуклянина (Щишиħ 1928. С. 293–295) рисует достоверную картину одновременного вторжения в Далмацию и Истрию. О вторжении славян из Македонии в «Ахайю и Далмацию» говорит «Армянская география» (Патканов 1883. С. 27).
[Закрыть].
В средневековой Хорватии сохранялось предание, доставшееся хорватам по наследству от покорителей Далмации, лендзян. Согласно этому преданию, отраженному в Летописи попа Дуклянина, нападению на Истрию предшествовала битва в местности Темплана. Современной науке место это совершенно неизвестно. Однако эпическое предание хорватов вполне могло запомнить битву, важную для местной истории, но оставшуюся незамеченной в современных хрониках. Завоевав «Паннонскую область», «готы» (здесь – славяне) «с могучим множеством достигли Темпланы». Против них объединились «короли» Далмации (сидевший якобы в Салоне) и Истрии.
Превращение правителей провинций в «королей» и описание Салоны как «великого и дивного града» – черты народного эпоса, который с охотой преувеличивает силу побежденного противника.
После встречи войск «на протяжении восьми дней, поскольку от лагеря до лагеря было близко, с обеих сторон выходили воины, раня и убивая друг друга в поединках. В восьмой же день все с обеих сторон – христиане и язычники – вышли вооруженные и сошлись в великой битве, длившейся от третьего часа дня до самого заката. И судом Божьим, коего никто не дерзнет предсказать, свершилось так, по неким сокрытым великим прегрешениям христиан, что победу одержали жестокие готы; и христиане пали, и убит был король Истрии, и многие тысячи христианского люда умерли от меча, и огромное множество было уведено в плен. Однако король далматинский с немногими могучими воинами ушел и бежал в свой град Салону». Вслед за тем одно войско «готов» вторгается в «Истрию и Аквилею», второе же – в «Иллирийскую провинцию». Командование первым хронист, возводящий правящий род Дукли к «готам», приписал Тотиле, а предводительство вторым, более закономерно, – предку дуклянских князей Остроилу[220]220
Щишиħ 1928. С. 293–295. Остроил – персонаж местного, дуклянского родового предания, павший в Дукле (Превалитании). В хорватское по происхождению предание о войне с Салоной и завоевании Далмации он вставлен искусственно. Искусственна, впрочем, и вся эта литературная комбинация разнородных мотивов. Базовый остов, к которому была присовокуплена «готская легенда» с фигурой Тотилы, – сербское переселенческое предание о двух братьях-князьях, из которых младший с половиной народа отправился на Балканы, а старший остался править на прародине (известно из Константина Багрянородного – Константин 1991. С. 140–141). Но на этот остов оказалось искусно, если не сказать органично, нанизано изначально чуждое, даже противолежащее ему предание об аваро-славянском завоевании Далмации и победоносной войне славян с римлянами. Это предание, судя по «хорватской» главе трактата Константина (Константин 1991. С. 128–131; излагается исторически довольно точная и негативная по отношению к далматинцам версия легенды о падении Салоны, а далее упоминается о сохраняющих самосознание потомках авар среди хорватов), долгое время сохранялось среди потомков авар в Хорватии, а после падения Хорватского королевства слилось у хорватской аристократии с собственной переселенческой легендой. О последнем можно судить по хронике Фомы Сплитского, который уже не противопоставляет хорватов («куретов») аварам («готам») и лендзянам («лингонам»), а видит в них союзников. Дуклянский автор, объединяя традицию сербскую с хорватской, включил новую версию прихода хорватов (по сути же – предание об аваро-славянском нашествии) в свой труд. Следует учесть, что сербы и являвшиеся их частью (?) дукляне с аварами на Балканах не воевали или, по меньшей мере, ко временам Константина о такой войне не помнили.
[Закрыть].
С уничтожением имперских гарнизонов прежней жизни в Истрии настал конец. Славяне заселили большую часть полуострова. Многие античные поселения легли в развалинах. Славяне, завоевавшие Истрию, остались чужды и враждебны христианству. В городах они не раз разрушали церковные здания. Вместе с тем полного опустошения и повального бегства жителей не произошло. Иногда славяне селились вместе с истрийцами и лангобардами, если те придерживались языческих верований. С другой стороны, от местных жителей славяне переняли обычай трупоположения. Среди смешанного населения ходила ромейская монета. Продолжали рядом со славянами существовать и общины истрийских христиан. Хотя и в общении со славянами, под их влиянием, они сохраняли свою веру и хоронили умерших на особых кладбищах[221]221
Седов 1995. С. 131–132, 323–324.
[Закрыть].
Как раз в 611 г. среди альпийских славян решил было проповедовать христианство известный ирландский миссионер Колумбан, проживавший тогда в Брегенце. Но, повествует написанное его младшим современником Ионой житие, «явился в видении ангел Господень и в виде небольшой окружности, как обычно сжато изображают круг вселенной, показал мироздание. “Ты видишь, – сказал он, – что весь мир остается пустынным. Иди направо или налево, куда выберешь, дабы вкушать плоды дел своих”. Тогда понял тот, что нелегок у этого народа успех веры, и остался на месте»[222]222
Ion. Vit. Columb. I. 27: Свод II. С. 360–361.
[Закрыть].
Ромеи были бессильны воспротивиться славянскому завоеванию Истрии. Чуть позже удалось перейти в наступление на славян лангобардам. Произошло это, правда, существенно западнее, в самых верховьях Дравы. Где-то в начале 610-х гг. герцоги Фриульские Тазо и Какко, сыновья павшего от рук авар герцога Гизульфа, совершили поход на здешних славян, союзников кагана. Удалось покорить часть населенных ими земель по текущей вдоль южного склона Карнийских Альп реке Зилье, правому притоку Дравы. Область так и называлась – Зилья (Зеллия). Далеко не вся Зилья подчинилась братьямгерцогам, низовья реки за древним римским укреплением Медария (по-славянски Мегларье) остались независимыми.
Остальные же славяне Зильи, побежденные, согласились платить фриульским герцогам дань[223]223
Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 38: Свод II. С 484–487 (о географии см. примеч. В.К. Ронина к этому фрагменту – С. 495).
[Закрыть].
Немногим позже славяне из близлежащих областей по Верхней Драве столкнулись с баварами герцога Гарибальда II. Битва произошла под стенами занятой славянами римской крепости Агунт. Гарибальд пытался выбить их из Агунта, но потерпел поражение. Славяне в ответ вторглись в пределы Баварии и подвергли их разору. На своей земле, впрочем, баварам удалось разбить славян, изгнать их и отнять награбленную добычу[224]224
Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 39: Свод И. С. 486–487.
[Закрыть].
В Далмации же славян вообще не сдерживал никто. Позднее романское предание, говорящее о давлении славян на далматинцев, подчеркивает, что к тому времени Салона пришла в упадок, да и «способного правителя» город не имел[225]225
Фома 1997. С. 240–1–36.
[Закрыть]. Других же центров сопротивления нашествию в провинции не было. Романцам и остаткам ромейской армии оставалось отсиживаться за крепостными стенами – при их наличии. Но теперь и эти стены уже не останавливали славян. Напротив – они стали главной целью завоевателей. Все их силы были брошены именно на захват и разрушение прибрежных городов. Нехватка земли остро требовала от славян покончить с последними оплотами вражеского сопротивления и тем закрепить за собой обживаемую территорию.
Прижатые к морю далматинские общины были атакованы по всей прибрежной полосе. Примерно в 614 г. после серии разорительных набегов пал Эпидавр – одна из главных крепостей на юге Далмации. Славяне разрушили город, часть его жителей перебили, часть обратили в рабство. Уцелевшие обосновались в соседних крепостцах Спилан и Градац, где продолжали сопротивляться завоевателям. Позже они переселились на расположенный неподалеку остров Раусий (Рагузу), где выстроили крепость, положившую начало Дубровнику. Какая-то часть беженцев перебралась затем оттуда на побережье Юго-западной Италии, в Амальфи[226]226
Дата и некоторые обстоятельства событий устанавливаются на основании археологических разысканий (Marović A. Arheoloska iskapanja u okolici Dubrovnika // Anali hist, in-ta JAZU u Dubrovnike. 1965. № 9–10; Dovan A. Povijest Dubrovnika od najstarijih vremena do početka VII st.// Anali hist, in-ta JAZU u Dubrovnike. 1966. № 10–11). Из письменных источников самый старый и достоверный рассказ (но с ошибочной, восходящей, кажется, к легендам об Аттиле датой разграбления Эпидавра и Салоны – 449 г.) содержится в трактате Константина Багрянородного «Об управлении Империей» (Константин 1991. С. 122–123). Предание, сообщаемое Салернской хроникой X в. (Chronicon Salemitanum // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Ш. Hannoverae, 1839. P. 512), связывает само основание Амальфи с выходцами с Рагузы. Однако основание Рагузы это предание относит к началу IV в., ко временам Константина I. Эта облагораживающая версия, возводящая жителей Дубровника к знатным римлянам, потерпевшим кораблекрушение в «пределах славян» во время переселения в Константинополь, родилась, надо думать, уже в самом Амальфи. Впрочем, основу ей могло дать наличие на Рагузе еще до прихода беженцев какого-то далматинского населения. Версия позднейших авторов – Дуклянина (Щишиħ 1928. С. 317–322), перекликающегося с ним Фомы Сплитского (Фома 1997. С. 242–339) и дубровницких анналистов (Макушев В.В. Исследования об исторических памятниках и бытописателях Дубровника. СПб., 1867. С. 305–307, 316) – связана, кажется, с расширением Рагузы-Дубровника (VIII–IX вв.) в результате подселения славян. Однако и здесь, особенно у Фомы, сохраняется историческая память о разорении Эпидавра и бегстве его жителей. Фома, кстати, и упрекает их за слияние в Дубровнике с «чужеземцами», опустошившими город. У него эти чужеземцы – беглецы из Рима. Так же и у Дуклянина, но у него беглецов возглавляет славянский жупан Бел, и к разорению Рагузы они никакого отношения не имеют. Фома как будто пародирует версию Дуклянина. Стоящий между Фомой и дубровницкими анналами Милеций в своей стихотворной хронике явно полемизирует со сплитским хронистом на основе местной традиции. Эпидавр теперь разрушают действительно римляне – во время гражданской войны. Затем в Градац прибывают беженцы из Италии, позже вместе с беженцами из Эпидавра основавшие Рагузу. Славяне назвали Рагузу Дубровником, причем объяснение происхождения обоих названий точно повторяет Дуклянина (Matas A.K. Miletii versus. Dubrovnik, 1882. S. 9–10). Что касается Дуклянина, то он приписывает разорение Эпидавра «сарацинам», действительно опустошавшим Адриатику в 841 г. (См.: Щишиħ 1928. С. 318–319). Здесь также можно видеть след преданий о правившем в первой половине IX в. и, видимо, причастном к расширению города требиньском жупане Белом (древнейшее упоминание о нем у Константина: Константин 1991. С. 150–151). Белый (Бел) назван основателем Дубровника у Дуклянина; предание о его бегстве-возвращении из Рима и основании города своеобразно трактует и Фома, превращающий его со спутниками в «римских преступников». У дубровницких анналистов XV–XVI вв. Эпидавр тоже разоряют сарацины, но основание Дубровника произошло ранее и связывается с именем славянского князя Радослава. Это позднейшая версия отраженного у Дуклянина предания, в котором Радослав – дед Бела. Здесь к Градацу как убежищу эпидаврцев добавляется Спилан. Дата основания Рагузы неясна. Первое упоминание города содержится у Равеннского Анонима. Анналы начинают историю города с 526 (Макушев 1867. С. 305) или с 687 г. (Там же. С. 316). Первая дата слишком ранняя, вторая кажется слишком поздней. Может быть, как считали некоторые авторы уже в позднее Средневековье, 526 г. – искажение от «626». Но в целом ранние разделы дубровницких анналов за VI–VIII вв. фантастичны. Достоверность отдельных событий и дат совершенно теряется в сумятице искаженных при записи, повторяющихся у анналистов «кругами» устных преданий. Например, Радослав становится сыном боснийского «короля» Стефана, якобы правившего в VI в. (Макушев 1867. С. 305–306); в VII в. появляются еще одни Стефан (Степан) с сыном Радославом (Радосавом) (Там же. С. 306–307, 316–317), а в начале IX в. мы встречаем и еще одного Стефана Боснийского (Там же. С. 313, 317). Известно, что Стефанами в крещении звали хорватского короля Држислава (конец X в.) и первого самостоятельного боснийского князя второй половины XI в. Последний имел сношения с Дубровником, о чем упоминал Милеций. Не исключено, впрочем, что то же имя носил хорватский князь первой половины IX в. Владислав. Как бы то ни было, Родослав к Стефану – подлинному или гипотетическому – никакого исторического отношения не имел.
[Закрыть].
На следующий год[227]227
Дата приблизительно устанавливается археологами по последним христианским захоронениям на городском кладбище (Wilkes J. Dalmatia. L., 1969. P. 437; Klaić N. Povijest Hrvata u ranom srednjem veku. Zagreb, 1971. S. 132).
[Закрыть] пришел черед столицы Далмации – Салоны. Здесь славяне-лендзяне прибегли к помощи авар – или авары навязали им свою помощь. Нападение на Салону, по Фоме Сплитскому, возглавил «готский предводитель (dux), стоявший во главе всей Славонии». Почему бы и действительно не сам каган? Фома передает местное предание об осаде Салоны – выглядящее в основных деталях вполне достоверно. С «большим конным и пешим войском» аварский вождь внезапно подступил с гор к городу. Свой лагерь он разбил с восточной стороны Салоны. К западу, «над морем», однако, встал по его приказу один из аваро-славянских отрядов. Начался обстрел стен – из луков и дротиками. Взобравшиеся на нависающую над стенами скалу, славяне из пращей осыпали защитников градом камней. Под прикрытием стрелков сомкнутым строем к воротам пошли воины с таранами. Однако первый приступ смело защищавшиеся салониты отбили. От стрел и снарядов их защищали стена и щиты. Город не знал недостатка в своих лучниках, на подступающих к стенам «сбрасывали огромные камни». К тому же в постоянно ожидавшей нападения Салоне имелась оборонительная техника. В стрелков врага летели не только стрелы, но и снаряды камнеметов и баллист.
Безуспешные штурмы продолжались «много дней». Ежедневно к стенам приступали новые и новые воины. Обладая большим войском, каган попросту изматывал противника за счет жизней славян – ив конечном счете преуспел. В лагере осажденных, «обессиленных и измученных», не ждущих подкреплений, начались разногласия. Стоявшие в не перекрытой врагами гавани корабли открывали заманчивый путь к бегству – по крайней мере для кого-то заманчивый.
В конечном счете часть «городских богачей» втайне отправила свое имущество к кораблям. Напуганное «простонародье», прознав о погрузке, хлынуло в порт беспорядочной толпой. Люди, среди которых была масса женщин и детей, многие без всяких пожитков, в сутолоке рвались на корабли и в лодки, тонули. Паника охватила и стоявших на стенах – так что славяне и авары ворвались наконец в Салону. Начался разор захваченного города. Разгневанные длительным стоянием и торжествующие благодаря почти бескровному последнему штурму, «варвары» меньше пеклись о добыче, чем о самом опустошении. В Салоне заполыхал пожар. Вскоре город со своими дворцами и храмами превратился уже в «груду развалин и пепла». Многие из разбегающихся граждан погибли или попали в плен. Столпившиеся в порту уже не заботились о гибнущем городе – думая лишь о себе, они «торопили отход кораблей». «Отступавшие первыми не дожидались последних: кто был последним, не могли держать бегущих. Как хмельные или безумные, лишь в бегстве видя спасение, они не знали, какой более надежный путь им выбрать. О, сколь печально было зрелище несчастных женщин, рвавших волосы, бивших себя в грудь и по лицу! Сколь громки крики и рыдания не ведающих, от чего им спасаться – от огня или меча», – заключает Фома свой рассказ о гибели древней Салоны[228]228
Фома 1997. С. 241–242, 36–38. Гораздо короче упоминает о взятии Салоны славянами (и/или аварами) Константин Багрянородный (Константин 1991. С. 112–113, 130–131). Он, вероятно, объединяет предание о падении Салоны с преданием о падении в конце VI в. прикрывавшего ее Клиса. Первое упоминание о разорении Салоны «готами» и бегстве жителей на острова в латинской традиции – легенда о перенесении мощей святых Домния и Анастасия (XI в.), которой пользовался Фома (Documenta Historiae Chroatiae periodum antiquam. Zagrebae, 1877. P. 288).
[Закрыть].
Так закончилось противостояние славян с властями ромейской Далмации, начавшееся за полтора десятка лет до того разбойничьими набегами далматинских пограничников на лендзянские селения. Провинции Далмация больше не существовало. Война, однако, не завершилась. Оставались далматинцы, не желавшие, разумеется, уступать врагу земли предков, – и славяне, надеявшиеся теперь на обустройство в добытой мечом стране. Это противостояние, то затухая, то вспыхивая, продолжалось еще много веков, определяя всю историю прибрежных земель Восточной Адриатики.
После разорения Салоны славяне на время обосновались в ее развалинах, совершая оттуда набеги на близлежащие земли. Постепенно большая часть далматинцев бежала в защищенные природой прибрежные крепости или на острова, оставив свои угодья завоевателям. Немногие отступили в высокогорье. Со временем те, кто остался на большой земле, покорились славянским вождям и стали смешиваться со славянами[229]229
Следами пребывания славян в разоренной Салоне могут быть находки монет 620–630-х гг., служащие некоторым исследователям основанием перенести дату падения города на более позднее время (Marovic'J. Reflexions about the year of the destruction of Salona // Vjesnik za arhologiju i historiju dalmatinsku. Kn. 77. Zadar, 1984). События описывает Константин Багрянородный (Константин 1991. С. 112–113, 130–131). О судьбе далматинского населения см. также: Седов 1995. С. 321.
[Закрыть].
Беженцы из Салоны обосновались в основном на лежащих южнее города островках – Шолте, Браче, Хваре, Висе, Корчулах. Здесь они осели, используя доступные для обработки земли и торгуя с соседями. Некоторые знатные салониты переселились к беженцам из Эпидавра на Раусий и возглавили здешнюю общину. Молодежь с островов начала, используя уцелевшие боевые корабли-либурны (легкие, маневренные суда, родиной которых была как раз пиратская Далмация), совершать набеги на самих победителей. По словам Фомы, «ежедневно они устраивали поистине такую резню и грабеж, что никто из славян не отваживался спускаться к морю»[230]230
Фома 1997. С. 242–38. О переселении салонитов в Раусий сообщает Константин Багрянородный, называя шестерых представителей городской старшины (Константин 1991. С. 122–123). Среди переселенцев были архидиакон салонской церкви Валентин, а также некий его тезка (родственник?), сын которого Стефан получил офицерское звание протоспафария (командуя местным гарнизоном?). Фома, враждебно относившийся к Дубровнику, об участии салонитов в его основании ни словом не обмолвился, хотя верно, в отличие от Дуклянина, отнес основание города ко временам разорения Далмации «варварами».
[Закрыть].
Благодаря этому, а также морским источникам пропитания прибрежные крепости и острова сохранили во враждебном окружении независимость. Так начиналась история далматинских городских коммун и их непростых, а в ту пору еще прямо враждебных отношений с окрестными славянами. После нашествия славян романских городов в Далмации осталось семь – Декатеры (будущий Котор), Раусий, Тетрангурин (Трогир), Диадоры (Задар), Арва (Раб), Векла (Крк), Опсары (Црес)[231]231
Их перечисляет Константин Багрянородный. При этом он добавляет Аспалаф (Сплит), основанный позже беженцами из Салоны. См.: Константин 1991. С. 112–113, 122–127, 130–131. Согласно Фоме Сплитскому, Задар все-таки был разрушен в VII в. и восстановлен выходцами из Салоны после 640 г. (Фома 1997. С. 243). Субъективный характер этой версии очевиден, как и субъективность сплитской трактовки легенды об основании Дубровника.
[Закрыть]. Из них Котор, Трогир и Задар – старые крепости, устоявшие перед нашествием. Остальные, как и поселения салонитов, располагались на прибрежных островах, заселенных далматинскими беженцами.
Нашествие затронуло не только Далмацию, но и прилегавшую к ней с юга Превалитанию. Наряду с вторгавшимися с разных сторон славянами, сюда после падения Салоны перешли основные сил авар во главе с самим каганом. Основные центры провинции – Скодра и Диоклея – пали. Немалую часть населения каган угнал в Паннонию. Спасшиеся жители Диоклеи бежали к скалистому побережью, где основали город-крепость Бар (или Антибари, по противолежащему итальянскому городу Бари)[232]232
О завоевании «Превалии» аварским каганом сообщают «Чудеса святого Димитрия» (ЧСД 284: Свод II. 168–169). О разорении Диоклеи аварами кратко упоминает Константин Багрянородный (Константин 1991. С. 152–153). По Летописи попа Дуклянина, Остроил доходит до «Превалитанского округа», «города Превалитанского» и погибает там (Шишиħ 1928. С. 296). Последнее, впрочем, скорее относится к родовому преданию дуклян, чем к воспоминаниям об аваро-славянском нашествии. В грамоте 1252 г., связанной с прениями между Барской и Дубровницкой епархиями за первенство, Бар прямо назван преемником древней Диоклеи (Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Vol. 4. Zarrabiae, 1906. P. 482–483).
[Закрыть].
Одновременное Далмацией в 614–615 гг. нашествию подверглась и южная часть Иллирика до Ахайи включительно[233]233
События упоминаются Исидором Севилъским (Isid. Chron. Maior. 414: Свод II. С. 354–355), его Испанским продолжателем (Cont. Hisp. А. 653: Свод II. С. 356–357), «Армянской географией» (Патканов 1883. С. 27) и, видимо, Георгием Писидой (Свод II. С. 70–71), подробнее же всего – в «Чудесах святого Димитрия» (ЧСД 179–181: Свод II. С. 124–127). Дата неопределенна. Исидор говорит просто о «начале» правления Ираклия, относя туда же потерю Сирии и Египта (611–618 гг.). Его Продолжатель датирует точнее, но, по сути, двояко – 653 г. испанской эры (615 г.) и 4 годом Ираклия (613–614). С этой расплывающейся датой в целом согласны сведения «Армянской географии» об одновременном вторжении в Далмацию и Ахайю, а также данные Второго собрания чудес. Согласно ему, нашествие предшествовало осаде Фессалоники, каковая, в свою очередь, произошла за два года до похода на нее аварского кагана. Последний же имел место не позднее событий 619–620 гг., когда между Аварией и Византией был на время заключен мир. Итак, все указывает на 614–615 гг., но не конкретнее. Грандиозные действия славян, описываемые фессалоникским анонимом, должны были занять не один год.
[Закрыть]. Сюда вторглись племена из плотно заселенных славянами земель «охридского котла». Места здесь явно всем не хватало. Более пяти племен, осевших в Македонии, объединились в союз для завоевания новых территорий. На первом месте среди них стояли дреговичи, расселившиеся в южных областях Македонии, к западу от Фессалоник. Отдельные их общины, впрочем, жили к востоку от города. Вторыми идут сагудаты, их ближайшие соседи и союзники, также расселившиеся на юго-западе Македонии. Неизвестны тогдашние места обитания велеездичей и войничей – судя по дальнейшему, более других заинтересованных в новых захватах. Наконец, берзичи занимали основную часть «охридского котла» – внутренние области Македонии от Охрида до Прилепа[234]234
О локализации племен по данным этнонимии и топонимии см.: Нидерле 2001. С. 89; Свод II. С. 191–193.
[Закрыть]. Помимо названных, однако, в нашествии участвовали и «другие народы», остающиеся неизвестными.
Освоившись уже с мореходством, славяне решили атаковать греческие провинции по морю. Это существенно ускоряло передвижения, а главное, являлось совершенно неожиданным для противника. В низовьях македонских рек, выходивших в Эгеиду, и на Адриатике в берзичских низовьях Дрина выстроили огромный флот из ладей-однодеревок. Выйдя в море, славяне атаковали побережья на огромном пространстве, стремительно пересекая воды Эгеиды и Иониды. Опустошая и захватывая те или иные земли, изгнав, перебив или пленив местных жителей, они затем перевозили свои семьи и обосновывались на новых местах.
Такому опустошению подверглись «вся Фессалия и острова вокруг нее и Эллады, еще и Кикладские острова, и вся Ахайя, Эпир»[235]235
ЧСД 179: С. 124–127.
[Закрыть]. Повсеместно происходили разрушения ромейских городов – возможных оплотов сопротивления. Славяне вновь разорили Афины и Коринф, овладели ими, прошлись войной вдоль всего восточного и южного берега Эллады[236]236
Следы разрушений и славянского пребывания от конца VI и начала VII в. трудно разграничиваются. В целом же масштабы нашествия вполне подтверждаются археологически (Седов 1995. С. 159, 166).
[Закрыть]. В результате они прорвались на Пелопоннес, вполне открытый для них с моря, и встретились со своими сородичами, обосновавшимися в Лаконии еще в 580-х гг. Отдельные отряды славян переправились через Эгеиду и разорили «часть Асии». Другие же отправились в иные области Иллирика – в том числе чтобы принять участие в освоении Далмации и Превалитании.
Империя не имела сил сопротивляться. На востоке бушевала Персидская война, войска шаха как раз завоевывали Сирию и Египет. В эти же годы авары (не без участия местных славян) уничтожали остатки ромейской власти в придунайских провинциях. Последние крепости Северного Иллирика не выдерживали напора завоевателей. Потоки беженцев оттуда устремлялись на юг, к Фессалонике[237]237
ЧСД. 197.: Свод II. С. 134–135.
[Закрыть].
Георгий Писида, описывая в поэме «Ираклиада» первые годы правления своего императора, скорбно вспоминает: «А кроме того, фракийские тучи// принесли нам бури войны: // с одной стороны питающая скифов Харибда// прикинувшись молчаливой, встала на дороге, как// разбойник, с другой же стороны внезапно выбежавшие волки-славяне// перенесли на землю морскую битву.// И с их кровью смешавшись,// поток сделался красным от убийства.// А с третьей стороны, словно пытаясь соперничать в воинственности// прямо против вас невыносимое зрелище// явилось Горгоны Персеевой// и весь мир пришел в замешательство… И часто, желая натянуть лук// и поразить Харибду, – ты против Горгоны// превращавшей в камень образ зрящих,// обращался и удерживался от готового обрушиться удара.// Но и от нее, пуская со своей стороны в вас стрелы// отвращали вас любящие разбой волки…»[238]238
Свод II. С. 70–71.
[Закрыть]Поэт-панегирист достаточно четко выражал главную дилемму политики первых лет Ираклия – воевать в полную силу с аварами и славянами означало отдать персам Азию и открыть им путь на Константинополь. Попытки же примирения с Хосровом ничего не давали.
Результатом победоносного нашествия для славян стало заселение большей части греческих земель. Власть Империи в Иллирике к концу 615 г. ограничивалась одной Фессалоникой. Фессалию заняли велеездичи[239]239
ЧСД помещают их в «области Фив и Димитриады» (ЧСД 254: Свод II. С. 154–155) – на берегу залива Воло в Фессалии.
[Закрыть]. В Старом Эпире обосновались войничи. Какие-то еще славянские племена заняли Новый Эпир, окрестности Диррахия. Они состояли в обширном союзе, который возглавляли войничи и земли которого на востоке простирались до Афин[240]240
В VIII в. автор «Жития святого Панкратия» рассматривал «авар», живущих «в епархиях Диррахия и Афин», как единое целое (Свод II. С. 333). Войничи же, несомненно, самое крупное и единственное известное славянское племя на этом промежутке.
[Закрыть]. Славяне надолго стали если не основным населением, то хозяевами положения на землях Македонии, Эпира, Эллады (включая Пелопоннес)[241]241
Все эти земли эпитоматор Страбона еще в X в. рассматривал как славянские (Византиjски извори за историjу народа Jyгoслвиje. T. 1. Београд, 1955. С. 295). О владычестве славян на Пелопоннесе вплоть до начала IX в. идет речь во многих еще источниках. Прежде всего – в Монемвасийской хронике (Свод II. С. 328–329) и схолии Арефы (Свод II. С. 346–347).
[Закрыть]. На Пелопоннесе, где главными являлись племена милингов и езеричей в Лаконии, славянское население в VII в. резко возросло. С востока и юга полуострова они без столь заметных потрясений позже проникали на северо-запад, до Олимпии. Здесь отношения с греками складывались более мирно[242]242
Седов 1995. С. 158, 166.
[Закрыть]. Во время нашествия или позже славянские общины появились и на Керкире в Ионическом архипелаге[243]243
Седов 1995. С. 158–159, 162.
[Закрыть].
Славяне завоевали Адриатическое побережье и большую часть Эллады. Им оставалось лишь нанести ромейскому владычеству в Иллирике последний, смертельный удар. Фессалоника, давняя цель славян, продолжала привлекать их взоры. Участвовавшие в морском нашествии племена приняли решение – покончив с подчиненными Фессалонике провинциальными городами, теперь завоевать и заселить саму столицу Иллирика.