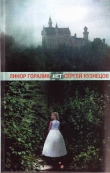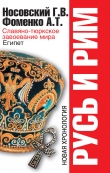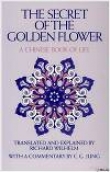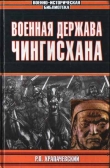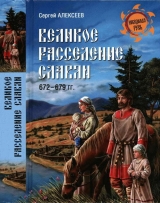
Текст книги "Великое расселение славян. 672—679 гг."
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Констант, чьи основные силы связала безуспешная кампания на Востоке, смог выслать – правда, «сразу же» – на помощь Фессалонике лишь 10 боевых кораблей. На них приплыли не только воины, но и дополнительные припасы. Однако ведавшие их распределением императорские чиновники оказались ничем не лучше – пожалуй, и хуже – местных. Они продавали или обменивали хлеб несчастным втридорога, в буквальном смысле сдирая с них последнюю рубашку, а то и обращая граждан в рабство. Защищаясь от конкуренции, новые хозяева города велели своим солдатам повсюду разыскивать спрятанный хлеб и убивать прячущих[381]381
ЧСД 251–252: Свод II. С. 154–155.
[Закрыть].
Нападение помешало горожанам собрать урожай, скот же в городе скоро кончился. Голод вынудил граждан запирать ворота перед спасающимися бегством жителями предместий. Понятно, что беженцы только усугубляли голод. Горожане поедали ослов и лошадей, считавшиеся несъедобными растения. Понимая их положение, желавшие взять город измором славяне травили и выжигали пригородные поля. Когда некоторые из граждан Фессалоники рисковали выходить за ворота на поиски съедобных трав, их поджидали засады. Славяне между приступами скрывались в стенах пригородных храмов, нападали оттуда, «грабили, захватывали и убивали» злосчастных солунцев[382]382
ЧСД 245–247,253: Свод II. С. 152–153,154–155.
[Закрыть].
Между тем как «соединенные корабли» славян то и дело налетали на городскую гавань, ладьи-однодеревки укрывались «между скал или в скрытых местах». Всякое судно, вышедшее в море, подвергалось нападению. В результате после прибытия императорской помощи «прекратилось отсюда мореплавание». Те из горожан, кто пытался все-таки добыть пропитание на море, погибли от рук осаждающих[383]383
ЧСД 245, 253: Свод II. С. 150–151,154–155.
[Закрыть].
Осада с беспрестанными тревогами тянулась и тянулась месяцами. Положение усугубила наставшая засуха. Вскоре славяне дождались перебежчиков. Многие граждане, полностью отчаявшись, бросали свои семьи, даже отрекались от христианства и переходили к осаждавшим. Когда, однако, перебежчиков за долгое время набралось «множество», славянские вожди обеспокоились. Большое число греков в их селениях внушало тревогу. Предводители осады решили продать перебежавших солунцев в рабство своим северным славянским соседям. Лишь некоторым удалось бежать обратно в город – и принесенные ими вести остановили поток перебежчиков[384]384
ЧСД 247–250: Свод II. С. 152–155.
[Закрыть].
Вскоре осаждающим удалось существенно ослабить и воинские силы Фессалоники. «Некие славяне» уверили руководителей обороны, что намерены предать соплеменников и выступить на стороне города. На северную сторону, к дюнам, на соединение с ними был послан «цвет сильнейших». Ромеи попали в засаду и были поголовно перебиты[385]385
ЧСД 250: Свод II. С. 154–155.
[Закрыть]. Славяне продолжали платить коварством за коварство.
Изматывающая осада длилась уже почти два года. Последнее пропитание в Фессалонике заканчивалось, «всякое человеческое искусство и выдумки стали бессильны»[386]386
ЧСД 245: Свод II. С. 152–153.
[Закрыть]. Тогда горожане решили отправить все уцелевшие суда и лодки со всеми пригодными к бою людьми на юг, в Фессалию. Они должны были попытаться купить хотя бы сушеные плоды для пропитания у велеездичей. Те пока ничем не выказали враждебности к городу и как будто соблюдали мирный договор. Все оставшиеся в городе («слабые и беспомощные») не должны были ни под каким видом выходить за ворота до возвращения флотилии[387]387
ЧСД 254: Свод II. С. 154–157.
[Закрыть].
Славяне не рискнули воспрепятствовать большому флоту – тем более что осознали, какую выгоду предоставляет уход почти всего боеспособного населения. Поняв, что в городе осталось лишь сравнительно небольшое число вконец обессилевших людей, князья дреговичей вдохновили союзников на решительный штурм. Среди дреговичей имелись искусные мастера осадного дела, заверившие своих вождей в том, «что в любом случае возьмут город». Теперь в распоряжение славян находились не только камнеметы и «черепахи», осадные башни и тараны, но и «огненосные орудия». Славянские мастера осваивали ковку мечей и совершенствовали стрелы. Они соревновались между собой в изобретательности, «стараясь казаться более сообразительными и более усердными в помощи племенным вождям»[388]388
ЧСД 255, 271: Свод II. С. 156–157, 162–163.
[Закрыть].
Один из славянских инженеров, «умевший достойно держать себя, дельный и разумный», имевший большой опыт в осадном деле, обратился к новому верховному «риксу» с предложением. Он попросил помощи в сооружении «великолепной башни из крепко соединенных бревен» «на колесах или каких-нибудь катках». Башню он предполагал покрыть, как и положено, свежими шкурами, вдобавок же «установить сверху камнеметы и оковать с двух сторон». Башня задумывалась трехэтажной, «чтобы в ней помещались лучники и пращники», между зубцами же должны были стоять тяжеловооруженные воины. С помощью такой конструкции, утверждал мастер, славяне «обязательно возьмут город»[389]389
ЧСД 272: Свод II. С. 162–163.
[Закрыть].
Судя по реакции славянских «архонтов», древнегреческий гелепол был для них (как, кстати, и для обитателей Фессалоник[390]390
См.: Свод II. С. 204. Гелеполы использовались при первой славяно-аварской осаде (ЧСД 139: Свод II. С. 112–113). Позднее, при осадах 616–618 гг., речь идет просто об осадных башнях.
[Закрыть]) в новинку. Впрочем, придумщик действительно несколько усложнил конструкцию, увеличив ее разрушительную силу. «Архонты» потребовали от него «изобразить на земле устройство указанной машины». Мастер немедля сделал подробный чертеж. Тогда поверившие князья предоставили ему «много юношей» в помощь для сооружения башни. Однако, когда «огромное стечение» людей взялось за работу, мастера внезапно охватило безумие. Он бросился прочь от собравшейся толпы. Его попытались силком вернуть к работе, но он вырвался и вновь убежал. Догнать его не сумели. Потеряв всю одежду, он скрылся «в труднопроходимых горах». Из-за этого работу над гелеполом прекратили[391]391
ЧСД 273–274: Свод II. С. 162–165.
[Закрыть]. В распоряжении славянских князей и без того имелось достаточно техники.
25 июля 647 г. славяне всем войском приблизились к Фессалонике. На море вышло «бесчисленное множество судов». С запада к городу подступили ополчения ринхинов и сагудатов. Однако в этот момент неожиданно предали струмляне – подойдя к городу на три мили, их войско внезапно повернуло назад. Похоже, их вожди в итоге решили выждать и не класть головы своих воинов на стенах Фессалоники ради мести за ринхина Пребуда[392]392
ЧСД 255, 257: Свод II. С. 156–157.
[Закрыть]. К слову, такую же позицию, только с обратным знаком, заняли и велеездичи. Когда к ним прибыли солунцы, они решили продать им продовольствие – но если узнают о взятии города сородичами, то всех перебить. Они внимательно следили за происходящим и не желали подставлять себя из-за греков гневу ринхинов[393]393
ЧСД 259, 268: Свод II. С. 158–159, 160–163.
[Закрыть].
Несмотря на измену струмлян, сил ринхинов и их союзников вполне хватило, чтобы оцепить город со всех сторон от моря до моря. По морю же курсировали «соединенные корабли». Славянские разведчики на суше, а корабельщики с моря высматривали слабые места в обороне. Дреговичские манганарии принялись за обустройство своей военной техники. «Осадные сооружения» устанавливались «вдоль всей стены». За прошедшие почти два десятилетия горожане отвыкли от вида смертоносных машин под своими стенами – одно зрелище славянских приготовлений повергло оставшихся в городе в отчаянную панику[394]394
ЧСД 255, 257–259: Свод II. С. 156–157.
[Закрыть].
Подступив к городу на рассвете, славяне занимались только подготовкой к приступу. Большая часть воинов набиралась сил. Свои надежды славянские князья возлагали на штурм всей стены с использованием приготовленных орудий. На рассвете 26 июля под «единодушный» боевой клич, от коего «земля сотряслась и стены зашатались», везя осадные машины, ринхины и сагудаты правильным строем двинулись к стенам. Отдельными, согласованно действующими отрядами шли на приступ «лучники, щитоносцы, легковооруженные, копьеметатели, пращники». Славяне приставляли к стенам лестницы и подносили огонь к воротам. К берегу Фессалоники подплыли «соединенные корабли». На город обрушилось «подобное зимнему или дожденосному облаку бесчисленное множество стрел, с силой рассекавших воздух и превращавших свет в ночную тьму»[395]395
ЧСД 262–263: Свод II. С. 158–161.
[Закрыть].
Наибольшего успеха осаждавшие добились у малых ворот на севере Фессалоники, на участке, где не было внешней стены. Они подпалили ворота, поддерживая огонь дровами, – пока копья, камни и стрелы штурмующих не давали немногочисленным защитникам даже «высунуться за стену». Деревянные конструкции ворот дотла сгорели, и когда огонь потух, славяне ринулись на штурм. Но их глазам открылось поразительное зрелище – железные опоры ворот спаялись от огня и превратились в трудноодолимую преграду. Напуганные славяне отпрянули. «Тогда, – пишет автор “Чудес святого Димитрия”, – избавитель наш и помощник, великомученик Божий, явился не во сне, а наяву… Он шел пешком, был одет в хламиду и в руке нес жезл. И когда через эти вышеуказанные ворота славяне хлынули в город, он изгонял их и, ударяя жезлом, говорил: “Бог привел их на злосчастье – так что здесь делаю я?” Вот так он выгнал их из города через указанные малые ворота… Другие также видели сего мученика и спасителя города, бегущего по стене…» Как бы то ни было, в город славянам войти не удалось. Им «незримо было причинено множество побоев, ран и убийств не только в этом месте, но и по всей суше и у моря»[396]396
ЧСД 260–261,264: Свод II. С. 158–159, 160–161.
[Закрыть].
Следующие три дня упорные приступы продолжались. Славяне пытались ворваться в город на других присмотренных заранее участках. Однако горожане, вдохновленные передававшимися из уст в уста слухами о чудесных явлениях, защищались мужественно. К 29 июля славяне отчаялись взять город. Одни князья были ранены, иных внезапно свалила какая-то болезнь. Другие племена обрушились на дреговичей с обвинениями: «Не вы ли говорили нам, что в городе нет никого, кроме нескольких стариков и немногих женщин? Откуда же взялось в городе такое множество людей, противостоявшее нам?» Разлад между осаждавшими покончил с осадой. Славяне, «враждуя друг с другом», разошлись восвояси. При этом они бросили уцелевшие осадные машины, которые затем солунцы выставили напоказ в городе[397]397
ЧСД 265–267: Свод II. С. 160–161.
[Закрыть].
Узнав о поражении ринхинов и сагудатов, велеездичи устыдились и признались находившимся у них солунцам в своих замыслах. Славяне сами рассказали им о поистине чудесном спасении их города. «Они и сами стали восхвалять Бога, который спас немногих, укрепил слабых и наказал гордых». Искупая вину, велеездичи продали горожанам отнюдь не только «сушеные фрукты» – солунцы вернулись в родной город спустя несколько дней после окончания осады «с хлебом и овощами»[398]398
ЧСД 268: Свод II. С. 160–163.
[Закрыть].
Вскоре после окончания осады в Фессалонику явился с гор упоминавшийся выше изобретатель-славянин. Рассудок к нему вернулся, и он поведал о происшедшем с ним следующее: «Когда он начал работу, он увидел какого-то огненного мужа в прекрасных одеждах, который ударил его рукой по щеке. И с тех пор он потерял рассудок и память». Во всяком приближающемся ему чудился неведомый «огненный муж». Потом мастер «снова увидел его, и тот вернул его из пустыни и сказал ему, чтобы он не боялся, а шел в город искать его». Уверившись, что ему являлся святой Димитрий, славянин «возвестил всем о вышесказанном чуде» и немедленно крестился[399]399
ЧСД 275: Свод II. С. 164–165.
[Закрыть]. Безотносительно к судьбе этого мастера, очередное поражение у Фессалоники внушило многим окрестным славянам трепет перед Богом христиан. Это видно и на примере велеездичей.
Все же на протяжении еще некоторого времени ринхины с сагудатами продолжали терзать Фессалонику набегами. Ежедневно они появлялись в окрестностях города. Горожан, беспечно выходивших за стены, захватывали в плен из засад. Однако без поддержки струмлян эти действия долго продолжаться не могли, и к концу года ринхины их прекратили. После этого, однако, оба племенных союза, возобновив свои сношения, занялись прибрежным пиратством. Опасность для города отступила, но он оставался в блокаде[400]400
ЧСД 270, 277: Свод II. С. 162–163, 164–165.
[Закрыть].
Длившиеся два года бои под Фессалоникой, конечно, возбудили многие славянские племена. Те же велеездичи воспользовались ситуацией, чтобы захватить и разрушить один из последних имперских центров в Фессалии – Новый Анхиал[401]401
См.: Седов 1995. С. 159.
[Закрыть]. В то же время или чуть позднее на Пелопоннесе славяне окончательно завладели Аргосом, изгнав местных жителей[402]402
Kalligas Н.А. Byzantine Monemvasia. Monemvasia, 1990. P. 29.
[Закрыть].
Где-то в середине VTI в. славянские пираты (велеездичи или жители Аттики) вновь, впервые со времен великого нашествия, переправились в юго-западную Малую Азию. На этот раз они не ограничились опустошением прибрежья, внедрившись в поисках рабов в горы. На одно из горных селений они напали в воскресенье и ворвались в церковь во время службы. Они дали священнику закончить причащение христиан, а затем потребовали дать пресуществленные хлеб и вино и им. Священник отказался. Славяне насмешливо спросили: «Зачем вы так надеетесь на это, неужели это Бог ваш?» В ответ прозвучало: «Это плоть Того, Который распялся за нас, Иисуса Христа, Спаса нашего, Который есть истинный Бог». – «Неужели не стыдно вам, – расхохотались славяне, – уповающим на то, что после переваривания станет калом?» «Да не будет этого пред Богом, никогда не поверим, что это так», – твердо ответил священник. «Когда те выслушали это, – рассказывал о происшедшем живший тогда поблизости монах Феодор, – заставили его съесть все частицы и сразу после этого распороли ему, еще живому, живот, но ничего из тех частиц не нашли там. Увидев это, они удивились этому воистину чудному из чудесных явлению, вышли из деревни той и, не уведя с собой никого, спешно удалились оттуда. Истинный же пастырь тот отдал душу свою Господу и благодарил Того, Который удостоил его мученической смерти»[403]403
Свод II. С. 512–513.
[Закрыть].
Не спадала в те годы напряженность и на западе, у Адриатики. Тем же временем при желании можно датировать описанную в Летописи попа Дуклянина гибель родоначальника дуклянских князей – Остроила. По дуклянскому преданию, Остроил (предстающий здесь как властитель всех сербских и хорватских земель) после покорения Превалитании отправил своего сына завоевывать Загорье. Сам же князь остался в Скодре («Превалитанском городе»). «Император Константинополя», узнав о том, что Остроил лишь с «немногими» находится там, отправил против него войска. Остроил, захваченный врасплох с небольшой дружиной, «будучи мужем твердого духа, изготовился и вступил в бой». Но ромеи взяли числом – Остроил погиб, а его соратники после этого бежали. Добыча славян досталась императорским войскам. Когда сын Остроила, Сенудслав (имя в летописи явно испорчено; Всеслав?), узнал о смерти отца, то, не догнав посланцев императора, стал люто мстить христианам из «приморских городов». Он якобы 12 лет владел огромным королевством «от Вальдевина (т.е. хорватского Винодола) до самой Полонии», включая «приморские и загорские земли»[404]404
Шишиħ 1928. С. 296.
[Закрыть].
Всего от гибели Остроила до князя Владина, при котором пришли на Дунай болгары, прошло 33 года[405]405
Сын Сенудслава и отец Владина Силимир правил будто бы 21 год: Шишиħ 1928. С. 297.
[Закрыть]. Таким образом, Остроил мог бы пасть в 647 г. Однако и 33, и 12 – типичные не только для славянских преданий «эпические», округленные сроки. Цена им как точным датировкам невелика. О 33 годах в дуклянском предании, скорее всего, действительно говорилось как о сроке, отделяющем действие сказания об Остроиле от прихода болгар. В том смысле, что приход болгар имел место спустя много лет после пришествия дуклян и сербов. Итак, с точностью мы датировать гибель Остроила не можем. В предании много и других недостоверных деталей, обычных для эпоса преувеличений. Дукляне в VII в. не представляли единства ни с сербами, ни с хорватами. А значит, картина великой державы «от Вальдевина до Полонии»[406]406
Не только Ф. Шишич, но и нередкий его оппонент С. Миюшкович (Шишиħ 1928. С. 424; Љетопис попа Дуюьанина. Титоград, 1967. С. 182) решительно идентифицируют ее с Пояном. Таким образом, следует думать, что представлена протяженность владений от моря на восток, до северо-восточных пределов Рашки. Между тем в тексте (Љетопис 1967. С. 127) четко читается Poloniam, в чем трудно увидеть нечто иное, кроме латинского обозначения Польши. Конечно, можно предположить, что латинский переводчик, столкнувшись с незнакомым хоронимом, заменил его более понятным словом. Но это не более чем догадки. В то же время, находясь в пространстве эпического повествования, мы вполне можем допустить сопоставление в нем несопоставимых, на наш рациональный взгляд, географических ориентиров – небольшого жупанства на знакомом далматинском побережье и огромного королевства на далеком севере. Следует помнить, что Польша выступала в далматинском предании как прародина местных славян. Таким образом, текст «Летописи» может отражать представления ее создателей о распространении пределов древнего «королевства» на север. При этом отмечается, что в него входили все приморские области (в том числе южнее Винодола) и все Загорье (Рашка). Это толкование тем более убедительно, что в дальнейшем в «Летописи» в качестве потомка Сенудслава и правителя Дукли выступает моравский князь Святополк, с которым связывается создание Константином и Мефодием славянской азбуки.
[Закрыть] с Загорьем – вымысел.
Но это не значит, что предание о гибели Остроила – тоже вымысел. Подобные сюжеты не рождались на пустом месте. За фигурами Остроила и Сенудслава, вне сомнения, стоят конкретные исторические лица VII в. Более того, историческую основу предания надо искать именно в событиях середины этого столетия, когда отношения Империи со славянами вновь обострились после пактов Ираклия. С Ираклием дукляне поддерживали мир – следовательно, гибель их первого князя должна была случиться позднее. Не исключено даже, что «загорский» поход Сенудслава отражает какое-то вмешательство дуклян в события на землях Македонии. Не обязательно, правда, делать столь далеко идущие выводы, как и связывать конец Остроила с подлинной карательной экспедицией из Константинополя. Князь дуклян мог пасть и жертвой столкновения с местными романцами из Бара, которых преувеличенное предание за века превратило в «императорские войска».
Правда, карательный поход имперской армии на славян в середине VII в. действительно состоялся. И подвел черту под новой чередой конфликтов. В 650-х гг. пиратство ринхинов и струмлян впрямую затронуло интересы Константинополя. Их суда плавали по всей Северной Эгеиде. Славяне перехватывали транспорты с доставлявшимся в столицу с островов урожаем в самом Мраморном море и Геллеспонте. Они совершили несколько налетов на императорские таможни, захватив стоявшие у причалов корабли и всех, кто там находился. Получив теперь в руки «множество» уже ромейских судов и начиная осваивать управление ими, они возвращались к себе[407]407
ЧСД 277: Свод II. С. 164–165.
[Закрыть].
Когда Констант понял, что дело не ограничивается угрозой для Фессалоники, то решил наконец вмешаться лично. В 658 г. император во главе войска «выступил против славинии», к Фессалонике. Армия двинулась по направлению к Струме через фракийские земли. Струмляне «заняли теснины и укрепленные места», отправив просьбы о помощи к князьям ринхинов и других славян. Неясно, подошла ли помощь, или славяне решились защищаться поодиночке. Во всяком случае, на этот раз им не помогло умение делать засады в горах. Войска Константа одержали несколько побед и прорвались в окрестности Фессалоники. В боях погибли самые сильные воины струмлян, многие знатные люди, они лишились тяжелой пехоты. Славяне бежали от победоносного императора. Застигнутых ждали смерть или рабство. Некоторые тайно пробрались в Фессалонику, а разоблаченные, открыли горожанам, что полные припасов поселения оставлены без охраны. Изможденные многолетней блокадой, безоружные и едва одетые солунцы огромной толпой бросились к Лите и разграбили славянские хижины, унеся оттуда пропитание[408]408
ЧСД 278–280: Свод II. С. 166–167; Свод II. С. 272–273 (Феофан). См. также: Византийки извори 1955. С. 221. Нап. 8 (отсылка к сведениям Ильи Нисибинского и сирийской же Хроники 817 г.).
[Закрыть].
Еще одновременно с выступлением на струмлян Констант отправил некоторое количество хлеба для поддержания Фессалоники. Затем, не доверяя бравурным реляциям городского начальства о состоянии граждан, он послал еще в дюжину раз больше. Отправка с этим транспортом в Фессалонику военных кораблей для охраны решило исход войны. Напуганные решительными действиями императора, славяне запросили мира. Констант согласился на условии «подчинения» македонских славиний императорской власти. Многих славян он угнал с собой в Константинополь, а затем расселил в Малой Азии, надеясь использовать в борьбе с арабами[409]409
О причинах мира см.: ЧСД 281: Свод II. С. 166–167. Ср. известия Феофана: Свод II. С. 272–273, 274–275 (первое упоминание славян, проживающих в Азии, – вскоре после «порабощения» македонских Константом). К гораздо более позднему времени относится упоминание в этом же районе селения Сагудаи (Анна Комнина. Алексиада. СПб., 1996. С. 402). Следует иметь в виду, что выселения из Македонии предпринимались и позднее, в том числе и в ближайшие десятилетия. Так что с уверенностью отнести появление этого местного названия именно к концу 650-х гг. нельзя. Правда, уже в VII в. известна христианская епархия Гордосерба к юго-востоку от Никеи (Нидерле 2002. С. 83). В случае, если догадка о связи ее названия с сербами справедлива, какие-то сербы (македонские?) оказались втянуты в события на стороне ринхинов и их союзников, а позже переселены в Азию. Но время появления Гордосербы на карте кажется слишком ранним для такой увязки, а этимология названия – более чем сомнительной.
[Закрыть]. На этом первая война южных славян против Византии закончилась.
Конец великой Болгарии
Пока балканские славиний звучно заявляли Империи о своем существовании, в Великой Степи развернулись события, возымевшие позже прямое отношение к их судьбам. В конце 641 г. умер хан Великой Болгарии Куврат[410]410
Восшествие на престол Безмера датировано в «Именнике болгарских ханов» годом Быка (протоболг. шегор) – 641-м. В то же время в середине этого года, согласно Иоанну Никиускому, Куврат еще был жив и участвовал на стороне императрицы Мартины, вдовы Ираклия, в ее борьбе с пасынком Константином, отцом Константа (см.: Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. С. 180). Умер Куврат уже в царствование Константа (Чичуров 1980. С. 36–60 (Феофан), 153–162 (Никифор); С. 111. Примеч. 265).
[Закрыть]. На престол Великой Болгарии в Приазовье вступил его старший сын Безмер-Батбаян[411]411
См.: Именник. 1981. С. 12; Свод II. С. 228–229 (Никифор), 276–277 (Феофан).
[Закрыть] – наполовину ант. В условиях происшедшего распада Аварии это не могло не содействовать упрочению связей между болгарами и антскими племенами. В эти годы влияние Великой Болгарии далеко распространилось на запад – по крайней мере, передвигались болгары по причерноморским степям к западу от Днепра совершенно свободно, как по своей территории. В то же время Великая Болгария еще сохраняла многие черты племенного союза. Хан из рода Дуло первенствовал, но наряду с ним ведали делами вожди остальных из «десяти родов» оногуров[412]412
По болгарским надписям VIII–IX вв. такая структура уже не прослеживается. Но она отразилась в сербском средневековом предании о переселении болгар, которое передает Дуклянин (Шишиħ 1928. С. 297).
[Закрыть].
Куврат, умирая, завещал своим сыновьям «никогда не отказываться от совместной жизни друг с другом, чтобы благодаря добрым взаимоотношениям уцелело все находящееся под их властью», «чтобы они оставались господами всего и не служили другому племени»[413]413
Свод II. С. 228–229 (Никифор), 274–275 (Феофан).
[Закрыть]. Однако сыновья отцовскому совету не вняли. Уже к концу следующего, 642 года между ними вспыхнула распря[414]414
Свод II. С. 228–229 (Никифор), 276–277 (Феофан). Дату («по прошествии недолгого времени», «немного спустя») позволяет уточнить «Именник болгарских князей», относящий вокняжение Аспаруха (Еспериха) к году вери (Волка/Тигра) (Именник 1981. С. 12) – 642. С Аспаруха начинается вторая часть «Именника». С этого времени числовые определители при названии лет в «Именнике» определенно означают месяц, а не год по 10-летнему циклу. Месяц восшествия Аспаруха – ениалем (11-й), что четко указывает на конец года.
[Закрыть].
Батбаян, пытавшийся сохранить единство, в итоге удержал власть над Великой Болгарией. Его племенем являлись так называемые «черные болгары», долго кочевавшие в Причерноморье. Второй сын, Котраг, получил имя по матери из племени кутригуров и, конечно, пользовался их поддержкой. Именно давняя вражда между кутригурами и антами и могла стать первопричиной усобицы. Котраг со своими присными откочевал на восток или северо-восток за Дон. Его племя составили так называемые «серебряные болгары» – предки волжских, часть которых, впрочем, вскоре осела и в Кавказских горах.
Третьего сына Куврата звали Аспарух. Более точно болгарское звучание этого имени, «Есперих», передано в «Именнике болгарских князей»[415]415
Именник. 1981. С. 12. Сходно в «Апокрифической летописи» – Испор (Иванов 1925. С. 282). См. также: Moravcsik G. Byzantinoturcica. Bd. 2. Berlin, 1958. S. 75–76.
[Закрыть]. Аспарух после разделения отцовской орды ушел за Днепр, в земли антов или приграничные с ними. Это, а также сохранение славянского имени Безмера в «Именнике» указывает на то, что Аспарух признавал главенство старшего (единоутробного?) брата и был с антами в союзе. В то же время не приходится сомневаться, что Аспарух брал дань с соседних славян и в Северном Причерноморье, как позже на Балканах. Только так понимала союз кочевая знать. Для самих же антов, пострадавших от аварского погрома и ига, дань союзным и родственным болгарам определенно являлась меньшим злом. Ни о какой вражде местных славян с Аспарухом нигде не упоминается – как и о том, что их пришлось покорять[416]416
Разделение орды Куврата описывают Никифор (Свод II. С. 228–229) и Феофан (С. 276–277).
[Закрыть].
Наконец, еще один сын Куврата, Кувер, потерпев поражение в распре, ушел со своей частью орды далеко на запад, по следам брата Альцека. Он, однако, собирался не бороться с аварами, а найти у них укрытие. По дороге в Паннонию он, также не встречая сопротивления, миновал антские земли. Это свидетельствует о нейтралитете самих антов в болгарской усобице – хотя сочувствовали они больше, конечно, Безмеру. Ослабленный Аварский каганат с радостью принял болгарское пополнение. Кувер возглавил болгар Аварии, сохранив титул хана («архонта»). Позднее ему были выделены в управление пограничные земли близ Сирмия и в Потисье с их насельниками – сирмисианами[417]417
ЧСД 286: Свод II. С. 170–171; Свод II. С. 228–229 (Никифор), 276–277 (Феофан). Феофан и Никифор, конечно, ошибочно, относят переселение и пятого сына Куврата ко времени после смерти отца – такая ошибка вполне объяснима, тем более что в Италии Альцек действительно объявился только в 660-х гг. Отождествлению четвертого сына, позднее переселившегося на Балканы, с Кувером ЧСД (Бешевлиев В. Първобългарски надписи. София, 1992. С. 106–108), нет убедительных альтернатив. Кувер, переживший Аспаруха, мог и вправду быть его моложе. В отличие от случая с Альцеком, это никаких хронологических трудностей не вызывает.
[Закрыть].
Смена власти в Великой Болгарии сопровождалась и вероотступничеством. Сразу после смерти Куврата или очень скоро после нее болгарская знать во главе с его сыновьями отреклась от христианства[418]418
К 680 г. болгары Аспаруха являлись «народом грязным и нечистым», по словам Феофана (Свод II. С. 276–277). Язычниками, без сомнения, являлись и Кувер (судя по ЧСД: Свод II. С. 168 и след.), и Аспарух с потомками (см. в том числе: Бешевлиев 1992). О том, что пришедшие на Балканы болгары Аспаруха были «поганы зело и безбожны», помнит и богомильский автор «Апокрифической летописи» (Иванов 1925. С. 282), – приписывающий их привод туда лично пророку Исайе!
[Закрыть]. Впрочем, ни о каком искреннем и глубоком обращении ко Христу и ранее речь не шла. Крещение для самого Куврата было актом политическим, частью союза с Империей, которым он с легкостью пренебрегал, в зависимости от обстоятельств.
Итак, созданная Кувратом Великая Болгария распалась. К концу жизни Куврат принял каганский титул[419]419
На каганат претендовало его потомство – Кувер (ЧСД 289. Свод II. С. 170–171) и, видимо, ханы Дунайской Болгарии, по крайней мере в сношениях со славянами (о чем свидетельствует сербское предание из Летописи попа Дуклянина – Шишиħ 1928. С. 297–298).
[Закрыть], и имел для этого немало оснований. И Аварский, и Тюркский каганаты находились в состоянии развала. Но теперь над ослабленными осколками и самой Болгарской орды сгущались тучи.
В 630 г. в Западнотюркском каганате началась очередная гражданская война. Представители разветвившегося рода Ашина вырывали друг у друга каганский престол. Погибли многие виднейшие представители тюркской знати и правящей династии, в том числе союзник Ираклия, хазарский ябгу. В усобицу вмешался как самостоятельный игрок влиятельный клан Дуло – прямые сородичи одноименной правящей династии Болгарии. Окончательный крах кочевой империи привел к обособлению независимого владения западных Ашина – Хазарского каганата. Хазары, таким образом, сохраняли верность законной династии Ашина. Болгары же оказались естественным союзником партии Дуло[420]420
См.: Артамонов 2002. С. 172–173, 188–189. Датировка обособления Хазарии 651 г. не обязательна, но вполне вероятна. В любом случае конфликт хазар и болгар начался гораздо раньше, как часть тюркской междоусобицы.
[Закрыть].
В 644 г.[421]421
Дата определяется сведениями «Именника» о трехлетнем правлении Безмера (Именник. 1981. С. 12). Очевидно, с 644 г. Аспарух перестал признавать брата верховным ханом. Связать это можно только с подчинением Безмера хазарам. Ведь «раздоры» братьев имели место в 642 г. – когда Аспарух и стал именоваться ханом.
[Закрыть] хазары после серии набегов на окрестные земли выступили в поход на запад. Они справедливо рассчитывали на малочисленность разобщившихся болгарских орд. Разгромив и отогнав от Дона Котрага, хазары затем вышли в Приазовье. Здесь они нанесли поражение болгарам Батбаяна. Разбитый хан был вынужден признать себя «подвластным» хазарам и обязался платить им дань[422]422
Свод II. С. 228–229 (Никифор), 276–277 (Феофан).
[Закрыть]. История приазовской Великой Болгарии завершилась, не насчитав и ста лет. Держава Куврата ненадолго пережила своего создателя.
Аспарух капитуляцию брата не признал и отверг его власть. Он продолжил борьбу с хазарами. В этой борьбе союзниками его могли выступать и антские племена, не желавшие нового, заведомо более жесткого кочевнического ига. Однако Аспаруха и его орду враги теснили все дальше на запад. Так началось движение болгар к Днестру и за Днестр, к Дунаю – приведшее в итоге к рождению Дунайской Болгарии.