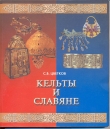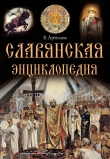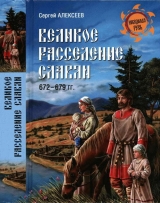
Текст книги "Великое расселение славян. 672—679 гг."
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Славяне к началу VII в.
К началу VII в. славяне прошли уже длительный путь общественного развития. Славянский Мир того времени представлял собой, с одной стороны, совокупность десятков малых племен-«родов» с собственными структурами власти, во главе с собственными князьями и воеводами. Но, с другой стороны, племена эти уже сплачивались в племенные союзы – первые зародыши государственности. Появляется подобие государственной власти в виде княжеской дружины. В юго-восточных, более захваченных Великим переселением народов землях она постепенно становится разноплеменной, а оттого и скорее надплеменной. Княжеская власть превращается в наследственную – сначала в рамках одного клана, затем собственно в династии. Параллельно слабеют иные, архаичные институты, сыгравшие ранее немалую роль в складывании предгосударственного устройства. Относится это прежде всего, к воинским и иным ритуальным союзам.
В славянском обществе разворачивался процесс расслоения, формирования новой социальной структуры. Отчетливо заметна родоплеменная знать (господа, «паны»), чье могущество пока основывалось на общинном старшинстве. Еще четче выделяется в древнеславянском обществе жречество (ведуны), хотя верховным жрецом являлся сам князь. Постепенно начали оформляться новая военная, дружинная знать и тесно с ней связанная племенная «администрация». Бурные события времени великих переселений привели к росту роли рабства и данничества.
Основными занятиями славян являлись земледелие и скотоводство. Земледелие носило на юге переложный или даже уже пашенный, на севере – преимущественно (но не исключительно) подсечно-огневой характер. На севере же, в том числе и из-за недостатка сельскохозяйственной продукции, обильнее занимались охотой, рыболовством, бортничеством. Жили славяне по преимуществу разбросанными поселениями-весями, объединенными в общинно-родовые и племенные гнездовья. Укрепленные грады – пока большая редкость. Ремесло развивалось почти исключительно как домашний промысел. Но гончары и кузнецы, по меньшей мере, уже изготовляют продукт на заказ.
Религия славян остается многобожной, сильно варьирующейся по отдельным племенным волостям. Первые попытки проповеди христианства в VI в. имели весьма скромный, если не почти нулевой успех. Во главе пантеона стоит, как правило, бог грозы Перун, покровитель князей и дружинников. Но с ним вполне успешно соперничает его антагонист, змееобразный бог загробного мира и даритель богатств Велес. Славянская обрядность носила еще первобытный характер, хотя наиболее буйные и жестокие черты архаики начинают понемногу уходить в прошлое.
Политическая карта славянского мира на рубеже VI–VII вв., пусть с известной долей приблизительности, но может быть восстановлена. Восточные земли от левых притоков Днепра до Прута и Карпат занимали антские племена. Номинальным центром не очень прочной антской общности, предполагаемым местом общеантского веча являлось городище Пастырское в лесостепи между Днепром и Южным Бугом. Общего князя или вождя анты не имели. Анты к концу VI в. являлись союзниками Византии в войне против авар и собственных сородичей словен – последними в Европе. На востоке они соседствовали с кочевыми племенами – болгарами, хазарами, савирами.
Восточную ветвь словен представляли дулебы. Дулебский племенной союз во второй половине VI в. достиг наивысшего расцвета. Северная, основная его часть охватывала территории от Днепра до Западного Буга, с севера ограничиваясь припятскими топями. На юге в состав дулебской общности в этот период временно, как автономная единица, вошли дунайские словене, занимавшие земли между Прутом, Карпатами и Дунаем и включавшие (как, впрочем, и большинство дулебов) значительный антский элемент. Во главе дулебского племенного союза с центром в городище Зимно на Западном Буге стоял правитель-князь с титулом «Маджак» (в арабской транскрипции) или «Мусок» (в греческой). «Малые» князья и воеводы отдельных племен или племенных групп формально подчинялись его верховной власти. В Аварских войнах конца VI в. дулебы и дунайцы выступали на стороне авар. Это сблизило их с каганатом и привело в конечном счете к распространению аварского влияния на восток до низовий Дуная.
Западная ветвь словен, ляхи, потомки живших по левобережью Западного Буга лендзян, во второй половине VI в. расселились вверх по Висле и Бугу, на земли современной Польши. Здесь в результате смешения с разрозненными родами венедов (суковско-дзедзицкой археологической культуры) сложилась новая этническая группа. Политического единства она не представляла, но представляла ритуальное – вокруг капища Змея-Велеса на горе Вавель (ныне Краков). В конце VI в. лендзяне вступили в союз с Аварским каганатом и участвовали в переселениях на Балканы. Также поступили и оттесненные ими на северо-запад, в земли по Лабе (Эльбе) венедские племена ободричей и др. В описываемый момент их движение на север, к Балтике, еще продолжалось, что не помешало части их переместиться на Балканы в ходе Аварских войн.
Противостоящую натиску авар группу северных славянских племен представляли, прежде всего, западные хорваты – переселенцы из антских прикарпатских областей. Сплотив вокруг себя часть славянских племен Чехии (Богемии) и Силезии, а также своих сородичей сербов, они в VI в. создали единый племенной союз во главе с сакральными правителями, носившими титул Крок или Крак. Борьба хорватов и сербов против авар становится важным движущим фактором развития событий не только в этих землях. В то же время жившие к юго-востоку от чехов мораване в числе первых попали под власть Аварского каганата и также участвовали в балканских войнах и переселениях.
К северу от хорватского к концу VI в. возникает еще один враждебный аварам и их славянским союзникам племенной союз. Его создатели – выходцы из Силезии велеты, основатели фельдбергской археологической культуры. Велетский союз со своей единой княжеской властью, жесткой общественной структурой и высокой боеспособностью надолго превратился в серьезного противника соседних племен и государств. И в то же время он оказался в состоянии обеспечить себе независимость и обширные земли.
Далеко на северо-востоке, в полной изоляции от южных сородичей, развивалась племенная общность славян-кривичей. Ее главным центром являлись земли к югу от Чудского озера, по реке Великой. Но кривичские поселения уже в V–VI вв. распространились далеко на восток, до Поильменья и даже Белозерья. На юге кривичи рассеянно жили среди балтов Подвинья и Верхнего Поднепровья. Смешение с балтскими и финскими племенами наложило отпечаток на историю и культуру кривичей. Они пока не представляли политического единства – но осознавали свою общность, основанную на происхождении от божественного предка Крива (Бая, Beлеса).
Перечисленные здесь племенные союзы было бы не совсем верно определять как непосредственных предшественников славянских государств Средневековья. Бурные исторические события VII–VIII столетий существенно перетасовали племенные границы, породили новую политическую реальность. Но кое-какие линии преемства все же прослеживаются. И именно в VII–VIII вв., по мере зарождения средневековых народностей, начинается строительство тех государств, которые известны из писанной славянскими хронистами истории.
Глава первая.
ЗАВОЕВАНИЕ БАЛКАН
Начало последнего нашествия
На момент «революции Фоки» дела аваро-словенского союза в его противостоянии с Империей обстояли далеко не лучшим образом. Словене только что понесли тяжелое поражение от ромейских войск, хотя и сохранили волю к сопротивлению. Аварский поход против союзников Константинополя, антов, оказался сорван мятежом в каганате. При этом мятежники откочевали за Дунай, под власть и защиту императора Маврикия. В этих условиях мятеж Фоки, оголивший границу на Дунае, оказался для кагана и его союзников наилучшим подарком. Падение же Маврикия, начавшее гражданскую войну в Империи, послужило сигналом к масштабному вторжению.
Нельзя сказать, чтобы Фока никак не пытался этому помешать. Он присвоил себе императорский титул, конечно, не ради того, чтобы потерять половину имперских земель. Но главной заботой узурпатора сразу же оказались азиатские провинции. Персидский царь Хосров, многим обязанный Маврикию, под лозунгом мести за него возобновил ромейско-персидскую войну. На его стороне выступила и часть самих ромеев во главе с самозванцем Феодосием, выдававшим себя за якобы спасшегося сына Маврикия. В условиях развала государственной машины Фока сделал выбор в пользу именно восточной войны. На западе он обязался выплачивать кагану повышенную дань, фактически признав поражение Империи.
Каган принял и эту щедрость нового императора, но от завоевания балканских провинций не отказался. Можно не сомневаться, что наблюдавшие развал Ромейской державы и лишенные ее поддержки авары-перебежчики не преминули вернуться к прежнему властелину. Теперь они превращались в авангард масштабного аваро-славянского нашествия.
О нем мало что известно. Греческие историки о действиях авар сообщают в общих фразах, а о славянских вообще не упоминают. Сколько-нибудь ясные и все равно отрывочные сведения о действиях «варваров» в Европе при Фоке имеются только в негреческих источниках (Хроника Иоанна Никиуского, «Армянская география»). Действительно, правители Империи за ожесточенной Персидской войной и собственными раздорами просто не обращали внимания на происходившее в Европе. Дань, выплачиваемая кагану, давала призрачную безопасность Константинополю. Во всех остальных землях Балкан «варвары» действовали по своей воле, но это Фоку и его окружение волновало тем меньше, чем сильнее качался престол под узурпатором. Так что письменные свидетельства о событиях поистине значимых, положивших начало истории южных славян, крайне скудны.
Историю начального этапа последнего славянского нашествия на земли Империи можно восстановить лишь по названным негреческим сочинениям, данным археологии, языка[1]1
Маршруты славянской миграции на Балканах на основе топонимических данных намечены в работе: Займов Й. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967.
[Закрыть], а отчасти и по поздним южнославянским преданиям. На основе болгарского средневекового предания можно заключить, что местом переправы стали окрестности Видина (Бдына), ромейской Бононии[2]2
Среднеболгарский перевод хроники Константина Манассии в славянских литературах. София, 1988. С. 228. В болгарской приписке к Хронике говорится: «При Анастасии царе начали болгары захватывать землю эту, перейдя в Бдыне, и прежде начали захватывать равнинную землю Охридскую, а потом эту землю всю». В приписке имеются в виду набеги кочевых болгар из Северного Причерноморья и Нижнего Подунавья на Фракию, начавшиеся действительно при Анастасии, в конце 490-х гг. Они достаточно подробно описаны в византийских источниках. Болгарская приписка восходит к известию греческого хрониста XII в. Зонары, однако интерпретация сведений о болгарских набегах как начале процесса «поимания» страны принадлежит, конечно, болгарскому автору. Далее, ни в одном византийском источнике в связи с этими событиями не упомянут Бдын (Видин, Бонония). Город находится гораздо выше по Дунаю, чем традиционное место болгарских переправ ближе к дельте. Однако именно в этом районе, против Олтении, нередко переправлялись славяне. С учетом упоминания «Охридской земли» можно заключить, что здесь отражается именно славянское переселение начала VII в. Интересен в этой связи образ болгарского «исхода». В сознании христианизированного народа, и тем более христианских книжников, древнее переселение неизбежно ассоциировалось с библейским сюжетом. Мы видим это уже в богомильской «Апокрифической летописи» XI в., где в роли Моисея выступил другой библейский персонаж – Исайя, «жезлом показующий» «куманам» (здесь – кочевые болгары) путь на новую родину. В приписках к «Хронике» перед нами другой фрагмент – и иной, более «славянизированный» вариант – того же переселенческого эпоса об «исходе». Если в «Апокрифической летописи» слияние воспоминаний о приходе славян в конце VI – начале VII в. и приходе болгар около 680 г. можно только угадывать, то здесь это слияние очевидно. В эпоху Второго царства славяне, перешедшие во Фракию в районе Видина, уже воспринимались (в местном ли предании или в общепринятой и общеизвестной традиции) как болгары. Более того, встретив первое упоминание о древних, кочевых болгарах у Зонары, болгарский летописец не усомнился отождествить его с известным ему преданием об «исходе».
[Закрыть]. Это подтверждают и наблюдения за распространением славянских местных названий на Балканах. Они же позволяют заключить, что к начатому славянами Мунтении и Олтении нашествию присоединились во множестве сородичи с запада, из земель, подвластных напрямую аварскому кагану.
Общее число принявших участие в нашествии племен, по «Армянской географии», – 25.[3]3
Патканов К. Из нового списка географии, приписываемого Моисею Хоренскому // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 226. 1883. С. 27.
[Закрыть] Речь на этот раз шла не просто о завоевательном походе, но о массовом переселении. Славяне, конечно, и ранее оседали на имперских землях целыми семьями и «родами». Но в этот раз поток переселенцев несказанно превысил все предыдущие. К тому же за ним последовали новые и новые вливания из-за Дуная, продолжавшиеся почти весь VII в. Столь грандиозное вторжение не могло быть разовым «предприятием» одного-двух вождей и тем более провокацией аварского кагана. Несомненно, он изначально приложил к этому руку и первые годы действовал со славянами в союзе – но не более того. Переселенцами определенно двигали не зависевшие от их воли обстоятельства. Перенаселение придунайских областей ощущалось все тяжелее. Разорение их в ходе Аварских войн усугубляло проблему.
Из племен, участвовавших в нашествии, нам известны далеко не все. Многие племенные названия возникли уже на Балканах. Встречались племена антского (северы, или севера, сагудаты), ляшского и полабского (смоляне и действовавшие на западе, в Далмации, лендзяне) и дулебского (дреговичи, берзичи) происхождения. Наряду с ними участвовали в переселении и племена, сложившиеся собственно на Дунае – или южнее, в ходе самого переселения. Таковые мы можем предполагать в племени с выразительным наименованием «войничи» (греч. Bαιουνηται) и в велеездичах (Bελεγεσηται), чье название происходит от двусоставного «княжеского» имени Велеезд[4]4
Наиболее убедительна для последнего названия этимология Ф. Малингудиса (от *Velejezdъ) (Malingoudis Ph. Studien zu den slavishen Ortsnamen Griechenlands. Bd. I. Wiesbaden, 1981. S. 149–150). Четких альтернатив не предложено. О войничах см.: Български етимологически речник. Т. 1. София, 1962. С. 173.
[Закрыть].
В переселение на самых разных участках оказались втянуты десятки племен и «родов», прежде всего с территорий, так или иначе подвластных Аварскому каганату. Культурой своей и языком они уже отличались от составивших основу переселенческого потока восточных славян – антов и дулебов. В заселении Фракии и Македонии, например, определенно приняли участие «ляшские» выходцы (известны нам смоляне). Участвовали в движении на Балканы с первых его лет и пришельцы из «чешско-словацких» земель (мораване и др.)[5]5
Это отразилось, помимо археологических данных, в некоторой пестроте грамматики и словарного состава южнославянских языков. См.: Славянские языки. М., 1995. С. 19.
[Закрыть] -
Переправившись в районе Видина, славяне разделились на два потока. Один, главный, двинулся прямо на юг, к «Охридской земле», где первые славяне осели уже в конце VI в. Другие переселенцы разными путями шли вниз по Дунаю, по южному берегу. В их числе сильнейшим племенем были северы, возглавившие возникший во Фракии союз Семи родов[6]6
Это племенное объединение во главе с северами упоминается в связи с нашествием болгар Аспаруха около 680 г. у Феофана (Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2. М., 1995. С. 278–279). О вхождении северов в союз Семь родов см. там же, комм. 319. С. 314–315. Название «Семь родов» могло и не отражать никакого конкретного числа. Выделение северов вкупе с длительным сохранением в Болгарии предания о вожде Славе (ср. имя северского князя Славун – Свод II. С. 284–285), указывает, как представляется, на лидерство этого племени в союзе. Смутная память о распаде старых и выделении новых «родов» после переправы через Дунай видна в болгарском народном предании об основании Видина. Названия Гамзиграда, Костольца, Кулы и Видина производятся здесь от имен мифических героев – двух братьев и двух сестер. Они «вместе жить не могли» и потому основали отдельные крепости (Българско народно творчество. Т.II.София, 1963. С. 450).
[Закрыть]. Это вторжение с запада покончило с нижнедунайским отрезком лимеса. Славяне разрушили ряд нижнедунайских крепостей. В частности, тогда погиб античный город Каллатии в самых низовьях, один из важных центров провинции Скифия[7]7
Федоров Г.Б., Полевой Л.Л. Археология Румынии. М., 1973. С. 243.
[Закрыть]. Под натиском новопришлых бежали местные жители, прежде жившие еще совместно с фракийскими словенами. Это видно, например, на примере туземного кладбища Петра-Фрэкецей в Северной Фракии. К началу VII в. на нем появляются славянские погребения, а затем хоронить здесь вовсе перестали[8]8
Федоров, Полевой 1973. С. 248,250.
[Закрыть].
Двигавшиеся на юг, к Охриду, славяне также в итоге разделились на два потока. Зримая причина тому – необходимость обойти с востока и с запада неприступную Фессалонику. Иоанну Никиускому казалось, что это единственный греческий город, кроме столицы, оставшийся свободным от «варваров» в Европе к 610 г.[9]9
Свод II. С. 357.
[Закрыть] Здесь некоторое преувеличение, однако ни славяне, ни авары действительно не стали штурмовать Фессалонику при Фоке.
Западная ветвь свернула также во Фракию. На границе провинций Родопа и Македония образовался очаг славянского расселения, занятый позднее, в числе прочих, племенем смолян. Возможно, что еще одной причиной разделения стали какие-то разногласия между выходцами из далекого полабского региона и племенами восточного происхождения, осевшими затем в Македонии.
Район древнего Лихнида славяне освоили еще в конце нашествия 580-х гг. Теперь основанное на развалинах античного города славянское село превращается в укрепленный град Охрид, столицу племени берзичей[10]10
Седов В.В. Славяне в раннее Средневековье. М., 1995. С. 339.
[Закрыть]. По соседству с ними осели сагудаты, дреговичи, велеездичи, войничи. VII век – время строительства многих славянских поселений на Балканах. Некоторые из них возникали на месте прежних неславянских – как разрушенных крепостей (Долно-Церово, Перник в верховьях Струмы), так и сел, покинутых прежними обитателями[11]11
Там же. С. 162.
[Закрыть].
Из Македонии славяне во множестве проникали на запад от Охридского озера, в Старый Эпир. Населявшие эти земли едва романизированные горные иллирийцы вскоре начали смешиваться с пришлыми славянами и фракийцами – процесс, положивший начало албанской народности. Это отразилось в древностях команской культуры VII–IX вв.[12]12
Там же. С. 166–167.
[Закрыть] Такое мирное или в основном мирное смешение завершилось «в пользу» фрако-иллирийского элемента, но гораздо позднее. В VIII же веке окрестности Диррахия, древней столицы Старого Эпира, числились «аварской» территорией[13]13
В написанном примерно в 30-х гг. VIII в. «Житии Панкратия» (Свод II. С. 333).
[Закрыть]. «Авары» же – обычное наименование заселивших Элладу славян среди греков. Южноэпирские земли оставались славянскими еще долгое время после того.
На завоевании Фракии и Македонии первая волна нашествия остановилась[14]14
Судя по «Армянской географии», едва ли не единственному нашему источнику (Патканов 1883. С. 27). И археологический материал, и письменные источники согласны в том, что выступающие там как второй этап нашествия действия в Далмации и Элладе происходили уже при Ираклии.
[Закрыть]. Славяне начали расселяться на новых землях, замиряясь и смешиваясь с местными сельскими жителями. Впрочем, во многих местах, опустошенных внешними и внутренними войнами, голодом и эпидемиями, славяне не встречали никакого туземного населения и обосновывались беспрепятственно. Особенно это касалось приграничных земель Нижней Мезии и Скифии, где осела основная масса Семи родов[15]15
Подчеркивание этого, судя по Апокрифической летописи, стало довольно важным элементом самосознания болгар после падения Первого царства в XI в. – болгары занимают «землю Карвунскую» (Добруджу), которую до того «запустили греки и римляне», «опустевшую от эллинов за 130 лет» (Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925. С. 281).
[Закрыть]. После 610 г. воины-завоеватели в массовом порядке начали перевозить из-за Дуная свои семьи. Именно тогда появляются на юге «антские» пальчатые фибулы – застежки женских плащей[16]16
Седов В.В. Славяне в раннее Средневековье. М., 1995. С. 99–100.
[Закрыть].
Расселение во Фракии и Македонии происходило, как уже сказано, во многом стихийно – не против воли аварского кагана, но и вряд ли по его велению. Несколько иначе обстояло дело на западе, где переселенные самим каганом к границам Империи племена лендзян и стодорян штурмовали границы провинций Далмация и Истрия.
После крушения пограничной обороны в Далмации на рубеже VI–VII вв. аварский каган предоставил земли провинции в полное распоряжение своей основной ударной силе на этом участке – лендзянам. В первые десятилетия VII в. лендзяне обживали Далмацию, не упуская, естественно, стеснять при этом романское население прибрежных городов, в том числе столицы провинции – Салоны[17]17
Память об этих событиях сохранило местное далматинское предание, передаваемое Фомой Сплитским: Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. М., 1987. С. 30–31,240–241. Фома, в отличие от Константина Багрянородного, четко отличает авар («готов») от славян-лендзян («лингонов»). Однако вместе с тем для него (в отличие от Константина) аваро-славянское нашествие уже слилось с хорватским завоеванием Далмации, а хорваты отождествились с античными куретами, превратившись, таким образом, в балканских автохтонов. Но – опять же в отличие от ученого императора – Фома помнит о промежутке времени между вторжением рубежа VI–VII вв. и взятием Салоны ок. 615 г.
[Закрыть]. Но, несмотря на все чинимые салонитам тяготы, занятые заселением доставшейся территории славяне не посягали на сами стены далматинских городов до воцарения Ираклия. Приход на рубеже VI–VII вв. в Далмацию славян вместе с аварами подтверждается археологами. Данные археологии свидетельствуют не только о конфликтах, но и о мирном взаимодействии славян с местными жителями[18]18
Седов В.В. Славяне в раннее Средневековье. М., 1995. С. 29–30, 129.
[Закрыть]. Как и в других местностях, славяне и авары воспринимали как своих врагов в первую очередь жителей городов – основной опоры имперской власти и армии. Поселяне, готовые нести повинности в пользу победителей (не более тяжкие, чем имперские подати), могли оставаться на своих местах, жить бок о бок со славянами, родниться с ними.
Наряду с заселением в Далмацию, продолжались в царствование Фоки и набеги славян в западном направлении, на Истрию и ромейскую Италию. Движущей силой выступали стодоряне и соседние с ними племена, издавна оседавшие в альпийском Норике. В этот период разнородные элементы – славянские, лангобардские, романские – сливаются здесь в новую славянскую культуру[19]19
Там же. С. 275–277.
[Закрыть]. Это, разумеется, нисколько не мешало славянам под главенством авар и в союзе, кстати, с теми же лангобардами вести войну против ромеев. О ходе этой войны мы имеем несколько более четкое представление, чем о событиях на востоке, – благодаря «Истории лангобардов» Павла Диакона.
В июле 603 г. король лангобардов Агилульф выступил из Милана на принадлежавшую ромеям Кремону. Лангобарды, как и авары, спешили воспользоваться последствиями византийской смуты. На помощь союзнику аварский каган отправил славянские отряды. Вместе с ними Агилульф осадил Кремону. 21 августа город пал и по приказу короля-победителя был до основания разрушен. Затем лангобарды и славяне направились к Мантуе. Последовала новая осада – и когда стены разрушили с помощью таранов, гарнизон сдался под гарантии безопасности. Агилульф разрешил ромеям уйти в Равенну и 13 сентября вошел в Мантую. За Кремоной и Мантуей последовали другие ромейские крепости. В конечном счете правивший Равенной экзарх вернул Агилульфу захваченных ранее дочь и зятя (главный повод к войне) и заключил перемирие. Только так удалось остановить успехи лангобардов и их славянских союзников[20]20
Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 28: Свод II. С. 484–485.
[Закрыть].
Переселение масс славян на обширные земли к югу от Дуная, естественно, сопровождалось постепенным запустением территорий к северу от великой реки. Ипотештинская культура медленно, но неуклонно приходит в упадок. Уже в начале VII в. прекратились захоронения на самом крупном ее могильнике – Сэрату-Монтеору[21]21
Седов В.В. Славяне в раннее Средневековье. М., 1995. С. 103.
[Закрыть]. Но другие могильники (например, в Ловне) продолжают пополняться погребениями и в эти годы. Возникают и новые поселения (например, Лозна-Дорохой)[22]22
Там же. С. 103–104.
[Закрыть]. При явном сокращении населения северодунайские земли пока отнюдь не запустели.
Не стало их население и менее славянским. На юг уходили не только славяне, но и жившие с ними бок о бок романцыданувии. Более того, они уходили даже с большей охотой. Массовое переселение позволяло разорвать узы зависимости от славян, основывать собственные поселения, слиться с давно потерянными задунайскими сородичами. В итоге получилось так, что доля славянского населения к северу от Дуная в VII в. только возрастала[23]23
Там же. С. 104 (на более раннем поселении Сучава-Шипот славянская лепная керамика составляет 60%, а на Лозна-Дорохой – до 76%).
[Закрыть].
Аварское иго
В результате событий 602 и последующих годов Аварский каганат на короткое время оказался в роли сильнейшего государства как минимум Восточной Европы. Для кочевой знати во главе с каганом это само по себе означало сигнал к активным действиям. Не только по окончательному сокрушению врагов, но и по покорению вчерашних союзников. Внезапный успех вскружил верхушке каганата голову. Мы достаточно подробно можем наблюдать это на примере отношений с лангобардами. Уже очень скоро объектом агрессии кочевников, наряду с ромейской Истрией, оказался и лангобардский Фриуль. Но один из первых ударов пришелся по «союзным» каганату славянам.
Переселение славян за Дунай отвечало интересам авар – в том числе и в смысле установления более прочной власти над «союзниками». Разрозненные по большей части «роды», не обосновавшиеся еще на новых землях, естественно, искали объединяющее начало, могущественных покровителей. А такими могли выступить только авары. С другой стороны, переселение, начавшееся от избытка народа, постепенно начало ослаблять, даже обескровливать славянские земли к северу от Дуная. Авары быстро подметили, что это открывает для них новые возможности.
Еще в первые годы VII в. (если не ранее[24]24
Fred. Chron. IV. 48: Свод II. С. 366–367 (как минимум старшие славяно-аварские метисы уже были взрослыми к 623 г.).
[Закрыть]) авары установили более плотный контроль над славянскими землями к северу от Среднего Дуная. Эти территории – Поморавье и примыкающая к нему Южная Словакия. Здесь в VII в. распространяется культура, названная археологами «аваро-славянской»[25]25
Седов В.В. Славяне в раннее Средневековье. М., 1995. С. 30, 128–129,287.
[Закрыть].
Авары не только обложили данью подвластные славянские племена, но и взяли себе в обычай зимовать в славянских придунайских землях. Во время этих зимовок они брали себе на ложа и дочерей, и жен славян[26]26
Fred. Chron. IV. 48: Свод II. С. 366–367.
[Закрыть]. Детей от этих браков каганы намеревались использовать в своих интересах. Памятниками авар к северу от Дуная остались кочевнические захоронения в славянских или смешанных могильниках – в сопровождении коней, с предметами конской сбруи. Они обнаружены повсеместно – но в небольшом по отношению к общему числу погребений количестве. Наиболее крупные аваро-славянские кладбища появились в VII в. в Поморавье и Словакии. В Голиаре 26 аварских всадников с конями погребены на старом славянском могильнике, среди сожжений славянских общинников. Вместе с ними появляется гончарная керамика позднеримских и дунайских типов. В Нове Замку близ Нитры из 514 погребений – 26 всаднических с конями, в 4 случаях с оружием. Основанный в начале VII в. могильник в Желовцах (Словакия) в числе 870 могил содержал немало всаднических погребений. В 18 из них найдены кочевнические сабли, в том числе в одном детском, в 10 – луки. При оценке этих данных надо иметь в виду, что погребения совершались на протяжении весьма долгого времени, до полутора-двух веков. Аварские вещи обнаруживаются и на славянских поселениях в Словакии и Южной Моравии. Дальше на север проникали лишь отдельные авары – или аварские предметы. Богатые поясные наборы, к примеру, ценила и чешская знать[27]27
Sklenar K. Pamatky praveku na uzemi CSSR. Praha, 1974. S. 272–273, 285–286; Седов 1995. С. 128–129, 287.
[Закрыть].
Аварские воины-всадники пытались заменить собой и своим полуславянским потомством племенную верхушку, но численность их оставалась незначительной. Местная же знать в значительной части оказалась истреблена. Остатки родовых «господ» служили завоевателям в качестве старшин административных округов каганата, жуп – жупанов. Этот титул для обозначения мелкого племенного вождя-старейшины позднее прижился у западных и юго-западных славян. Жупы примерно соответствовали (а затем стали точно соответствовать) малым славянским племенам, включавшим по нескольку «родов»-общин.
Славяне обеспечивали завоевателей не только продуктами земледельческого труда, но и воинской силой. «Когда гунны шли в поход, – пишет Фредегар, – против какого-либо народа, гунны, собрав свое войско, стояли перед лагерем, виниды же сражались. Если они оказывались в состоянии победить, тогда гунны подходили, чтобы захватить добычу. Если же винидов одолевали, то, поддержанные гуннами, они вновь обретали силы… Они шли впереди гуннов, образуя в сражении двойную боевую линию». Отсюда происходило наименование славян в аварской среде – латино-германское слово «бифульки», «двойное войско»[28]28
Fred. Chron. IV.48: Свод II. С. 366–367. Представляется, что объяснение фредегаровских «бефульков» самим Фредегаром – единственно убедительное. Распространенная версия о том, что авары использовали для обозначения славян славянское же слово byvolci, «волопасы» (?), потому что те не играли в битвах существенной роли, а служили лишь погонщиками (Mayer Т. Zu Fredegars Bericht über die Slawen.// Mitteilungen des Instituts fur österreichische Geschichtsforschung. Bd. 11. Wien, 1929. S. 118–119), прямо противоречит показаниям источника – на что по неясным причинам редко обращается внимание. Использование смешанного наречия с германскими и романскими элементами в разноплеменной Паннонии вполне вероятно. О такой же тактике авар сообщает и Пасхальная хроника (Свод II. С. 76–77), надежно подтверждая известие Фредегара.
[Закрыть]. Помимо всего прочего, славянские мастера изготавливали для авар ремесленные изделия – в том числе оружие и детали высоко ценившихся кочевой (и славянской) знатью поясных наборов. Привезенные с Востока образцы становились импульсом для дальнейшего развития славянского ремесла[29]29
Sklenar 1974. S. 273; Седов 1995. С. 129.
[Закрыть].
На обширных покоренных каганатом пространствах естественным образом встречались и сливались различные культуры. Так и славянская культура на Среднем Дунае уже в самом начале VII в.[30]30
Рюсенская культура, принадлежавшая сорбам, отнюдь не вассалам каганата, и сложившаяся дальше на север в первых десятилетиях VII в. уже несет на себе все основные черты развивавшегося в рамках каганата симбиоза (дунайская гончарная керамика, каменное строительство, ингумации) (Седов 1995. С. 143–144).
[Закрыть] переплелась с романской и германской. Ранее подобное происходило преимущественно в приальпийских землях Норика с их смешанным населением. Теперь это характерная черта аваро-славянской культуры Подунавья. Поспособствовали этому принудительные переселения целых племен и жителей придунайских римских городов, устраивавшиеся каганами. В процесс включились и подвластные кагану племена балканских славян. Потому языки предков чехов и словаков (особенно среднесловацкие диалекты) сблизились со славянским югом[31]31
Славянские языки 2005. С. 19–20.0 том, что речь не идет просто о выселении со Среднего Дуная на Балканы, свидетельствует переход в среднесловацкие диалекты как особых южнославянских черт, так и общих восточно-южнославянских. Правомочно говорить о складывании единой диалектной зоны в сфере влияния Аварского каганата.
[Закрыть].
Северные славяне восприняли от новых соседей гончарный круг. В славянской среде к северу от Дуная на смену лепной пражско-корчакской приходит новая гончарная керамика так называемого дунайского типа. Родившись в центральных областях каганата, у славян она восприняла многие черты местной посуды. Керамику украшали простейшим, но богатым орнаментом – волнистым или линейным[32]32
Седов В.В. Славяне в раннее средневековье. М, 1995. С. 128–129.
[Закрыть]. Уже скоро, в считаные годы, гончарство (как и другие черты аваро-славянской культуры) выходит за пределы каганата и распространяется среди его врагов. Культурное взаимодействие славян по обе стороны аварской границы не прерывалось. К тому же из аварской Паннонии бежали на свободный еще север как славяне, так и создавшие дунайскую керамику романские гончары[33]33
Sklenar 1974. S. 272, 285.
[Закрыть].
Появляются в славянской среде и погребения по обряду трупоположения здесь как раз под воздействием самих завоевателей, а не только покоренных ими народов. Славяне хоронили умерших на одних кладбищах с аварами. Славянские могилы отличаются западной или юго-западной ориентировкой погребенных и сравнительно небогатым инвентарем (посуда, отдельные украшения). В некоторых из них, как и у авар, – романское влияние – находят остатки деревянных гробов или обкладки захоронений досками. Но в основном славяне сохраняли верность своему обычаю кремации. К VII в. относится ряд грунтовых могильников с трупосожжениями в Поморавье и других славянских землях[34]34
Sklenar 1974. S. 273, 280, 285; Седов 1995. С. 128–129.
[Закрыть].
Наконец, вслед за своими сородичами с приальпийских земель, славяне Среднего Подунавья восприняли от романцев начала крепостного строительства. Стены градов начали местами строить из камня, а на подсыпанном к стенам валу устраивались деревянные палисады, решетки или иные дополнительные заграждения. Эту новую технику тоже быстро восприняли и противники каганата. Уже в первых десятилетиях VII в. грады нового типа вырастают в Чехии, Моравии и даже в междуречье Лабы и Заале[35]35
Седов В.В. Славяне в раннее средневековье. М, 1995. С. 143–144.
[Закрыть].
Интенсивное градостроительство, развернувшееся по обе стороны границы, – недвусмысленное свидетельство разжигавшихся аварами распрей между союзными и враждебными им славянскими племенами. Оно принесло наступившей на землях Чехии и Словакии в VII в. эпохе название «старогородищенской». К этому периоду относится возникновение целого ряда важных в будущем градов Моравии (Микульчице, Старе Место, Бржецлав-Поганско, Зноймо и др.) и Словакии (Нитра). В их древнейших слоях преобладает еще пражско-корчакская керамика. Некоторые из них, впрочем, еще не были тогда укреплены. Но Микульчице – самый старый и значимый среди градов Моравии – уже на первом этапе своего существования, с начала VII в., защищен частоколом. Здесь вместе со славянами жили и завоеватели-авары[36]36
Sklenar 1974. S. 273, 292, 294, 302, 304; Седов 1995. С. 287–289, 292.
[Закрыть].
Авары и их подданные чаще выступали как нападающая сторона. Поэтому большинство градов строилось к северу от аварских границ. Особенно много их в Центральной Чехии, вплоть до границы с Моравией. Но есть они и в других областях. Ранние грады являлись, прежде всего, убежищами от кочевнических набегов. Со временем, однако, в них появляется постоянное население. Жители градов занимались возделыванием окрестных земель. Но размещение в градах князей с их дружинами притягивало мастеров, работающих на заказ. Так грады превращались в центры ремесла. Защищались они обычно деревянным палисадом. Но тогда же, в VII в., славяне возводят уникальную оборонительную систему в Праховских скалах. Используя выгоды гористой местности, они восстановили и расширили древние валы, превратив гнездовье неукрепленных сел в настоящую крепость против кочевников[37]37
Sklenar 1974. S. 273–274, 283–285.
[Закрыть].
Грады с рубежа VI–VII вв. строят славяне и дальше на север, в Силезии. Среди первых силезских градов – Гостынь, Кленица, Пшыток, Попенчыце, Полупин, Каменец. Все это небольшие племенные крепости-убежища. Но некоторые из них определенно возводились и как политические центры племен[38]38
Кухаренко Ю.В. Археология Польши. М., 1969. С. 125; Historia kultury materialnej Polski. T. 1. Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978. S. 26, 38.
[Закрыть].
Авары не ограничились закреплением власти над уже покоренными славянами Среднего Дуная. Следующий удар направили на восток, в земли дулебов. Уже на рубеже VI–VII вв. каганат установил контроль над Нижним Подунавьем. В условиях оттока отсюда славян на Балканы этот контроль неизбежно укреплялся. В то же время дулебы, отдавшие великому переселению на юг немало и своих людских сил, имели основание считать земли дунайцев (а может, и задунайские) своими. Это – наиболее вероятная причина прямого столкновения между ними и аварами, происшедшего в пору наивысшего расцвета каганата, в первой четверти VII в.
Столкновение это положило конец дулебскому союзу племен под главенством «царя» бужан Мусока (Маджака). То ли в связи с аварским ударом, то ли независимо от него (или даже невольно создавая для него условия) в среде дулебов разразилась распря. Власть бужанского великого князя над огромной территорией, на которой расселились происшедшие от бужан племена, неизбежно стала призрачной – а со временем и вызвала раздражение. «Раздоры» привели к распаду союза и возникновению независимых племенных «княжений». Это событие отразилось не только в волынском предании, записанном в X в. Масуди[39]39
Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах.СПб., 1870.С. 138.
[Закрыть], но и в русских летописях. Повесть временных лет говорит об одновременном возникновении племенных «княжений» у древлян, дреговичей и полян. Правда, киевский летописец предпочел приурочить это событие не к гибели древнего дулебского союза (о чем говорит в другой связи), а к смерти основателя Киева Кия[40]40
Впрочем, не приписывая, кажется, и ему власти над всеми этими племенами: Полное собрание русских летописей. Т. 1 (Лаврентьевская летопись). М., 1997. Стб. 10; Т. 2 (Ипатьевская летопись). М., 1998. Стб. 8; Т. 38. Л., 1989 (Радзивилловская летопись). С. 13. При некотором желании отражение распада дулебского союза можно увидеть и в белорусском предании о полевиках и полешуках (отражающем, возможно, этногонические сказания дреговичей), где говорится о восстании против сородичей-«панов», которые угнетали предков белорусов (Легенди и паданни. Текст № 95). Впрочем, социальный (вернее, даже социально-политический) подтекст этой части записанного в 1920-х гг. предания слишком прозрачен.
[Закрыть].
Повесть временных лет сохранила иное волынское предание – об установившемся теперь и над дулебами аварском иге. «Обры, – повествует летописец, – воевали со словенами и угнетали дулебов, сущих словен, и насилье творили женам дулебским. Если ехал куда обрин, не давал впрячь ни коня, ни вола, но велел впрячь 3, или 4, или 5 жен в телегу и везти обрина, – так вот мучили дулебов. Были ведь обры телом велики, а умом горды…»[41]41
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 11–12; Т. 2. Стб. 9; Т. 38. С. 13–14. Далее автор «Повести» однозначно локализует дулебов на Буге (Т. 1. Стб. 12–13; Т. 2. Стб. 9; Т. 38. С. 14). Притча об обрах живет, по его словам, «в Руси». Предание, которое он использовал, могло быть, следовательно, только волынским или шире – восточнославянским, но никак не чешским или паннонским (а такие отождествления в отрыве от всего текста источника иногда делались).
[Закрыть]