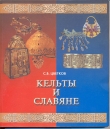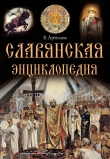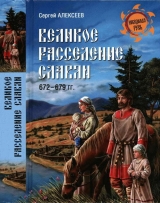
Текст книги "Великое расселение славян. 672—679 гг."
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Война с Франками
Западная граница королевства Само начиналась где-то в районе Рудных гор, к северу от Огрже, где встречались земли его северных соседей, белых сербов, и зависимого от франков Тюрингского герцогства. Дальше на юг земли, населенные славянами, охватывали всю долину Огрже и глубоко заходили на Верхний Майн. Трудно с уверенностью сказать, подчинялись ли все славяне по Майну Само. Если в его владения действительно входил район Кнетцгау, то его королевство довольно глубоко врезалось между Тюрингией и Алеманией (Швабией). Дальше на юг соседями Само являлись алеманны и бавары. Неясно, проходил ли здесь рубеж по большому Богемскому лесу, как в позднейшие времена Чехии, или западнее. Но в любом случае здесь граница резко забирала к востоку, обходя Баварию. Между Баварией и аварской Паннонией довольно узкая полоса земли в нынешней Нижней Австрии, по обе стороны Дуная, связывала северные владения Само с «маркой винидов» в Альпах. Местному владыке подчинялись большинство предков словенцев – кроме обитателей платившей дань фриульским герцогам Зильи. Истрия принадлежала, скорее, хорватам, и на подступах к ней земли Само заканчивались.
Вдоль всей приграничной полосы уже несколько десятков лет шло оживленное общение славян и германцев. В целом оно носило дружественный характер. Народы торговали, смешивались между собой. Случались, однако, и конфликты. В пору аварских нашествий и последовавших славянских восстаний на восточных рубежах германских королевств стало тревожнее. Впрочем, вину славян здесь едва ли можно усмотреть.
С приходом к власти Само проблемы разом не исчезли – хотя в Париже на это надеялись. Само в свое время лично прокладывал торговый путь в глубь земель «винидов». Но и при нем в приграничье на фоне мирной торговли и союзных отношений тем не менее периодически возникали какие-то «раздоры». Нередко (если не в большинстве случаев) виноваты бывали франки – и вину эту сознавали[342]342
Судя по поведению франкского посла Сихария, когда Само предложил ему эти «раздоры» в комплексе рассудить (Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368–369).
[Закрыть]. Едва ли торговля между сторонами всегда велась честно, да и пограничные споры могли случаться, особенно теперь, по достижении славянами независимости.
В 631–632 гг. один из конфликтов завершился трагически. Славяне перебили «большое множество» франкских купцов и «разграбили добро». О причинах франкский хронист предпочитает умолчать, но, судя по дальнейшему, погибшие сами были не совсем без греха. Дагоберт отправил к Само послом некоего Сихария, дабы тот потребовал «справедливого возмещения» за жизнь и имущество купцов. Само, однако, отказался принять посла Дагоберта – у него были собственные причины для обид на прежних соотечественников. Сихарий переоделся в славянина и со своими сопровождающими проник-таки пред лицо славянского короля. Здесь он изложил ему требования Дагоберта. Само в ответ предложил «устроить разбирательство, дабы в отношении этих и других раздоров, возникших между сторонами, была осуществлена взаимная справедливость».
Это франкского посла совершенно не устроило. Заметим, что и Фредегар, осуждающий дальнейшее поведение Сихария, приписывает логичное предложение Само «язычеству и гордыне порочных». По мнению хрониста (и франков), Само должен был просто заплатить то, чего от него требовали. Разозленный же Сихарий просто вышел из себя и обрушился на Само с упреками. В довершение «неразумный посол» стал грозить и утверждать, что «Само и народ его королевства должны-де служить Дагоберту». Фредегар особо подчеркивает, что ничего такого Сихарию «не было поручено говорить». Но, несомненно, подобные речи не раз звучали и при австразийском, и затем при парижском дворе франкского короля.
Само, встретив вслед за неуемной навязчивостью еще и откровенную наглость, начал закипать. С отчетливой угрозой, но внешне более чем учтиво он произнес: «И земля, которой мы владеем, Дагобертова, и сами мы его, – если только он решит сохранять с нами дружбу». Но забывшийся Сихарий не унялся. «Невозможно, чтобы христиане и рабы Божьи могли установить дружбу с псами», – заявил он. Само решил закончить разговор. «Если вы Богу рабы, а мы Богу псы, – изрек славянский король, – то, пока вы беспрестанно действуете против Него, позволено нам терзать вас укусами». С этими словами он велел выставить франка вон[343]343
Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368–369.
[Закрыть].
По большому счету, Сихарий легко отделался. Славяне соблюли право послов и обычай гостеприимства, невзирая на запредельную дерзость и самоволие посланца франков. Тем не менее этой милости разгневанный придворный не оценил. Дагоберту он передал весь разговор, рисуя, разумеется, поведение Само в черном цвете. Впрочем, Дагоберт был солидарен со своим посланцем в главном – Само должен был попросту возместить «ущерб», а не рассуждать по этому поводу. Равноправным «другом» франкский король славянского видеть не желал.
Дагоберт повел себя, даже по оценке франкского хрониста, «надменно» – без дальнейших разбирательств постановил начать войну. Франкский король не рассчитывал в собственном смысле слова захватить славянские земли. Его поход преследовал цели чисто разбойничьи – взыскать «ущерб», разграбив пределы королевства Само, и нанести тому максимальный урон[344]344
Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368–369. Так понимают изложение Фредегара и цели похода позднейшие авторы – составитель «Деяний Дагоберта» и пользовавшийся его трудом создатель «Обращения баваров и карантанцев» (Conversio 4: Свод IJ. С. 388; Gest. Dag. 27: Свод II. С. 389).
[Закрыть].
Вторжение предприняли с трех сторон. Главные силы по приказу Дагоберта составили его австразийцы. Они двигались по Майну и Огрже. По центру, дулебским краям в районе Богемского леса, удар наносили швабы во главе с герцогом Алемании Хродобертом. Наконец, с юга, из Фриуля в Норик, при франкской поддержке и за франкские деньги вторглись лангобарды. Одновременное и по сути внезапное нападение франков и их союзников застало Само врасплох. Он не мог организовать должное сопротивление сразу на всем огромном открывшемся фронте. Лангобардам и алеманнам на своих участках удалось одержать победы над славянами, «и большое количество пленных из страны славян увели с собой алеманны и лангобарды»[345]345
Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368–369. Автор «Деяний» заключил, что войском Австразии командовал сам Дагоберт. Из его единственного источника – хроники Фредегара – такой вывод никак не следует. Тот же автор пытается подменой слов затушевать корыстные мотивы лангобардов (см.: Gest. Dag. 27: Свод II. С. 389. Примеч. 44,48).
[Закрыть].
На пути главного, австразийского войска, встала славянская крепость Угоштьград (по-германски Вогастисбурк). Ее довольно трудно отождествить с конкретным пунктом из известных ныне – но все указывает на долину Огрже или верховья Майна, где несколько подобных названий известны[346]346
См. различные варианты: Mikkola 1928. S. 95–97; Grünwald R. Wogastisburk // Vznik a poCatky Slovanu. R. 2. Brno, 1958. S. 102–108; Kunstmann 1979. S 20–21; Třeštik D. Objevy ve Znojme // Ceskoslovensky ëasopis historicky. R. 35. £ 4. Praha, 1987. S. 571.
[Закрыть].
Град не являлся «столицей» Само – но резиденцией одного из подвластных ему лучанских жупанов, по имени коего (Угост) и был назван. Не исключено, что здесь находился центр земли лучан. Защищал преграждавшую франкам путь крепость «многочисленный отряд стойких винидов».
С налета град захватить не удалось. Австразийцы окружили его и попытались взять приступом. Бои продолжались три дня. Славяне сражались храбро и стойко. Австразийцы же, раздраженные поведением своего короля после переезда в Париж, участвовать в его завоевательной войне не слишком хотели. В итоге боевой дух славян взял верх над многочисленным франкским войском. Когда «многие» франки погибли, их соратники бросились в бегство, прочь от неприступного града. Славянам они оставили «все палатки и вещи, какие имели». Поход, успешный для союзников Дагоберта, для него самого кончился грандиозным провалом[347]347
Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368–371. Можно добавить, что сложные перипетии отношений Само с Дагобертом (популярным героем немецких преданий) отразились в позднейшем фольклоре. Южнонемецкая легенда XVIII в. о местной святой Нотберге превращает ее в дочь «доброго короля» Дагоберта, которой домогается «князь неверных вендов». Возникновение легенды может быть связано с алеманнами, участниками похода против Само, или с угнанными ими в Швабию славянами (Kunstmann H. Dagobert I und Samo in der Sage // Zeitschrift fur slawische Philologia. 1975. Bd. 38. № 2. S. 282–302). Об исторической основе (кроме самого факта существования «князя», с которым Дагоберт то сообщался, то враждовал) говорить не приходится.
[Закрыть].
Подданные Само защитили свои главные земли. Однако одной победы мало – и Само это понимал, особенно с учетом поражений на юге. Потому он не стал прекращать борьбу, а перешел в наступление. По всему пограничью теперь заполыхала война. Причем франки оказались в положении обороняющихся. Теперь-то они сполна познали цену посольского «неразумия» и королевской «надменности». Славянские отряды совершали набеги на все пограничные области, опустошая их. Особенно страдала от этих набегов зависимая от франков Тюрингия.
Агрессия Дагоберта против славян Само встревожила другие, доселе союзные франкам славянские племена. Победа же лучан и последующие набеги воинов Само на франкские земли вселяли уверенность, что за «королем винидов» сила. Князь белых сербов Дерван уже вскоре после начала войны разорвал союз с Дагобертом и «предался со своими людьми королевству Само». В итоге владения Само сильно расширились к северу, охватив междуречье Лабы и Заале. Опасность же для Тюрингии, вся восточная граница которой превратилась теперь в край войны, резко возросла[348]348
Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 370–371.
[Закрыть].
Сумел Само укрепить и только что пострадавшие южные рубежи своей державы – правда, с помощью не зависевших от него обстоятельств. Уже говорилось о том, что в год начала войны в Аварском каганате разразилась междоусобица. Болгарский хан Альцек, потерпевший поражение в борьбе за каганский титул, увел с собой вниз по Дунаю 9000 болгарских воинов с семьями.
Сначала Альцек попросил приюта у Дагоберта, видя в нем врага авар. Дагоберт расселил болгар на зиму в зависимой от себя Баварии. Однако он не доверял кочевникам. К тому же на восточной границе бушевала новая война, теперь уже со славянами. Ссориться с новоявленным каганом, сколь бы тот ни был ослаблен, Дагоберт не собирался. Потому «по совету франков» король приказал баварам коварно истребить болгар. Бавары, отягощенные постоем кочевников, с готовностью повиновались. Разведенные по домам болгары были в одну ночь перебиты хозяевами. От резни спасся лишь сам Альцек с семью сотнями воинов. Вместе с уцелевшими женщинами и детьми они бежали из пределов Баварии к врагам Дагоберта – славянам. Только что претерпевший от лангобардского вторжения владыка (Walluc y Фредегара) альпийской «марки винидов» охотно принял беглецов. Альцек, исполненный справедливой ненависти к франкам, оказался для него надежным и полезным союзником. «Много лет» он со своими воинами провел среди здешних славян, поддерживая их[349]349
Fred. Chron. IV. 72: Свод II. С. 370–371.
[Закрыть].
В 632/3 г. славяне «войском» обрушились на пределы Тюрингии. Находившийся в Австразии Дагоберт, получив эти вести в здешней столице Меце, спешно собрал свою рать и двинулся к границе. Ненадежное австразийское войско Дагоберт укрепил отрядом знатных воинов из Нейстрии (западной части королевства) и Бургундии. На переправе у Майнца короля, однако, остановило посольство саксов, плативших тогда франкам дань. Саксы предложили Дагоберту в обмен на освобождения от дани прикрывать границу и воевать с «винилами». Дагоберт согласился и прекратил свой поход. Но саксы просто использовали обстоятельства – против Само они то ли ничего вообще не предприняли, то ли не слишком старались предпринять[350]350
Fred. Chron. IV. 74: Свод II. С. 370–371.
[Закрыть].
В следующий год царствования Дагоберта, 633/4, Само организовал еще несколько набегов на Тюрингию и лежащие к югу от нее земли. Славяне в ту пору «сильно неистовствовали» по всей пограничной полосе. Тогда Дагоберт решился, наконец, удовлетворить чаяния обиженных на него австразийцев и назначить им собственного короля. Таковым стал его сын Сигиберт – под контролем местной знати. Это действительно дало некоторые результаты. Во всяком случае, австразийские аристократы стали больше внимания уделять защите восточной границы. Само уже не удавалось нанести на этом участке такой ущерб, как прежде[351]351
Fred. Chron. IV. 75: Свод II. С. 372–373.
[Закрыть].
В 634–635 гг. со славянами повел ожесточенную борьбу франк Радульф, поставленный герцогом Тюрингии. После «многих» битв ему удалось наконец разгромить отряды Само и Дервана, доселе безнаказанно пересекавшие тюрингскую границу. «Виниды» бежали и больше не беспокоили герцогство[352]352
Fred. Chron. IV. 77: Свод II. С. 372–373.
[Закрыть]. С этого времени о набегах славян не упоминается. Поражение в Тюрингии и укрепление австразийской границы заставили Само удовлетвориться достигнутым. Франков достаточно проучили. Однако ни о какой «дружбе» речи, конечно, идти больше не могло. Славяне Само и франки оставались врагами.
Война Само и Дагоберта, разумеется, не оставалась тайной для остальной Европы. За ней должны были пристально следить и из Константинополя, особенно с учетом выдающихся достижений славян за последние годы. В то время как Дагоберт терял союзников в Славянском Мире одного за другим, Ираклий предпринимал решительные меры к тому, чтобы теснее привязать славян к Империи.
Хорваты в пору войны с Само сохранили верность союзу и с франками, и с Византией. Желая закрепить этот союз, Ираклий через некоторое время после переселения их на Балканы затребовал из Рима проповедников христианства. Отправил их папа Гонорий (умер в 638 г.). Причины обращения Ираклия за священниками для славян в Рим понятны. Далмация всегда относилась к римской юрисдикции, да и сношения с Константинополем через Фракию и Македонию были теперь едва возможны. Ираклий организовал в балканской Хорватии церковную иерархию, назначив из числа прибывших архиепископа и епископа. Союзная ромеям хорватская знать благосклонно приняла проповеди римлян и крестилась. Ей последовал народ – или немалая его часть. Затем от тех же римских священников, доверившись убеждениям Ираклия, приняла крещение и большая часть балканских сербов во главе со своим князем[353]353
Предание о крещении хорватов и сербов при Ираклии излагает Константин Багрянородный (Константин 1991. С. 136–137,142–143, 152–153). Однако в случае с хорватами он явно смешивает два крещения – при Ираклии в VII в. и при князе Борне в IX. О последнем он пишет и в другом месте (Константин 1991. С. 132–133). Дата событий и личность папы определяются тем, что после смерти папы Гонория произошел разрыв императора с Римом. Любопытно, что в Летописи попа Дуклянина в связи с учреждением христианских законов князем Святополком (явный исторический прототип – Святополк Моравский, IX в.) фигурирует кардинал Гонорий (Шишиħ 1928. С. 302). В хорватской версии Летописи – «Хорватской хронике» XV в. – князем-крестителем выступает не Святополк, а некий Будимир. Это персонаж явно хорватских преданий, но к какому времени они восходят – неизвестно. В Хронике он просто замещает Святополка, который уже в Летописи смешан с каким-то местным князем (скорее всего, Борпой или Тршгмиром), утвердившим христианские законы на Дуванском поле. Достоверность сведений о раннем крещении славян Адриатики подтверждается посланием VI Вселенскому собору от папы Агафона (Свод II, С. 212). В Хорватии, вплоть до Истрии, со временем распространяются погребения с элементами местного христианского обряда. С этим связано появление могил с камнями в головах и ногах, а затем и с правильной обкладкой камнями или плитами (см.: Седов 1995. Свод II. С. 322–324). Признает далматинских славян христианами и Фома Сплитский. Правда, отождествляя завоевателей Далмации с готами, он считает их арианами. Так или иначе, он дает довольно справедливую, пусть и субъективную, оценку ранней стадии сербохорватского христианства: «И сколь бы ни были они злобны и необузданны, все же они были христианами, хотя и очень невежественными» (Фома 1997. С. 36–240).
[Закрыть]. Таким образом, свершилось первое обращение целых двух славянских племенных княжеств в христианство.
Событие это может считаться поворотным пунктом в истории славянства, и действительно, значимость его весьма велика. Однако переоценивать глубину этого первого обращения сербов и хорватов не следует. Впереди еще были целые века борьбы христианства и язычества, колебаний и массовых отступничеств. Сербская и хорватская знать, тем более массы народа, едва ли восприняли истины новой веры глубоко, едва ли отринули сам факт существования своих языческих богов. Для князей и жупанов крещение, обращение к Богу «греков», пока являлось просто еще одним знаком союза с Империей. Но было здесь и важное на будущее – преклонение перед явленными богатствами ромейской культуры, стремление к ее восприятию, сомнение в ценности язычества. Здесь со временем открывалась дорога к христианству истинному.
При крещении хорватов, по преданию, папа потребовал от них клятвы, что они «никогда не отправятся в чужую страну и не будут воевать, а, напротив, будут хранить мир со всеми желающими». Среди хорватов веками сохранялась легенда об особой молитве, полученной ими «от самого римского папы» – «если какие-либо иные народы выступят против страны самих хорватов и принудят их воевать, то Бог ранее самих хорватов вступит в бой и защитит их, а ученик Христа Петр дарует им победу»[354]354
Константин 1991. С. 136–137.
[Закрыть]. Во времена войны Само с франками и стычек в Далмации такая клятва являлась весьма уместной.
В 640 г. на римский папский престол взошел папа Иоанн IV, родом далматинец. Поборник ортодоксии, он не поддерживал сношений с Ираклием, искавшим компромисса с монофизитами под флагом так называемого монофелитства – учения о «единой воле» Христа. В то же время Иоанн не оставлял свою новую балканскую паству. Заботило его, правда, положение собственных соплеменников, далматинцев, ютившихся на островах и продолжавших воевать со славянами. Иоанну удалось добиться выкупа далматинских пленников и некоторой взаимной терпимости между хорватами и далматинскими беженцами. Сразу после восшествия на престол Иоанна в Далмацию и Истрию отправился специальный представитель папы – аббат Мартин. Ему было поручено выкупить на папские деньги пленников, захваченных славянами в здешних городах. Мартин нашел в опустошенных провинциях немало святых мощей и отвез их папе, поместившему их в римских соборах. Аббату удалось выкупить у славян многих рабов-христиан и вернуть их родне. Римский аббат оставил по себе добрую память у далматинцев[355]355
Documenta. 1877. Р. 277 («Книга понтификов»); Фома 1997. С. 38–242. Константин Багрянородный (Константин 1991. С. 136–139), однако, подробно описывающий миссию Мартина к хорватам и сообщающий о нем массу деталей, относит ее к X в. Мартин, согласно трактату «Об управлении Империей», приезжал к хорватскому королю Трпимиру II, современнику Константина, спустя «много лет» после Борны. Здесь уже вряд ли может идти речь о частых в хорватских главах хронологических смещениях. Однако Мартин Константина к тому же являлся мирянином и не был, кажется, официальным посланцем римского папы. Итак, вероятнее всего, речь идет просто о совпадении имен.
[Закрыть].
После прекращения военных действий кое-кто из салонитов вернулся в окрестности родного города. Но в самом городе они селиться не стали, боясь врагов. Следует иметь в виду, что южную часть округи занимали неретвляне, на которых папа никакого влияния не имел. К тому же из всех городских зданий к тому времени сохранился только театр в западной части Салоны. Многие сапониты перебрались далеко на север, в Задар, превратившийся теперь в столицу романского побережья. Славяне, в свою очередь, их не беспокоили[356]356
Фома 1997. С. 39–40, 243. Фома пытается убедить, что Задар и отстроили только тогда, после запустения, салонские беженцы.
[Закрыть].
Между тем мир установился и на севере славянских земель. Причиной тому стали смуты в среде самих франков.
Одержав победу над славянами и завоевав популярность среди тюрингов, герцог Радульф стал проявлять все больше самостоятельности. Когда в 639 г. умер Дагоберт, Франкское государство вновь оказалось поделено на части. Радульф отказался подчиняться малолетнему австразийскому королю Сигиберту и в 641 г. начал открытое восстание. Сигиберт, которому исполнилось лишь 11 лет, выступил против мятежника. Однако его попытки командовать самому вкупе с прямой изменой военачальников привели к поражению на реке Унструт. Король едва спасся.
После этого Радульф провозгласил себя независимым королем тюрингов. Хотя он и признавал «власть» над собой Сигиберта, но теперь это выглядело довольно издевательски. Одним из первых действий короля Радульфа стало заключение мира и союза со славянами Само[357]357
Fred. Chron. IV. 87: Свод II. С. 372–373.
[Закрыть]. Война в Тюрингии, приостановленная некогда полководческим талантом Радульфа, теперь закончилась благодаря его мятежу. Тюринги могли окончательно успокоиться насчет славянских набегов. Сербы же вновь получали возможность мирно расселяться в отныне независимом Тюрингском королевстве. После этого франки, занятые внутренними распрями, надолго оставили славян в покое. Само же, не начинавший эту войну, едва ли добивался чего-либо другого. Так что победа осталась за ним.
Война за Фессалонику
Война славян с франками и лангобардами не могла совсем не повлиять на события, происходившие дальше на юге, на Балканах и Адриатическом побережье. Она подтолкнула усилия по крещению хорватов и сербов. Однако, умиротворяя славянских соседей, Ираклий преуспел не вполне. Это стало ясно уже сразу после его смерти в 641 г. Славянские племена в течение нескольких лет активизировались на огромном пространстве от далматинских берегов до Халкидики.
Причины происходящего были достаточно очевидны. Вызрело новое поколение, родившееся уже на Балканах и не заставшее войн с Империей в сознательном возрасте. Это давало и значительный прирост населения – а развернуться в балканских горах было гораздо сложнее, чем на вполовину безлюдных просторах Восточной и Центральной Европы. Особенно это касалось плотно заселенных Македонии и Греции, где свободной земли острее всего не хватало. Взоры молодых воинов, строивших собственные семьи и надеявшихся пропитать их, невольно обращались к сочтенным их отцами за неприступные богатым ромейским городам и полям вокруг них. Стоит отметить, что владения славян во Фракии в ту пору уже подступали к самым предместьям столицы – город Виза примерно в 90 км к северо-западу от Константинополя считался пограничным[358]358
ЧСД 238: Свод II. С. 148–149.
[Закрыть]. С другой стороны, однако, – и это показали дальнейшие события, – часть имперского чиновничества и знати, особенно на местах, сама была готова спровоцировать войну. Империя в Европе, как надеялась эта партия, понемногу восстанавливала силы. Славяне же консолидировались, что само по себе внушало тревогу.
Южные славяне к этому времени и вправду стали лучше организованы. Не только союзные Империи сербы и хорваты создали мощные союзы племен. По всему Балканскому полуострову к югу от Дуная возникали славинии – славянские племенные княжества с довольно четкими границами[359]359
Термин «Славиния» част у Феофана (Свод II. С. 272–273, 278–279, 282–283,288–289). Однако появился он ранее IX в., еще в начале VII. Об этом свидетельствует его употребление Феофилактом Симокаттой (Свод II. С. 40–41) и в рассказе Виллибальда Эйхштеттского о поездке в Грецию (Свод II. С. 440). Франкские анналы в конце VIII в. употребляют аналогичный термин – «Склавания» – по отношению к полабским славянам (Свод II. С. 447,466–467). Все это свидетельствует о постепенном оформлении у славян представлений о своей территории как о «стране», о географической реальности с установленными границами. Анализу понятия «славиния» посвящена специальная работа Г.Г. Литаврина (Литаврин 2001. С. 518–526).
[Закрыть]. Где-то славиния представляла собой племенной союз. Где-то – отдельное большое племя.
На западе такими славиниями являлись Сербия, Хорватия и Дукля. В Македонии сложилось к середине VII в. два мощных племенных объединения – ринхины к западу от Фессалоники и струмляне к востоку от нее. Вместе они составляли союзные «части» «всего народа славян» в Македонии[360]360
ЧСД 232: Свод II. С. 144–147.
[Закрыть]. Названия союзов родились уже на месте и происходили от обтекавших Халкидику рек. Струмляне, или стримонцы, обитали на Струме. Главенствующим племенем здесь позже являлись смоляне. Поселения струмлян охватывали Фессалонику и с севера, ближайшее находилась в Литах, примерно в 12 км от города[361]361
ЧСД 280: Свод II. С. 166–167.
[Закрыть]. Ринхины жили по Вардару[362]362
О возможной идентификации его (или Галикоса) с рекой ринхинов см.: Нидерле 2002. С. 485; Свод II. С. 198. Примеч. 132.
[Закрыть]. Среди них главными были дреговичи, в свою очередь, делившиеся на несколько племен со своими князьями-«риксами»[363]363
Предводители осады Фессалоник ринхинами и сагудатами именуются «риксы другувитов» (Свод II. С. 156–157). При прямом (на наш взгляд, единственно возможном) понимании текста принадлежность дреговичей к ринхинскому союзу и лидерство в нем очевидны. К этой точке зрения склоняется и О.В. Иванова как к «одной из возможных гипотез» (Свод II. С. 202. Примеч. 168).
[Закрыть]. Из их числа выдвигался общий «рикс» (великий князь?) ринхинов – в середине VII в. им был Пребуд[364]364
ЧСД 231: Свод II. С. 144–145. Имя передано в источнике как Пερβουνδοζ, что породило версию о славянском «Первуд» (Византийки извори 1955. С. 199). Следуем древнерусскому переводчику (Свод II. С. 199. Примеч. 133), который, очевидно, неплохо владел славянской антропонимикой, и мнению болгарских комментаторов (Гръцки извори за българската история. Т. 3. София, 1960. С. 143).
[Закрыть]. В тот же племенной союз вошли и близкородственные дреговичам берзичи. Что касается их соседей сагудатов, то они сохраняли от ринхинов самостоятельность, хотя постоянно поддерживали их[365]365
См.: ЧСД 242–243,257: Свод II. С. 150–151, 156–157.
[Закрыть]. Славян Фракии объединял союз Семи родов во главе с северами. Велеездичи и другие расселившиеся в Элладе племена образовывали собственные славинии. Определение границ славянских княжеств, конечно, приводило к новым конфликтам с «греками».
Момент для нового наступления на уцелевшие осколки имперских провинций был подходящий. Империя вновь подверглась нашествию с Востока – на этот раз арабскому.
Вдохновляемые только что провозглашенным исламом, арабы стремительно расширяли пределы новой мировой державы – мусульманского Халифата. Под их натиском уже рухнули границы Сирии, Палестины, Египта. Ираклий, искавший поддержки на Востоке за счет уступок монофизитам, только добавил к внешней войне внутреннюю смуту. Его внук Констант II, вступивший на престол в 641 г., тщетно пытался остановить натиск нового врага.
Есть, впрочем, все основания думать, что воздействие на южных славян оказал и пример Само. Вступление лангобардов в войну Само с франками – даже без его усилий – вызывало цепную реакцию дальше на юг, по Адриатике. А нет оснований предполагать, что Само никаких усилий для отвлечения сил лангобардов не предпринимал. Активные и несколько поспешные меры Ираклия в Сербии и Хорватии указывают, что император ромеев ощущал некоторую угрозу. Во всяком случае, активизация южных славян началась именно с Адриатического побережья, и первыми ощутили ее последствия именно лангобарды.
Когда сербы принимали крещение, три приморских племени-жупы между реками Неретвой и Цетиной отказались креститься и сохранили верность старым богам. Они составили полунезависимый племенной союз неретвлян, или поганых (от латинского pagani – «язычники»)[366]366
Константин 1991. С. 152–153.
[Закрыть]. Хорошо освоившие мореходство, потеснившие со временем далматинцев на прибрежных островах, неретвляне стали жить не только обработкой своих угодий или морскими промыслами, но и пиратством. Главной целью морского разбоя стал захват рабов. Примеру неретвлян вскоре последовали некоторые южные соседи – союзные Византии, но не крестившиеся вместе с сербами дукляне, войничи в Эпире, велеездичи в Фессалии.
Об их образе действий позволяет судить эпизод с африканским епископом Киприаном, имевший место как раз в 640-х гг. Отправившись в Константинополь, он на корабле «приблизился к берегам Эллады» с эгейской стороны, в принадлежавшей велеездичам Фессалии. Здесь на судно напали «дикие славяне». Главной их целью был захват рабов. Всех находившихся на корабле взяли в плен и поделили между победителями. Пленников, в том числе и Киприана, славяне увели в «свои места» – примерно в восьми днях пешего пути от Фессалоники. Отсюда епископ спасся по чудесному заступничеству святого Димитрия Солунского[367]367
ЧСД 307–309: Свод II. С. 178–181. О хронологии см. там же: С. 210. Примеч. 244,245. При датировке исходим из последнего актового упоминания Фин, столицы епархии Киприана, в 649 г.
[Закрыть].
Со временем славяне перестали ограничивать себя налетами на проплывавшие корабли. Теперь они старались уже закрепиться на островах или даже на противолежащем лангобардском берегу Адриатики. Первые сведения об этом появляются сразу после смерти умиротворявшего здешних славян Ираклия.
В 642 г. «множество кораблей» славян (неретвлян или дуклян) появилось у побережья Беневентского герцогства. Они высадились близ города Сипонта (ныне Манфредония на полуострове Гаргано). Отсюда славяне двинулись на юг вдоль побережья и разбили лагерь у реки Офанто. Стан свой они защитили от возможной конной атаки «скрытыми ямами». Вскоре те пригодились – герцог Беневентский Айо во главе свой дружины напал на разбитый в его землях славянский стан. Славяне не вышли в поле, Айо же, ринувшись на штурм, угодил со своей кавалерией в ловушку. Когда лангобардские всадники провалились в ямы, славяне бросились на них и перебили в «немалом числе». Вместе с прочими погиб и сам герцог.
Вскоре после гибели Айо победители-славяне столкнулись с отрядом под командованием Радоальда, его названого брата и наследника. Радоальд приходился младшим братом покойным фриульским герцогам Тазо и Какко – тем самым, что взяли дань с Зильи. Потому он владел славянским языком и, вступив в переговоры с вождями напавших, сразу заговорил с ними по-славянски. Неожиданно зазвучавшая из уст врага родная речь усыпила бдительность славян. Они доверились Радоальду и отложили битву. Поняв, что славяне не ждут нападения, Радоальд внезапно бросил своих воинов в атаку. В происшедшем бою славяне подверглись «большому избиению», уцелевшие бежали к своим кораблям и покинули Италию[368]368
Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 44: Свод II. С. 486–487; Chronica s. Benedicti Casinensis // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX. Hannoverae, 1878. P. 487. «Хроника святого Бенедикта» ошибочно приписывает гибель в бою со славянами отцу Айо, Арихизу. Это объясняется пропуском Айо в списке беневентских герцогов.
[Закрыть].
Перешедшее и на Эгеиду пиратство вызвало растущее беспокойство в Фессалонике. Город почти три десятка лет поддерживал мир с окрестными славянами, и славянская знать свободно бывала в его стенах. Ринхинский князь Пребуд ходил в «одежде ромеев» и свободно владел греческим языком[369]369
ЧСД 235: Свод II. С. 146–147.
[Закрыть]. Но многие горожане полагали, что мир соблюдается «только внешне». Наместник Фессалоники, обеспокоенный соседством, решил обезглавить славян. Стремясь заручиться в этом деле поддержкой императора, он в 645 г.[370]370
Здесь и далее следуем в целом хронологическим расчетам А. Бурмова (Бурмов 1952. С. 203–204). Четвертая осада Фессалоники длилась два года и завершилась штурмом в 5-м индикте (647, 662 или 677 г.). Из возможных дат на войну с арабами падают 645–647 и 675–677 гг. Во втором случае под итоговым миром может иметься в виду мир Империи с жителями западных областей, о котором писали Феофан и Никифор (Свод II. С. 226–227, 274–275). Примерно так располагает события П. Лемерль (Lemerle 1981. Р. 128–132). Однако согласиться с этим трудно. Мир 678 г. последовал не за военным походом и победой имперского оружия (как в ЧСД), а безо всяких военных действий, что особенно подчеркивается хронистами. Лидерами заключавшей мир коалиции являлись авары, а в войне за Фессалонику, описываемой ЧСД, они не участвовали. Между тем отождествление А. Бурмовым описываемого в ЧСД ромейского похода (спустя долгое время после осады!) с походом Константа 658 г. вполне убедительно. Иначе трудно понять, почему поход, направленный действительно к Фессалонике и победоносный, не удостоился на страницах ЧСД ни единого упоминания. Автор ЧСД определенно рисует отношения славян с городом мирными со времен осады кагана и до ареста Пребуда. Хронология Ф. Баришича вообще не находит четких опор во внешних источниках и едва ли может быть принята. Он располагает события между 674–680 гг., исходя с очевидностью из того, что в иных памятниках они никак не отражены (Баришиħ 1953. С. 123–125). О хронологии и ходе арабо-византийских войн в VII в. см.: Большаков О.Г. История Халифата. Т. 2. М., 1993; Т. 3. М., 1998.
[Закрыть] отправил ко двору письмо. В нем он доносил, будто Пребуд «с хитрым умыслом и с коварным намерением злоумышляет против нашего города». Ничего достоверного наместник не знал, а оклеветал Пребуда, исходя из собственных представлений о славянской злокозненности[371]371
Об этом можно судить по восклицанию автора ЧСД при упоминании об отправке наместником послания: «Каким образом и чего ради?» (ЧСД 231: С. 144–145).
[Закрыть]. Пребуд вряд ли являлся беззаветным другом ромеев, но, во всяком случае, ценил их культуру и перенимал их привычки
Констант, готовившийся к тяжелой войне с захватившими Египет арабами, встревожился. В ответном письме эпарху Фессалоники он приказал каким-нибудь способом захватить Пребуда и прислать его связанным в Константинополь. На свою беду, ничего не подозревавший Пребуд в тот момент находился в стенах Фессалоники. Эпарх созвал на тайный совет согласных с ним представителей городской знати, и вместе они порешили захватить славянского вождя немедленно. Императорский приказ был исполнен. Пребуда внезапно захватили, заключили в оковы и спешно отправили в столицу[372]372
ЧСД 231: С. 144–145.
[Закрыть].
Предательство ромеев и коварный захват князя, естественно, всколыхнули славянскую округу. Впрочем, ринхины и струмляне пока не собирались воевать. Знать Фессалоники не была едина в нарушении договора. Большинство горожан совсем не хотело подвергать Фессалонику опасности уже четвертой славянской осады. В конце концов, под давлением славян разум в городе взял верх. Солунцы вместе с ринхинами и струмлянами отправили к Константу посольство. Его составили знатные славяне и «опытные» в пробивании городских интересов при дворе солунские граждане. Послы просили Константа ни в коем случае не убивать Пребуда, а «простить ему грехи и отослать к ним». Констант, занятый подготовкой к морскому походу в Египет, отделался от послов обещанием освободить славянского князя «после войны»[373]373
ЧСД 232: Свод II. С. 144–147.
[Закрыть].
Удовлетворяя требованиям послов, император приказал снять с Пребуда оковы, «предоставить ему одежду и все необходимое для повседневных нужд». Узнав от вернувшихся посланцев об этом, славяне отказались от мысли начать военные действия – при условии, что Пребуд будет освобожден[374]374
ЧСД 233: Свод II. С. 146–147.
[Закрыть]. Однако Констант еще даже не успел отправить свою экспедицию, как события вышли из-под его контроля.
Императору служил и был любимцем, как его, так и многих среди столичной знати, некий толмач, владевший имением во Фракии близ города Виза. Тесно общаясь со славянами, а может, и сам будучи славянином, он проникся сочувствием к судьбе Пребуда. Вместе они замыслили побег князя. Пребуд должен был, используя открывшуюся свободу передвижений, бежать в имение толмача, а оттуда тот его через несколько дней заберет и проводит в Македонию. Первая часть плана прошла вполне успешно. Пребуд, одеждой и языком неотличимый от ромеев, покинул Константинополь через Влахернские ворота и тайно поселился в условленном месте[375]375
ЧСД 234–235: Свод II. С. 146–147.
[Закрыть].
Констант, узнав о случившемся, пришел в ярость. Отвлеченный от своих приготовлений император расправился и с правыми, и с виноватыми. Охранников Пребуда долго пытали, некоторых затем зарубили, а особо заподозренных четвертовали. Другие отделались довольно легко – их всего лишь отстранили от должностей. В эту опалу попал и эпарх Константинополя, сосланный в Фессалонику. Отправив с ним боевой корабль-дромон, император «заботливо» велел тамошним жителям в связи с побегом Пребуда готовиться к войне – «позаботиться о своей безопасности, а также о запасах съестного». Повергнув Константинополь в панику, Констант запер все ворота, закрыл городскую гавань и разослал на поиски беглеца конников и корабли. Тщетный розыск продолжался посменно около сорока дней[376]376
ЧСД 235–237: Свод II. С. 146–149.
[Закрыть].
Пребуд в эти дни скрывался в тростниках близ имения толмача, подкармливаемый его женой. Имение располагалось не так уж далеко от столицы – неудивительно, что в итоге князя все-таки обнаружили. В принципе, Пребуд за время розысков мог бежать к соседним фракийским славянам, но его подвели то ли нерешительность, то ли верность данному слову. Рассерженный на так и не явившегося толмача или пытаясь отвести вину от себя, Пребуд по доставке в Константинополь сразу выдал сообщника. Толмача с женой и детьми убили. Пребуда же Констант вновь заключил под стражу, обещав, правда, потом отправить в Фессалонику[377]377
ЧСД 238–239: Свод II. С. 148–149.
[Закрыть].
Обещания, однако, Констант не сдержал – или сдержать его не было суждено. Императору донесли, что Пребуд снова замышляет побег. Констант, предупредив бегство, велел провести «тщательное расследование». Обозленный и отчаявшийся, Пребуд заявил, что «если вернется в свою землю, то совершенно не сдержит слова о мире, но, собрав все соседние племена, ни на суше, ни на море, как говорится, не оставит в конце концов места, не охваченного войной, а будет воевать непрестанно и не оставит в живых ни одного христианина». Удовлетворенный Констант велел убить славянского князя[378]378
ЧСД 240–242: Свод II. С. 148–151.
[Закрыть].
Война началась немедленно. Ринхины, сагудаты и струмляне договорились о совместном нападении на Фессалонику. Было решено, что славяне окружат город и будут тревожить его каждодневными атаками. С востока и с севера взялись нападать струмляне. Запад взяли на себя ринхины и сагудаты.
Кроме того, они же обязались посылать каждый день по три-четыре «соединенных корабля» из связанных ладей, чтобы отрезать горожан с моря и атаковать гавань[379]379
ЧСД 243: Свод II. С. 150–151.
[Закрыть].
Четвертая, самая долгая, осада Фессалоники славянами началась поздним летом 645 г., вскоре после отправки экспедиции в Египет. В 11 часов дня славяне одновременно и внезапно атаковали окрестности Фессалоники с востока и с запада. Они жестоко опустошили предместья. После этого ринхины и их союзники каждый день, сменяя друг друга, приближались к стенам то с одной, то с другой стороны. Они захватывали скот, не давали солунцам работать на полях, вконец разрушили предместья, заперли непрестанными налетами гавань, «непрерывно убивали и брали в плен». Вскоре славяне добились ожидаемого результата. В городе начался голод. Собственно говоря, произойти этого было не должно. Констант заблаговременно направил в Фессалонику припасы. Непредусмотрительные и корыстные городские чиновники, однако, тайно сбыли императорскую поставку заезжим купцам. Как раз вечером перед нападением ушел последний транспорт[380]380
ЧСД 243–245: Свод II. С. 150–151.
[Закрыть].