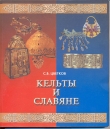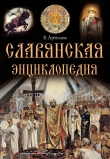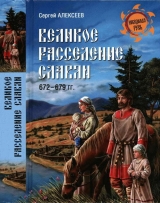
Текст книги "Великое расселение славян. 672—679 гг."
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Как и в среднедунайских землях – хотя и совсем в ничтожном количестве, – на Буге появились аварские наместники. Они наезжали в основные земли дулебов-бужан, в прежний центр племенного союза. Число их, повторим, было крайне мало, и едва ли они отдалялись от реки на восток. Но память о чинившихся ими насилиях крепко держалась еще спустя почти полтысячи лет.
После аварского завоевания, в первой половине VII в. (вследствие аварского погрома или племенных распрей), прекратилась жизнь на городище Зимно[42]42
Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. С. 16.
[Закрыть] – в стольном граде «Маджака». Бывший дулебский союз распался не на четыре, как можно было бы заключить по племенной карте X–XI вв., а на гораздо большее число независимых племенных «княжений». Совсем не обязательно «княжения», особенно на первом этапе, соответствовали целому племенному союзу. Более вероятно, что первоначально независимыми объявили себя все «малые» князья отдельных племен. Среди них, несомненно, древляне, дреговичи и поляне, – но также и берзичи, и жеревичи, и многие иные племена, забытые к моменту создания летописей, но известные источникам еще IX столетия. При этом многие из них еще сознавали свое дулебское единство (принадлежали к одному роду?) и продолжали титуловать себя «малыми» – как древлянские князья вплоть до конца своего племенного княжества.
В прямое подчинение аварам перешли лишь земли собственно бужан вдоль Западного Буга, где прежде стояло Зимно. При этом какая-то часть дулебской знати ушла от завоевателей на восток, в земли племенного союза лучан. По крайней мере, складывается ощущение, что автор Повести временных лет считал бужан (волынян) лишь территориальными преемниками древних дулебов. «Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне», – сказано в летописи[43]43
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 12–13; Т. 2. Стб. 9. Выше прямо говорилось, что бужане – прежнее наименование волынян (Т. 1. Стб. 11; Т. 2. Стб. 8; Т. 38. С. 13).
[Закрыть]. Потомками же, своеобразными наследниками дулебов числили себя, судя по известию Яна Длугоша, жители Восточной Волыни – лучане[44]44
Щавелева Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Я. Длугоша. М., 2004. С. 79–226 (дулебы «после стали зваться волынянами, а ныне – лучанами»). Упоминание лучан может принадлежать бывавшему в Юго-западной Руси, уже принадлежавшей Польско-Литовскому государству, Длугошу. Но непонятно, почему польский историк не удовлетворился упоминанием волынян. Этноним «волыняне» в XV в. был не менее понятен, чем вполне употребимое еще название «Волынь». Напротив, как отмечают польские комментаторы К. Перадска и Б. Модельска-Стрелецка (Dlugosz J. Roczniki czyli Kroniki slawnego krolestwa Polskiego. Ks. 1–2. Warszawa, 1961. S. 186), как раз название «лучане» нехарактерно для польских хронистов. Едва ли оно было сколько-нибудь известно в Польше. С другой стороны, в русских летописях обозначение «лучане» достаточно древнее. В Повести временных лет оно обозначает жителей Луцка еще под 1085 г. Заметим еще, что название «волыняне» там после вводной части не встречается. Итак, нет оснований полагать, что лучане не фигурировали еще в «летописи Длугоша». Рассказ ее о дулебах вообще полон оригинальных деталей. Это и внесение их в перечень племен, живущих «зверским образом», и произведение этнонима от мифического родоначальника Дулеба. Именование лучан прямыми потомками дулебов изначально не связано о приведенным в «летописи Длугоша» исключительно на основе Повести временных лет (причем разных ее фрагментов) отождествлением дулебов и волынян. Историческую основу соотнесения «дулебы – лучане» определить довольно трудно. С одной стороны, лучане жили на изрядном расстоянии от основных центров дулебской культуры в Побужье. Именно в Побужье располагался единственный протогородской центр корчакской культуры к востоку от Буга – городище Зимно, в котором логично видеть центр дулебской общности; там же локализует дулебов и Повесть временных лет. С другой стороны, бужан/волынян она, кажется, рисует как территориальных преемников побужских дулебов, но не как их прямых потомков и наследников. Сопоставляя данные «Баварского географа» о «луколанах» IX в. с древней устной традицией, отраженной в Повести временных лет и «летописи Длугоша», видим, что на территории Волыни существовало два сильнейших племени или племенных общности. Одна – бужане-волыняне, занимавшие Побужье, владела основными в прошлом землями дулебского союза племен. Но при этом и другая, лучане, числила себя общностью прямых потомков и наследников древних дулебов, хотя центр ее и находился восточнее. Историческую ситуацию, легшую в основу таких претензий, реконструировать с достоверностью невозможно. Но, вероятнее всего, ее корни – в обстоятельствах, приведших к распаду и гибели «дулебо-волынского» союза племен под ударами авар и вследствие внутренних усобиц в первой половине VII в. О русском летописном источнике Длугоша см.: Пашу то В. Т. Киевская летопись 123 8 г.// Исторические записки. Т. 26. М., 1948. С. 279; Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 25–29; Клосс Б.М. Русские источники I–VI книг Анналов Яна Длугоша // Щавелева 2004. С. 34–52; Алексеев СВ. Дописьменная эпоха в средневековой славянской литературе: генезис и трансформации. М., 2005. С. 202–206.
[Закрыть]. Этот племенной союз существовал к IX в. и являлся одним из сильнейших в регионе. В VII же веке какая-то часть и лучан была подчинена или пленена аварами – составив основу позднейшего чешского племени лучан. Дальше, однако, «обры» вряд ли продвинулись. «Дерева» на западе и полесская «дрегва» на севере без местной подмоги становились неодолимой преградой.
Если дулебы являлись пусть условными, но союзниками каганата, то другая племенная группа тогдашних восточных славян – анты – всегда находилась с каганатом во вражде.
Аварский каган готовил поход на антов еще в 602 г., но тогда тот прервался мятежом его подданных. Теперь, после краха ромейского могущества, анты, вчерашние союзники Империи, остались с аварами наедине. Возмездие за помощь ромеям должно было последовать неизбежно. И есть все основания считать, что оно последовало – до или после покорения дулебов.
Следов массового разорения и истребления антов нет[45]45
Это заставляет многих исследователей сомневаться в самом факте аварского нашествия и искать иные объяснения исчезновению антского имени из источников (см., напр.: Седов 1982. С. 28).
[Закрыть]. Но авары и не ставили это всерьез своей целью. Они нуждались в антских землях с населением, а не без. Следом обоснованной тревоги, охватившей антскую дружинную знать на рубеже VI–VII вв., остались, прежде всего, невскрытые клады Среднего Поднепровья – в том числе знаменитый Мартыновский, давший имя всей этой группе антских древностей[46]46
О датировке см.: Седов 1982. С. 25; Щеглова О.А. О двух группах «древностей антов» в Среднем Поднепровье // Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья. Курск, 1990; Гавритухин И.О., Обломский A.M. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М., 1996.
[Закрыть]. Оставшиеся в живых владельцы вещей бежали от авар в глубь левобережья либо дальше на восток – в союзную болгарскую Степь. Авары на несколько десятилетий оказываются западными соседями болгар приазовской Великой Болгарии, и хан Куврат вынужден вступить с ними в прямые сношения – на первом этапе враждебные[47]47
О соседстве и зависимости болгар от авар, завершившейся около 634–640 гг., прямо говорит Никифор (Чичуров И.С Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., 1980. С. 153–161). Неверие в возможность проникновения авар столь далеко на восток (Погодин А. Из истории славянских передвижений. СПб., 1901. С. 59–60; Чичуров 1980. С. 176) едва ли обоснованно (в частности, ничего «неясного» собственно в свидетельстве Никифора о падении аварского господства над болгарами не видится). О каком-то соседстве авар с независимыми на тот момент от них болгарами достаточно четко говорит Феофан (Свод II. С. 272–273) в связи с событиями 626 г. Тогда-то, в канун осады Константинополя, и был, вероятно, заключен «союз» авар и болгар, разорванный Кувратом в обстановке упадка Аварского каганата и отступления тюркютской опасности после 634 г. Таким образом, нет противоречия между упадком каганата после событий 626 г. и окончанием его довольно условного «господства» над болгарами в 630-х гг. Большинство исследователей в той или иной степени допускали возможность прямого толкования известия Никифора (Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. С. 179; Kollautz A., Mijakawa H. Geschichte und Kultureines vôlkerwanderugszeitlichen Nomadenvolkes. Kladenfurt, 1970. T. 1. S 159–160; Szadecky-Kardoss S. Uber die Wandlungen der Ostgrenze der awarischen Machtsphare // Bibliotheca Orientalia Hungarica, № 20,1975). До 626 г. Куврат являлся, как увидим далее, союзником Ираклия против авар.
[Закрыть]. Восточную границу продвижения авар в начале VII в. отмечает местное древнерусское название «Обров» на левобережье, в окрестностях города Переяславля[48]48
Упомянуто в «Поучении Владимира Мономаха» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 248).
[Закрыть].
Новое аварское нашествие поставило точку в более чем столетней истории антского племенного объединения. Оно окончательно распалось и исчезло со страниц источников. Последнее упоминание антов – кратковременное воскрешение титула «Антский» византийским императором Ираклием в новелле 612 г.[49]49
Свод I.C. 262.
[Закрыть] За этим упоминанием не стоит ничего конкретного. Пышная титулатура восточноримских императоров, от использования которой Ираклий вскоре вовсе отказался, являлась лишь следом неподкрепленных притязаний на наследие Юстиниана. Разве что можно с какой-то степенью вероятности допустить, что Ираклий уже тогда искал связей с сербами и хорватами в Центральной Европе. Равеннскому Анониму, писавшему на грани VIII в., встреченное у Иордана имя антов ни о чем не говорило, и он передал его как Itites[50]50
Свод II. С. 402, 405.
[Закрыть]. Так сошли со сцены большой истории племена, некогда державшие в страхе немалую часть Европы.
Впрочем, сами анты остались – просто потеряли свое политическое влияние. Они, как видно, сохраняли еще и свое забытое остальной Европой самоназвание. Некоторые из них, на левобережье и в лесостепном Среднем Поднепровье, либо сохранили независимость от каганата, либо быстро восстановили ее. Подобно дулебам, анты разделились на несколько племенных «княжений», практически не привлекающих внимания тех держав, что строили в Северном Причерноморье свою политику.
Участь же дулебов и антов, оказавшихся под аварским игом, отягощал не только аварский гнет. Стремясь обеспечить центр каганата податным земледельческим и ремесленным населением, а заодно сплотить разноплеменные провинции в единое целое, каганы и Восточную Европу вовлекли в водоворот своей переселенческой политики. Множество выходцев из антских[51]51
О выселении антов свидетельствуют многочисленные находки пальчатых фибул (Археология Венгрии. Конец II тыс. до н.э. – I тыс. н.э. М., 1986. С. 313).
[Закрыть] и дулебских областей, сорванных с родных мест, принудительно расселили на западе. Дулебы осели в пределах каганата целыми племенами – в Паннонии, в Норике и, прежде всего, в Южной Чехии, где стали основным населением. Поселяя чужаков-дулебов к северу от Дуная, в землях, пограничных с враждебным хорватским племенным союзом, каган укреплял, а не ослаблял этот участок рубежей своей державы. Выселяли для этой цели преимущественно боеспособных мужчин, которые женились на местных славянках[52]52
С этим, а также с более ранним выселением в Чехию хорватов может быть связана любопытная антропологическая деталь. По одному из ключевых генетических признаков – дерматоглифике (рисунку на кистях рук) – чехи-мужчины ближе к восточным славянам, чем даже болгары, и резко отличаются от других западных славян. В то же время женщины-чешки по этому признаку – определенно западные славянки. Хотя, как и польки, они ближе к восточным славянкам, чем женщины-словачки. Все западные славянки ближе к восточным, чем болгарки (Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 2002. С. 78). Это как раз легко объясняется историей славянского завоевания Балкан. Но особую близость чехов-мужчин к восточным славянам можно объяснить только с учетом существования чешских племен хорватов, дулебов и лучан.
[Закрыть].
Дулебы принесли в Чехию курганный обряд захоронения, дотоле на Среднем Дунае не известный. Он распространился у племен, подвластных каганату, – у заселивших большую часть Южной Чехии дулебов, у соседних с ними с востока мораван, у части северо-западных и восточных словацких «родов». В эту же группу зависимых от каганата племен вошли (или произошли от них) жившие к северо-востоку от дулебов зличане. Их регион с центром в Либице неглубоко, но врезался между чешским и собственно хорватским. Зличане сложились в результате смешения хорватов и продвинувшихся на север дулебов. Один из позднейших градов этих мест недаром носил имя Дудлебу. Отпадение зличан от хорватского союза, при небольших размерах их территории, являлось довольно значимым успехом авар. Он доказывал эффективность опоры на вынужденных переселенцев-дулебов. Именно от зличан восприняли позднее курганный обряд сами хорваты – единственные из враждебных аварам племен. Впрочем, давление авар привело к более плотному заселению в этот период не только юга, но и хорватского северо-востока Чехии. Среди переселенцев, конечно, были и беженцы из числа тех же дулебов[53]53
См.: Sklenar 1974. S. 274; Седов 1995. С. 312, 316 (карта).
[Закрыть]. Авары покорили и часть Чехии к западу от Лабы. Здесь, по Огрже до ее впадения в Лабу, они расселили зависимых от себя лучан[54]54
Старейший источник о расселении чешских племен – грамота, утверждающая границы Пражской архиепископии (Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. С. 152). На западе Чехии, наряду с лучанами, помещаются здесь дечане, литомержцы, лемузы. О времени появления всех этих племен с уверенностью говорить нельзя. Стоит отметить, что зличане здесь среди северных племен не названы, зато фигурируют «хорваты и другие хорваты». Стоит отметить, что Козьма Пражский не знал ничего о происхождении племени лучан и угадывает совершенно невероятное от латинского luca, «луг» (Козьма 1962. С. 49). Здесь он невольно попадает в точку – значение праславянского слова «лука» сходно, и оно родственно слову «луг» (ЭССЯ. Вып. 16. С. 148–150).
[Закрыть].
Следы присутствия переселенных аварами славян в Паннонии довольно многочисленны. Сначала славяне сохраняли верность исконному погребальному ритуалу – трупосожжениям, заключая прах в урны пражско-корчакского типа. Затем, на протяжении VII–VIII вв., можно наблюдать постепенное восприятие ингумации. В отличие от авар, славяне хоронили умерших головой к западу. Подобные захоронения отмечены на многих паннонских могильниках аварского времени (Орослан, Покасепетк и др.). Среди встречающихся в захоронениях славянских вещей – пальчатые фибулы, ритуальные ножи с волютообразной рукоятью. В свою очередь, паннонские славяне, как и сородичи в Поморавье, освоили гончарный круг и стали изготавливать посуду дунайского типа. Ассимиляции славян не произошло – при всем взаимодействии с аварами, романцами, германцами они сохраняли свою самобытность[55]55
Археология Венгрии 1986. С. 310—313; Седов 1995. С. 29.
[Закрыть].
Избыток славянского населения в среднедунайских областях, образовавшийся в результате переселений, позволил каганам использовать славян и для освоения иных земель. Часть таких переселений могла происходить стихийно, но другая, вне сомнения, являлась частью каганской политики. На юго-востоке в VII в. усилилось проникновение славян в населенные прежде гепидами и отчасти влахами земли Трансильвании. При этом приходят славяне вместе с аварами. Двигались они из Потисья или из Закарпатья, по реке Сомеш. По приходе они подселялись на уже существующие поселения гепидов и романизированных туземцев[56]56
Федоров, Полевой 1973. С. 300 (как пример – аваро-славянские элементы в гепидско-дакийском могильнике Бандул-де-Кымпиэ).
[Закрыть]. На западе славяне, носители аваро-славянской культуры, постепенно осваивают будущую Нижнюю Австрию[57]57
Седов В.В. Славяне в раннее Средневековье. М., 1995. С. 129.
[Закрыть].
Наконец, ко времени наивысшего могущества каганата в первых десятилетиях VII в. относится проникновение славян из Среднего Подунавья в верховья Майна. Здесь у впадения реки Регнитц, неподалеку от современного города Бамберг, известны урочище Кнетцгау, «винидский холм» Винидсхейм и «княжий град» Кнетцбург. Обнаружено множество фрагментов пражско-корчакской керамики – явное свидетельство существования здесь с первой половины VII в. славянских поселений[58]58
Там же. С. 133. Гипотеза о существовании здесь центра «государства Само» (Kunstmann H. Wo lag das Zentrum von Samos Reich? // Die Welt des Slawen. Halbjahresschrift für Slavistik. Bd. XXVI. Munchen, 1981. S. 67–101) нуждается в более весомых доказательствах. Неясно, в какой именно момент между VII и XIV вв. (позднейшая славянская керамика из Кнетцгау) появились «княжеские» топонимы. Четких следов княжеского «града» в данной местности, кажется, нет. Логичнее искать центр «державы» Само в Моравии, где градов в VII в. строится немало. Так, как увидим далее, обычно и делается.
[Закрыть]. Их возникновение могло объясняться бегством славян (лучан или их соседей) от аварского гнета под защиту противостоящего аварам Франкского государства, ближе к его границам. Выход на Майн мог быть и просто естественным следствием движения чешских «родов» вверх по Огрже – движения, которое, конечно, ускорилось и аварским натиском, и переселением лучан.
С другой стороны, имели место и обратные переселения славян из придунайских земель в Восточную Европу. Находки на Пастырском, в Зимно и на ряде других переселений свидетельствуют о присутствии здесь мастеров-ремесленников со Среднего Дуная. Они принесли на юг Восточно-Европейской равнины некоторые новые техники работы по цветным металлам, свой художественный стиль, типы украшений[59]59
Седов В.В. Славяне. М., 2002. С. 532–534. Приводимая здесь датировка переселения рубежом VII–VIII вв. исключается упоминаемыми находками в Зимно. Очевидно, следует датировать факт временем не позднее рубежа VII–VIII вв.
[Закрыть]. Среди этих переселенцев имелись и славяне. Мастеров, работавших на заказ, приводили с собой воины-авары.
Славяне, как мы видим, немало нового восприняли в свою культуру под властью каганата. В отношениях их с аварами на первых порах трудно увидеть явную враждебность. Славянские воины не только сражались вместе с аварами против общих врагов – прежде всего ромеев. Они, пусть вынужденно, бились и против собственных, славянских же, сородичей в подталкиваемых каганом распрях. Однако все это, разумеется, не свидетельствует о смирении славян с аварским игом, насильственным и унизительным, – скорее, в конечном счете это только усиливало чувство унижения.
Если же говорить о культурном взаимодействии, то оно происходило главным образом не с завоевателями, а с такими же завоеванными народами – романцами, гепидами. Следы тесных контактов с альпийскими романцами сохранились в праславянском языке. Происшедшие примерно в аварскую эпоху языковые заимствования широко разошлись не только в приальпийских землях, но по всему северном славянскому ареалу, вплоть до восточнославянских языков. Заимствования эти по преимуществу (но не исключительно) отражают взаимодействие в хозяйстве – растениеводстве, металлургии и т.д.[60]60
См. в «Этимологическом словаре славянских языков» (ЭССЯ): *xolča, «штанина, чулок» (Вып. 8. С. 56); *loktika, «салат-латук» (Вып. 16. С. 7–8); *męta, «мята» (Вып. 19. С. 16–17); *nagorditi, «наградить» (наиболее гипотетическое заимствование, из германского через предполагаемый романский – но, может быть, восходит к воинскому наречию каганата, как и пресловутые «бифульки»? – существительное *nagorda и другие однокоренные слова происходят от глагола) (Вып. 22. С. 51–52); *ocělъ, «сталь» (Вып. 32. С. 10). Раннее, но не ранее VII в., время заимствований разумно определять именно по наличию их в восточнославянских языках при отсутствии в болгаро-македонской группе.
[Закрыть]
Сокрушение аварами существовавших около века славянских племенных союзов само по себе подавило волю к активному сопротивлению у многих славян. Причины падения антской и дулебской племенных конфедераций для современной науки лежат на поверхности – прежде всего это сама их непрочная структура. Однако первое поколение очевидцев, славян-язычников, победа авар сама по себе заставляла видеть в завоевателях некую потустороннюю силу, борьба с которой бесполезна. Авары, разумеется, использовали в своих интересах и представления самих славян о ритуальных и общественных обязанностях любых покоренных перед покорителями. Это не исключало, однако, ни ненависти к «насильникам», ни пассивных форм борьбы – прежде всего тайной помощи противникам авар.
Об одном таком эпизоде, имевшем место где-то в приальпийских землях Норика после 610 г., рассказывает Павел Диакон. Его прадеда Лопихиза при разорении аварами[61]61
Итальянские народные предания Нового времени приписывают разгром Фриуля во времена «королевы» Ромильды (то есть в 610 г.) славянам (Brozzi M. Il ducato longobardo del Friuli. Udine, 1980. P. 125). Однако события здесь настолько сильно искажены, что и аварское вторжение могло запросто совместиться с позднейшими набегами славян. Достаточно сказать, что герцогиня Ромильда, сдавшая после гибели мужа Гизульфа столицу герцогства аварам, превращается в героиню сопротивления. Авары, разумеется, в проживших больше 1000 лет преданиях уже совсем не упоминаются.
[Закрыть]в 610 г. лангобардского Фриульского герцогства с другими детьми авары увели в Паннонию. Спустя годы ему удалось бежать из плена. Приют он нашел в каком-то славянском селении. «Когда одна женщина, уже пожилая, его увидела, то сразу поняла, что он беглец и страдает от голода. Движимая жалостью к нему, она спрятала его в своем доме и тайно давала ему понемногу еды, чтобы не погубить его совсем, если сразу накормит его досыта. Именно так, надлежащим образом, давала она ему пищу, пока, отдохнув, он не восстановил свои силы. А когда она увидела, что он уже в состоянии идти, то, снабдив его провизией, указала, в какую сторону он должен держать путь. Через несколько дней он вступил в пределы Италии и пришел к дому, где родился»[62]62
Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 37: Свод II. С. 484-^85.
[Закрыть].
Именно в эти десятилетия наивысшего могущества каганата в северные славянские диалекты входит слово «обры» – «авары». Оно на долгие века осталось обозначением мифических злых великанов, богоборцев, «варваров»[63]63
См.: ЭССЯ. Вып. 29. С. 128–129. Любопытно другое заимствование из тюркского, только в чешско-словацком ареале (уже VIII в.?) – *obsogь, «выгода» (ЭССЯ. Вып. 29. С. 251). Кажется, здесь отразилось представление об особой корыстности авар, как и в некоторых значениях слова «обрин».
[Закрыть]. Такое же представление мы находим запечатленным и в летописной притче об «обрах». Значения этого слова лучше всего характеризуют отношение славян к культурному и политическому «симбиозу» в рамках Аварского каганата. Установившееся аварское иго с самого начала вызывало всеобщую ненависть. Оно держалось только на представлении об исключительном могуществе завоевателей, сложившемся из-за их впечатляющих ратных успехов. Свержение аварского господства являлось делом времени.
Рождение южного славянства
VII век, время широкого расселения славян по всему Балканскому полуострову, положил начало истории южнославянских народов – болгар, македонцев, сербохорватов, словенцев. Складывание первоначальных южнославянских народностей и их культур происходило в условиях масштабных племенных передвижений и смешений. Источниками ему послужили различные этнические группы – как славянские, так и неславянские. Со славянской стороны прослеживается участие, помимо придунайских словен-дулебов и антов (составивших основу южного славянства), также выходцев из разных западнославянских областей. Из неславян свой вклад в формирующееся единство внесли местные романцы (влахи), иллирийцы, фракийцы. Все это отразилось как в языках, так и в материальной культуре древнейших южных славян.
Языки южных славян разделились в итоге на две ветви – болгаро-македонскую и сербохорватско-словенскую[64]64
Славянские языки. 2005. С. 18.
[Закрыть]. Языки западной ветви позднее обособились от общеславянского, что можно особенно четко видеть по судьбе языковых заимствований и новообразований. Десятки из них наличествуют в северных славянских языках и южнославянских западной группы, но отсутствуют в болгарском и македонском. Объяснение налицо – сербы и хорваты переселились на Балканы только во второй четверти VII в., а словенцы (хорутане) и позднее сохраняли теснейшие связи с западными славянами. Тем не менее различия между западной и восточной ветвями южного славянства глубоки изначально. Как увидим по археологическому материалу, они и в повседневной культуре были очевидны уже с первых десятилетий VII в.
Участие западных славян в сложении южнославянских народов нашло отражение в языковых параллелях (в том числе на уровне произношения отдельных звуков и звукосочетаний праславянского языка). Болгарский и македонский имеют такие схождения с западнославянскими, в первую очередь с лехитскими. Некоторые из таких схождений сближают эти языки славянского юго-востока со словенским (который в целом близок к западным). Все южнославянские языки близки в ряде черт с чешско-словацкими, причем словацкий (особенно среднесловацкие диалекты) показывает родство и с общими чертами южнославянских и восточнославянских[65]65
Славянские языки. 2005. С. 19.
[Закрыть]. Исторические объяснения таких связей столь же прозрачны. Переселенцы из ляшского региона участвовали в заселении и восточной части Балкан, и будущей Словении. Предки чехов и словаков тесно общались с южными славянами в рамках аварской сферы влияния, в том числе переселялись на Балканы вместе с аварами и без них.
Участие неславян проявилось в массиве словарных заимствований. Некоторые из них даже распространились на несколько южнославянских языков – те, что относились к самому раннему этапу завоеваний начала VII в. Их крайне небольшое количество[66]66
*cima, «верхушка» (из балкано-романского; ЭССЯ. Вып. 3. С. 195–196); *brъdoky, «латук» (из иллирийского или фракийского; ЭССЯ. Вып. 3. С. 67–68); *bъkъ, «открытый очаг, камень» (из иллирийского; ЭССЯ. Вып. 3. С. 115–116); *lętja, «чечевица» (есть и в древнерусском с XIII в.; вероятно, из балканских языков; ЭССЯ. Вып. 15. С. 63–65); *macěsnъ, «лиственница» (только в западной группе; предположительно из субстратного языка; ЭССЯ. Вып. 17. С. 112–113).
[Закрыть] свидетельствует о враждебных отношениях между славянами и местными жителями. Вместе с тем среди них есть весьма показательные – названия культурных растений (чечевица, латук), термин *bъkъ, обозначавший открытый каменный очаг (в отличие от обычной для славян печи-каменки).
С обоснованием славян на новых землях количество заимствований из местных языков резко возрастает. В болгарском это заимствования из греческого и местной народной латыни, а также выразительные балканизмы в самой языковой структуре[67]67
Славянские языки 2005. С. 73,97.
[Закрыть]. В македонском – еще большее количество структурных балканизмов и многочисленные заимствования из греческого[68]68
Славянские языки 2005. С. 107–108, 136.
[Закрыть]. Гораздо слабее балканизация в сербохорватском языке, но и здесь немало греческих и романских (а также древних германских) заимствований[69]69
Славянские языки 2005. С. 147–148, 192–193.
[Закрыть]. Наконец, в языке словенцев присутствуют многие слова романского и германского происхождения[70]70
Славянские языки 2005. С. 229.
[Закрыть]. Все эти заимствования охватывают различные сферы жизни, в том числе повседневной, не ограничиваясь, к примеру, неизбежно пришедшими с христианством церковными понятиями. Скажем, среди болгарских заимствований из греческого – пирон, «гвоздь», стомна, «глиняный (гончарный?) кувшин», хора, «люди» и т.д.; из романского – комин, «дымовая труба», маса, «стол», сапун, «мыло» и т.д. Рост количества заимствований, как и археологический материал, отражает начало мирного взаимодействия и взаимного смешения народов на балканской земле.
VII век беден письменными свидетельствами о славянском образе жизни. Это касается в равной степени всех групп славянских племен. Даже «случайная» информация на эту тему в источниках того времени крайне редка. Византийская «этнография» вместе со всей культурой пришла по сравнению со временами Прокопия и Маврикия в крайний упадок, а латинская еще не родилась. Единственное «этнографическое» упоминание о славянах – ставшая притчей во языцех их «нечистота» в перечне «О недостатках народов», который связывают с именем Исидора Севильского. Ничего, кроме известного еще с VI в. презрения цивилизованного писателя к невзыскательной жизни «варваров», мы из этой заметки извлечь не можем. Нет в ней, кстати, и чего-то специфически антиславянского – парой строк выше Исидор (?) поминает «пьянство испанцев», своих соотечественников, а на первом месте (славяне на предпоследнем) мы наблюдаем «зависть иудеев». Другое дело, что целому ряду «варварских» племен Исидор (?) не подыскал никаких положительных черт. Помимо славян – «жестоким» гуннам, «раболепным» сарацинам, «алчным» норманнам, столь же «нечистым» свевам и «тупым» баварам. У римлян же и у правивших Испанией готов он не нашел отрицательных черт[71]71
См.: Свод II. С. 355–357.
[Закрыть]. Как бы то ни было, этот памятник позднеантичной мизантропии полновесным источником нам не послужит.
Итак, при практическом отсутствии письменных свидетельств почти единственным источником данных о материальной культуре и общественном устройстве славян, в том числе и южных, становятся данные археологии. В южнославянском ареале в первой половине VII в. складывается четыре археологические культуры. На севере, за Дунаем, продолжает существовать культура Ипотешти. На землях бывших Скифии и Нижней Мезии развивается попинская культура. В западной и южной частях Балканского полуострова древности пражского типа в первых десятилетиях VII в. сменились так называемой мартыновской культурой, получившей название по находкам, близким к антскому Мартыновскому кладу. Наконец, на севере современной Албании в ходе взаимопроникновения славян и иллирийцев сложилась уже упоминавшаяся культура Коман.
Лицо ипотештинской культуры на протяжении VII в. практически не претерпело изменений – не считая некоторого возрастания доли славян, уже отмечавшегося. Оставшиеся на местах прежнего обитания дунайские словене продолжали хоронить своих умерших по древнему обряду кремации в грунтовых могильниках, с редким инвентарем[72]72
Седов 1995. С. 103.
[Закрыть]. Жители этих мест входили в сложившийся на землях Фракии союз Семи родов во главе с северами. По крайней мере, в IX в. «Баварский географ» знал «эптарадичей» (Eptaradici; от греческого επτα, «семь» и ραδικεζ, «корни» – «семь корней»[73]73
Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. М, 1993. С. 13–14. См.: Нидерле Л. Славянские древности. М, 2001. С. 484–485; Rudnicki M. Geograf Bawarski w oswetleniu językoznawczym // Z polskich studiow slawistycznych. Warszawa, 1958. S. 189; Дуйчев И. Блъгарско средневековие. София, 1972. С. 81–82; Kraliček A. Der sogenannte Bayrische Geograph und Mahren // Zeitschrift für die Geschichte Mährens. Brünn, 1989, Bd.2. S. 229. Ничем не хуже предполагаемое в ряде из названных работ происхождение и от славянского «-родичи» в сочетании с тем же греческим επτα. Использование греческого или грецизированного самоназвания было бы лишним свидетельством тесных взаимоотношений славян и аборигенов, правда, в этом случае относящимся уже к IX в., когда те в основной массе славянизировались.
[Закрыть]) к северу от Дуная. Не разделяет дунайских ел овен («дунайцев») по реке древнерусская Повесть временных лет, всегда говорящая о них как о едином целом[74]74
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6, 10, 11, 25; Т. 2. Стб. 5, 8, 9, 18; Т. 38. С. 12, 13,18.
[Закрыть]. Есть все основания полагать, что переход за Дунай не разрушил полностью племенного единства и союз Семи родов являлся прямым продолжением прежнего дунайского племенного союза.
Основные его центры, однако, теперь располагались к югу от Дуная, где осели северы и другие выселившиеся «роды». На захваченных ими землях ромейского диоцеза Фракия уже с конца VI в. развивается славянская попинская культура. Она сохраняет многие черты преемства с ипотештинской, но имеет и яркие особенности.
Основные памятники попинской культуры найдены на северо-востоке современной Болгарии, в придунайских областях Скифии и Нижней Мезии. Здесь в результате нашествий конца VI – начала VII в. образовалась территория, сплошь заселенная славянами, без существенных следов туземного населения или присутствия авар. В Нижнем Подунавье (Гарван, Попина и др.) археологами открыты неукрепленные поселения с квадратными полуземлянками. Близ поселений располагались могильники с погребениями исключительно по обряду кремации. Дальше на юг эти приметы славянской культуры уже несколько размываются. В центральных районах будущей Болгарии пришельцы чаще подселялись к местным жителям и использовали их могильники. Вместе с тем и здесь известны как поселения, так и могильники чисто славянского типа. На юге их ареал захватывает долину Марицы, не доходя, однако, до Эгейского моря[75]75
Седов 1995. С. 157–162.
[Закрыть]. Заселенные славянами земли к югу от гор Гема получили уже в то время название Загорье, или Загора.
Славяне попинской культуры жили, как и их сородичи к северу от Дуная, в полуземлянках площадью около 12 м2. В одном из углов дома располагалась округлая с внешней стороны славянская печь-каменка. Давшее имя культуре селище Попина занимает площадь 3700 м2 и включало 63 дома. Переселение «родов» различного происхождения ускорило разложение большесемейного и старого общинного уклада. Попинская соседская община состояла из отдельных дворов-домохозяйств. Около жилищ располагались связанные с ними хозяйственные ямы. Кроме того, на некоторых поселениях обнаружены вкопанные в грунт «цистерны» для воды[76]76
Въжарова Ж. Славянски и славянобългарски селища в Българските земи от края на VI–XI век. София, 1965. С. 115 и след.; Гимбутас М. Славяне. М., 2003. С. 140–141; Седов 1995. С. 157, 162.
[Закрыть]. Тем не менее еще и в Новое время большая семья у болгар распалась не вполне. Ее пережитком оставалась задруга – объединение родственных малых семей в хозяйственных делах. Но даже при распаде задруги малые семьи объединялись в «фамилии», а те – в «роды», наследники древних племен[77]77
Народы зарубежной Европы. Т. 1. М“ 1964. С. 340–341
[Закрыть].
Древности попинской культуры включают, прежде всего, керамику. Лепная посуда пражских типов постепенно уходит в прошлое, уступая место ипотештинской гончарной. На попинских могильниках ипотештинские сосуды, часто с волнистым орнаментом, уже в подавляющем большинстве. Но на поселениях преобладает лепная[78]78
Въжарова 1965. С. 183; Въжарова Ж. Славяни и прабългари по данни на некрополите от VI–XI в. на територията на България. София, 1976. С. 9 и след.; Гимбутас 2003. С. 140; Седов 1995. С. 157.
[Закрыть]. Это свидетельствует и о том, что основная масса гончаров-инородцев действительно ушла вместе со славянами за Дунай, и о том, что за Дунаем гончарный круг восприняли сами славяне. Использовали его, однако, в основном для изготовления ритуальной посуды.
И в попинских низовьях Дуная, и в долине Марицы находили пальчатые фибулы – свидетельство участия племен антского происхождения в заселении земель Фракии[79]79
Седов 1995. С. 159.
[Закрыть]. Одно из антских по корню племен – северы – хорошо известно нам здесь из письменных источников. Впрочем, на Марицу антские фибулы попали вместе со смолянами из западного переселенческого котла, также включавшего антов. Помимо этого, в поселениях и погребениях обнаружены предметы быта – железные ножи, ножницы, скобы, гвозди, остатки ведер, пряжки, а также украшения из бронзы. Из оружия встречаются только наконечники стрел. В целом металлических изделий сравнительно немного. Мастера по металлу на новых местах были пока немногочисленны, а их ремеслу еще предстояло развиться[80]80
Въжарова 1965. С. 182–183; Седов 1995. С. 157, 162.
[Закрыть].
Главными занятиями попинцев являлись земледелие и скотоводство. Охота играла вспомогательную роль. Судя по остаткам костей домашних животных, разводили в первую очередь крупный рогатый скот (чуть менее половины стада), далее шли свинья и мелкий рогатый скот. Развивалось и коневодство. Охотились на кабана – излюбленную дичь древних славян, – а также на серн, оленей, туров. Олень среди дичи в среднем даже преобладал, хотя кое-где предпочитали по-прежнему кабана[81]81
Въжарова 1965. С. 179,207–223; Седов 1995. С. 163.
[Закрыть].
Хоронили своих умерших попинцы, как уже сказано, по обряду кремации. Прах вместе с оставшимся после сожжения скудным инвентарем (остатки поясного набора, украшения) клали в глиняную урну и зарывали на глубину от 20 до 80 см. Курганов попинцы не строили. В более южных областях славяне могли перенимать от местных жителей ритуал трупоположения, но определенных доказательств этому нет[82]82
Въжарова 1976; Гимбутас 2003. С. 140; Седов 1995. С. 157–158. О преобладании среди славян кремации умерших позволяет судить случайное упоминание Феодора Синкелла (Свод II. С. 86–87).
[Закрыть].
Племена попинской культуры в основном – осевшая к югу от Дуная часть Семи родов. Земля смолян на Марице являлась пограничной между попинской и западнобалканской культурными областями. Таким образом, этнографическое деление южных славян в VII в. не вполне соответствовало описанному выше делению языковому. Скорее – римскому провинциальному делению. Македонские племена в целом не входили в попинскую культуру, охватывавшую преимущественно славян диоцеза Фракия.
Славяне Нижнего Подунавья находились в известной зависимости от Аварского каганата[83]83
Дельту Дуная каганат контролировал с 602 г. (Paul. Diac. Hist. Lang. IV.20) до прихода болгар Аспаруха (Патканов 1883). Именно с низовий Дуная пришли славяне, осаждавшие вместе с аварами Константинополь в 626 г. (по Феофану: Свод П. С. 272–273). То, что они, увидев истребление каганом соплеменников, покинули авар, на самом деле совершенно не доказывает, что они (как, например, по комментарию С.А. Иванова к Пасхальной хронике – Там же. С. 83) до того момента были от кагана независимы. Трактовать действия возмущенных славян как антиаварское восстание, а не как разрыв равноправного союза гораздо больше оснований.
[Закрыть]. Однако следов аварского присутствия и культурного воздействия среди попинцев практически нет. Семь родов сложились как самостоятельное племенное объединение – поставлявшее при необходимости кагану воинов, но управляемое собственными князьями«архонтами». Свой князь имелся у каждого вошедшего в союз «рода». У северы такой «архонт» Славун упоминается уже в VIII в., под властью болгар[84]84
Свод II. C.284–285 (Феофан).
[Закрыть].
О том, что власть в роду северских князей передавалась много лет по наследству вместе с родовыми именами, быть может, свидетельствует предание о «царе» Славе из «Апокрифической летописи» XI в. Слава якобы поставил сам пророк Исайя в качестве «царя» «куманам» (болгарам) после их переселения в Нижнее Подунавье. «И тот-то царь населил хору и грады. Люди же те в некоей части были поганые. И тот же царь устроил 100 могил в земле Болгарской; тогда нарекли имя ему “100 могил царь”. И в те лета было изобилие всего. И появились 100 могил в царствование его. И тот же был первый царь в земле Болгарской, и царствовал лет 100 и 14, и скончался». Только после этого летопись переходит к «царю Испору», то есть к правившему с 680 г. хану дунайских болгар Аспаруху[85]85
Иванов 1925. С. 282.
[Закрыть].
Слав «Апокрифической летописи» – явно персонаж топонимического предания, связанного с реальной местностью Сто Могил на северной, задунайской, периферии древнего Болгарского ханства[86]86
Иванов 1925. С. 282.
[Закрыть]. Устное предание (как и большинство преданий такого рода) не несло в себе никаких хронологических указаний. Не звучало в фольклоре, конечно, и имя библейского Исайи. «Летописец» мог хронологически расположить Слава перед болгарскими ханами, князьями и царями именно потому, что Слав, герой местного предания, выпадал из их последовательности и казался изолированным. Таким образом, однозначно видеть здесь отражение реалий доаспаруховой, «славянской» Фракии[87]87
Бешевлиев В. Началото на българската държава според апокрифен летопис от XI в.// Средневековна България и Черноморието. София, 1982. С. 39–40; Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 2001. С. 240. Как представляется, в реальности на примере Слава довольно рельефно вырисовывается характер дошедшей до «летописца» устной традиции – сугубо народной, внимательной более к топонимическим, чем к хронологическим и генеалогическим данным. Ни о предках, ни о потомках Слава ничего не сообщается. С другой стороны, становится очевидной вольность интерпретаций древних преданий богомильским автором, который «сшивал» их условно и притом безапелляционно, выстраивая в итоге совершенно фантастическое хронологическое и генеалогическое единство. Яркой чертой этого нового, отсутствовавшего в исходном материале единства является абсурдная в контексте и тогдашней исторической науки, и наших сегодняшних знаний хронология. «Летописец» искусственно завышает даже не сроки жизни, а сроки правления и легендарных, и вполне исторических персонажей. Можно было бы допустить, что в некоторых случаях мифические сроки правления давала сама устная традиция. Но едва ли они могли содержаться во всех до единого разрозненных, привязанных к местностям преданиях, зафиксированных «летописцем». Однако именно эта черта сообщает апокрифу черты «летописи». Одновременно она уподобляет его родословному преданию, не столько утраченному фольклорному, сколько ветхозаветному, – а следовательно, парадоксальным образом сообщает ему некую «достоверность» в глазах аудитории. Метод этот применялся в апокрифической литературе еще с рубежа нашей эры («Книга Юбилеев» и др.).
[Закрыть] все-таки рискованно. Историческим прототипом (или одним из прототипов) Слава, в принципе, мог быть и тот же известный нам Славун. Но, учитывая традицию «родовых» имен у славян, нельзя исключить за известным нам «архонтом» северов и после него длинный ряд князей со схожими именами. Беря в расчет становление в том же VII в. наследственной власти у других славянских племен, отрицать такую возможность не стоит.
В западной и южной частях Балканского полуострова (ромейской префектуре Иллирик) складывание славянской культуры проходило в три этапа. На первом этапе, на рубеже VI–VII вв., произошло расселение на западе Балканского Подунавья славян, относившихся к пражско-корчакской археологической культуре. Из них нам известны лендзяне в Далмации и мораване на балканской Мораве. Их древности продолжают развитие прежней культуры. Но в начале VII в. они перекрываются новым культурным типом, охватившим гораздо большие пространства – от Дуная до Фессалии включительно. Эта так называемая мартыновская культура сложилась в рамках того культурного симбиоза, который характеризует и культуру аваро-славянскую. Многими своими чертами она близка к ней. Развиваясь сначала параллельно с пражско-корчакскими древностями, затем она поглотила и сменила их. Окончательная смена, вместе с почти полным исчезновением аварского элемента, наступает на третьем этапе, который на основе данных письменных источников можно связать уже с приходом сербов и хорватов в 620–630-х гг. Именно тогда сложились и языковые особенности западной части южного славянства.
Древности первого, пражского, этапа появились на Балканах уже в VI в. В первой половине наступившего века по Адриатике и в южнославянском Подунавье отмечены немногочисленные следы принесшего их населения. Это могильники и отдельные захоронения с трупосожжениями, поселения с типично славянскими полуземлянками, расположенные в Хорватии, Сербии и Боснии. Еще один небольшой могильник с 15 трупосожжениями VII в., в урнах и без урн, найден в древнеэллинской Олимпии. Это след продвижения пражских племен на юг вместе с переселенческим потоком тех лет. Часть находок – на Неретве, в Олимпии, – сделаны среди развалин ромейских строений прежней эпохи[88]88
См.: Гимбутас 2003. С. 139–140; Седов 1995. С. 29, 129, 131, 157–158, 162, 321; Седов В.В. Славяне. М., 2002. С. 493.
[Закрыть].
Жилища югославянских пражан – те же известные по всему славянскому миру прямоугольные полуземлянки. В мораванской Слатине они отапливались печами-каменками, но в лендзянском (по всей видимости) Кршце – ямным очагом[89]89
Седов 1995. С. 29, 131.
[Закрыть]. В олимпийских захоронениях есть инвентарь, отражающий и соприкосновение похороненных с ромейской культурой, и их сравнительную зажиточность. Это не только железный нож и кольцо, но также стеклянный сосуд и еще неопределенное «изделие из голубого стекла»[90]90
Седов 1995. С. 158.
[Закрыть]. Почти во всех местонахождениях обнаружена лепная керамика пражских типов, но можно видеть, как ее сменяет гончарная дунайская[91]91
Гимбутас 2003. С. 139; Седов 1995. С. 29, 129, 131, 157, 158, 162.
[Закрыть]. Это явное следствие смешения с местным населением и с другими переселенцами из Среднего Подунавья. О первом свидетельствуют и находки отдельных захоронений-кремаций на местных могильниках[92]92
Седов 1995. С. 321.
[Закрыть].